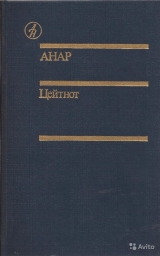
Текст книги "Цейтнот"
Автор книги: Анар Азимов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Я ходила в мечеть, Фуадик, раздала нищим деньги… Увидишь, все будет хорошо. Я дала обет…
На следующий день после возвращения ректора из командировки его опять вызвали с лекции. На этот раз повели к ректору.
В светлом просторном кабинете кроме ректора находились еще двое – декан Зюльфугаров и незнакомый Фуаду мужчина, у которого были седоватые волосы и седоватые же усы, умные, проницательные глаза.
И на этот раз Фуад подивился способности Зюльфугарова перевоплощаться. Важный, самоуверенный индюк, каким его знали на факультете, сейчас превратился в робкого замухрышку цыпленка: на губах – дурашливая, бессмысленная улыбка, глаза бегают – с ректора на седоусого, с седоусого на ректора, туда-сюда, туда-сюда; он то и дело потирал руки, словно ему было холодно.
Ректор смерил Фуада взглядом:
– Так вот он каков – герой! Дракон прямо-таки, черт возьми!
Все трое засмеялись. Громче всех – Зюльфугаров.
Фуад покраснел как рак, смутился. Подумал: «Издеваются над моим маленьким ростом». Идя сюда, он твердо решил: «Умирать – так с музыкой!» Решил, что будет вести себя смело и независимо, скажет то, что думает. «Выгнать решили – пусть выгоняют! Плевать!»
«Дракон… Я – дракон?» Он должен достойно ответить на это. Но не успел. Седоусый сказал:
– Детка, ты отзанимался уже? Все? Конец?
Фуад подумал: незнакомец дает ему понять, что вообще пришел конец его учебе в этом институте. Значит, исключили? Напрасно, выходит, Ася ходила в мечеть, тратила деньги, давала обет. Не помогло. Почувствовал, как лоб его покрылся холодной испариной. И вдруг, забыв, что он собирался держать себя с достоинством, смело резать правду-матку в глаза, выдавил из себя дрожащим голосом, почти с мольбой:
– Нет, нет… я хочу заниматься и дальше… Я хочу учиться в институте…
Незнакомец спокойно разъяснил:
– Детка, я имею в виду сегодня. Ты освободился уже?
– У них еще одна двухчасовка, – быстро вставил Зюльфугаров.
Седоусый тяжело посмотрел на него. Снова перевел взгляд на Фуада.
– Я думаю, декан позволит тебе… Хочу, чтобы ты поехал со мной.
– Конечно, конечно, – подобострастно заулыбался Зюльфугаров. – О чем может быть речь?
Седоусый пожал ректору руку. Зюльфугарову едва кивнул и, сделав Фуаду знак следовать за ним, вышел из кабинета.
На улице перед институтом седоусого ждала черного цвета машина марки «ЗИМ». Он сел впереди, рядом с шофером, жестом предложил Фуаду сесть на заднее сиденье. Машина тронулась. Седоусый упорно молчал. Лишь когда водитель притормозил у высокого, очень несуразного, по мнению Фуада, дома (Фуад знал, что этот дом строился по проекту Шовкю Шафизаде), сказал негромко:
– Вот мы и приехали. Пошли.
– Куда? – спросил Фуад, когда они вышли из машины.
– Ко мне домой. Приглашаю тебя к себе в гости. Или ты не узнал меня? Я – Шовкю Шафизаде. – И, весело, озорно сверкнув умными глазами, добавил: – Тот самый, которому так досталось от тебя!
В тот день Фуад впервые перешагнул порог их дома, впервые отведал кизилового варенья Бильгейс-ханум, впервые увидел Румийю. Но главное – в тот день он узнал Шовкю.
Когда Бильгейс-ханум подала чай, Шовкю спросил:
– Может, ты голоден? Сейчас мы попросим хозяйку, и она нам…
– Спасибо, я недавно обедал, – соврал Фуад.
Бильгейс-ханум вышла из гостиной. Они остались вдвоем. Шовкю не спеша, явно наслаждаясь хорошо заваренным чаем, делал глоток за глотком.
– Об этой истории я услышал только сегодня. Совершенно случайно. То есть узнал, что тебя немного обидели. Я тотчас сел в машину и поехал в институт. Думаю, что этот парень там натворил? Из-за чего весь сыр-бор? Попросил – мне принесли твой доклад. Я прочел его и сказал ректору: таких студентов не наказывать надо, а поощрять, награждать. Сказал: это написано талантливым, умным, грамотным молодым человеком с современным вкусом. Говорю: что, или у нас много таких? С какой стати, говорю, мы и нашу молодежь будем бить дубинкой по голове? Нет, говорю, у этого Фуада Мехтиева светлая голова. Ваш ректор – умный парень, все понял. Будь он в Баку, не допустил бы ничего подобного. Ну а пешки, сам понимаешь, рады стараться. Этот ваш декан… как его?.. На физиономии написано – подхалим. Опасные люди, учти, детка! На будущее учти. Такие утопят кого угодно в стакане воды. Я знаю их как облупленных. Пей чай, остывает.
Фуад слушал и не верил своим ушам. Он был словно во сне. Сидел как истукан, не мог слова сказать от смущения.
Шовкю продолжал:
– Фуад, детка, я двумя руками подписываюсь под каждой мыслью, под каждой фразой твоего доклада. Ты немного пощипал, покритиковал меня – правильно сделал. Молодец! Весьма уместно и своевременно. Наша партия осуждает культ личности. Биз дэ бурада, понимаешь ли, маленький культ в области архитектуры ярадырыг! – Эту фразу он произнес, мешая азербайджанские и русские слова. – Да, да, это тоже культ: нельзя, видите ли, критиковать Шовкю Шафизаде! Почему, спрашивается? Что – Шовкю Шафизаде упал с неба в золотой корзине? Или он – аллах, пророк? Полностью застрахован от ошибок? Фуад, детка, у меня нет сыновей, есть одна-единственная дочь… Так вот, клянусь тебе ею, я еще никому не говорил того, что скажу сейчас тебе: мне стыдно за девяносто процентов того, что построено по моим проектам.
– Ну, зачем вы так говорите? – вставил Фуад. – А ваша фабрика в Арменикенде?..
Шовкю перебил его;
– Да, от нее я не отрекаюсь. Я построил эту фабрику в тридцатые годы. Был тогда период конструктивизма. И еще – школа в Баилове. Помнишь? И все! Остальное – так, ерунда. Возьми хотя бы этот дом, вот этот, где мы живем. Клянусь тебе, милый, будь у меня возможность, я бы заложил под него динамит и – парт! – взорвал бы к чертовой матери! А что сделаешь?.. Таковы были требования, установки, таков был вкус у некоторых. Мы были вынуждены. Нам говорили: вокзал своим великолепием должен оставить в тени султанские дворцы! И мы строили. Ты думаешь, мы не понимали? Думаешь, мы не знали, что людям нужны не нарядные, кричащие фасады, не декоративные колонны, не величественные своды и коридоры, где можно заблудиться, а простые, компактные, удобные дома, как можно больше домов, максимум простой добротной жилплощади?!.. Еще гениальный Корбюзье сказал, что дом – это машина для производства жизни, так примерно… Максимум служить людям – вот что главное в доме! Мы должны стараться, чтобы эта машина была исправной и отлаженной, чтобы каждая ее деталь была на своем месте! Ничего лишнего! Никаких внешних украшений! Эстетическая форма – да! Но… не ослепительное бессмысленное великолепие ради великолепия! Иначе когда же мы решим жилищную проблему?! – Шовкю помолчал, затем продолжал: – Ничего, сейчас многое должно измениться. Я только что вернулся из Москвы. Ожидаются большие перемены. Подготавливаются серьезные мероприятия. Кое-кому будет дан хороший урок, в том числе и некоторым знаменитым архитекторам. Пока это строго между нами, но кое у кого отберут даже Сталинские премии, это я точно знаю. Ничего, пусть… Это пойдет только на пользу нашей архитектуре. И ты увидишь, сынок, что у старого Шовкю остался еще порох в пороховницах! Наверное, у тебя есть единомышленники среди твоих товарищей-студентов, прошу тебя, передай им: пусть оценивают деятельность Шовкю Шафизаде не по прошлым работам, а по тому, что он сделает в будущем. Считайте, я ничего еще не сделал!
Фуад многому научился у Шовкю, многое усвоил и перенял от него более чем за двадцать лет общения, но самое главное, пожалуй, среди усвоенного было умение жить без «вчера», жить так, будто вчерашнего дня вовсе не было и ты начинаешь все только сегодня – с утра.
В памяти Фуада от той их первой встречи осталась еще одна деталь – лауреатская медаль на груди Шовкю висела неправильно (очевидно, простая случайность): обратной стороной – наружу, лицевой – внутрь, к пиджаку; в те времена на стене гостиной уже красовался ковер с портретом хозяина дома и цифрой «50»; так вот, на ковре Шовкю был изображен тоже с лауреатской медалью, однако там все было в порядке: профиль на медали был виден четко.
Затем они перешли в кабинет Шовкю, огромный, залитый солнечным светом, на полу – ковры. Все четыре стены до самого потолка – в полках с книгами. Библиотека Фуада Салахлы, образно говоря, бледнела в сравнении с этим царством редчайших книг, толстых фолиантов, альбомов репродукций, представлявших творчество Корбюзье, Райта, Мис Ван дер Рое, Гропиуса, Жолтовского и других великих зодчих и теоретиков зодчества. Здесь Фуад увидел фотопортреты, книги, альбомы виднейших русских, армянских, грузинских, эстонских и прочих архитекторов – с их почтительными дарственными надписями хозяину дома. Шовкю, не меньше чем Фуад Салахлы, был в курсе проблем современной мировой архитектуры, знал ее течения, хорошо представлял себе ее возможности и говорил обо всем этом не хуже Большого Фуада.
– Фуад, детка, – сказал он, – повторяю, в архитектурной жизни ожидаются большие перемены. А у меня есть обширные планы на будущее. Мне нужны помощники. Одного я обрел сегодня, это – ты. Кого можно привлечь еще? Кого ты мог бы порекомендовать из своих товарищей-студентов, близких нам по духу, думающих так же, как ты и я? Кто мог бы работать с нами?
Фуад назвал Октая и еще нескольких ребят.
– А из институтских педагогов, преподавателей? Я плохо знаю их, но думаю, и среди них тоже есть близкие нам с тобой по духу, по мировоззрению – люди нашего с тобой вкуса. Наверное, когда ты готовил свой доклад для НСО, ты с кем-то советовался, кто-то воодушевлял тебя, направлял твою мысль, ведь так?
– Из институтских преподавателей самый близкий нам – Фуад Салахлы, – ответил Фуад.
Шовкю раздумчиво улыбнулся, словно вспомнил нечто приятное и далекое:
– Фуад – грамотный архитектор, но… – Он сделал небольшую паузу, докончил: – Как говорят русские, он – неудачник. Фуад Салахлы никогда не чувствовал пульса времени.
Бильгейс-ханум опять принесла им чай.
Шовкю продолжал:
– И еще, Фуад, детка, хочу сказать тебе одну вещь. Это – очень серьезно, не забывай этого никогда. Конечно, все – между нами. Этот ваш декан!.. Как его?.. Ну, фамилия?.. – Он прищелкнул пальцами.
– Зюльфугаров, – подсказал Фуад.
– Да, да, Зюльфугаров. Есть такая порода людей! Так вот, с одним таким Зюльфугаровым не справятся сто таких, как Фуад Салахлы, но один Шовкю Шафизаде превратит в лепешку, раздавит сотни зюльфугаровых! – Эти слова Шовкю произнес энергично, в них прозвучала откровенная гордость за себя, однако тут же понял: получается, вроде бы он хвастает; сменил интонацию, добавил, понизив голос, доверительно, мягко: – Все это я говорю тебе как сыну, Фуад. Надо быть сильным, детка, сильным! Мой покойный отец любил говорить: хочешь быть горой – опирайся на гору.
Когда Фуад уходил от Шовкю, был уже вечер, часов шесть.
На другой день в институте Зюльфугаров подошел к нему. Лицо его сияло.
– А, землячок! Поздравляю, поздравляю! Вышел сухим из воды! Рад, очень рад за тебя, клянусь твоей жизнью! Но запомни, земляк: осторожность украшает джигита. Как там отец, брат мой Курбан?
Фуад на всю жизнь запомнил все, что Зюльфугаров говорил ему в тот день.
Год назад Зюльфугаров, уже пенсионер, пришел к нему на прием с какой-то чепуховой просьбой. Фуад встретил его предельно обходительно, однако упорно говорил старику «ты», то и дело вставляя «земляк», «землячок», раз даже бросил: «Ай, безбожник!» Фуаду было так же просто исполнить то, о чем просил его Зюльфугаров, как, скажем, выпить стакан воды, но он сказал:
– Клянусь твоей жизнью, земляк, ты задал мне трудную задачу. Буду стараться, приложу все усилия, исключительно ради тебя, землячок, однако шансов у тебя маловато, вряд ли что получится.
Он проводил сконфуженного, стушевавшегося, исходящего потом, красного как рак Зюльфугарова до двери кабинета. Когда тот был уже за порогом, не удержался, сказал:
– Запомни, земляк: осторожность украшает джигита!
А тогда в институте все и вправду закончилось благополучно. Ася говорила:
– Аллах услышал мои молитвы, проявил милость.
Ася сдержала свой обет: раздала нищим возле мечети ползарплаты. А что она получала-то, господи!.. Дурочка Ася!.. Его восстановили в комсомоле. Те, кто сторонился его, снова стали приветливыми и ласковыми.
Но у Большого Фуада, у Фуада Салахлы, случилась неприятность: спустя месяц его уволили из института, «за пропаганду среди студентов вредных идей, пренебрежительное, нигилистическое отношение к современной национальной архитектуре и преклонение перед конструктивизмом и архитектурой Запада».
Глава шестая
Фуад посмотрел на часы и прервал Мир-Исмаила:
– Так, мне надо в аэропорт. Закругляйся, Мир-Исмаил.
Мир-Исмаил понимающе кивнул:
– В сущности, я уже…
– Хорошо, товарищи, тогда все. Можете идти.
Все вышли. Фуад вызвал Нелли:
– Позвоните, пожалуйста, в гараж, вызовите машину.
– Хорошо, Фуад Курбанович, сейчас, – пропела Нелли сочным, прекрасным и в то же время безнадежно холодным голосом. – Но там вас ждут, – кивок в сторону приемной. – Товарищ говорит, вы сами назначили ему время.
– Кто такой? У меня же нет ни минуты, я спешу.
– Это Октай Мурадов.
– Ах, Октай! – Фуад думал несколько секунд, затем махнул рукой: – Хорошо, пусть войдет.
В кабинет вошел Октай.
– Я вижу, у тебя все по-прежнему – собрания, совещания, заседания. Вереницы, караваны заседаний!
– И не говори, Октай. Действительно, вереницы заседаний – одно за другим. Здравствуй! – Фуад встал, протянул ему руку. – Присаживайся. Эх, давно хочу повидать тебя, но не так, а чтобы обстоятельно – сесть, поговорить по душам, посоветоваться. Нет времени. Но о встрече мечтаю. Проклятый цейтнот!
– Раз мечтаешь, значит, когда-нибудь увидимся – сядем, поговорим. – Октай усмехнулся: – С самим собой хоть встречаешься? Помнишь разговор?
– Вот смотри, – Фуад показал блокнот. – Ежедневно делаю пометку: встреча с самим собой. Наверно, и я понемногу чокаюсь.
– Пока не откажешься от бесконечных заседаний, встреча с самим собой не состоится. Одно исключает другое.
– Не скажи, Октай. Я вот, например, провожу заседание, люди говорят, а я не слышу их. У меня ежедневно бывает сто заседаний с самим собой, там, в душе. Внутренний голос не смолкает. А вот сосредоточиться, подытожить, сделать выводы, принять решение – не удается. Разумеется, не о работе говорю, в делах у меня полный порядок. Понимаешь, о чем я?
Октай кивнул.
Зазвонил телефон. Фуад поднял трубку.
– Да, слушаю… Нет, в два часа… Да… Похороны в четыре. Хорошо. – Положил трубку. В этот момент зазвонил другой телефон. Он сказал Октаю: – Ты видишь? И так – весь день. – Взял трубку: – Да, слушаю, товарищ Садыков… Хорошо, пришлем. – Положил трубку, сам набрал номер: – Мюрсал, пошлите справку в трест. На имя Садыкова… Не завтра – сегодня! Сколько раз можно говорить?! – И, не слушая ответа, дал отбой.
Октай сказал:
– Знаешь, Фуад, я много думал о природе активности такого типа людей, как ты. И я понял ее. Просто вы хотите убежать от самих себя.
Фуад нахмурился:
– Ты шел сюда, чтобы сообщить мне эту глубокую мысль? – И тотчас взял себя в руки. Нет, он не должен так разговаривать: раздражительность, обидчивость, злоречивость – признаки слабости, невезения в жизни; язвить может Октай, у него же, у Фуада, нет на это права; человек, руководящий людьми, должен уметь терпеть их недовольства, зависть, гнев, злобу, должен уметь почувствовать себя в их шкуре, дабы понять, что их гнетет и волнует, разгадать их самые сокровенные мысли и чувства, понять, разгадать и… нейтрализовать, найти выход из любого положения. Сказал: – Извини, Октай, я не хотел тебя обидеть.
Октай улыбнулся:
– И ты на меня не обижайся, Фуад. Конечно, это долгий разговор. Как-нибудь, иншаллах, выберешь время, и мы поговорим с тобой на эту тему.
Фуад смотрел на Октая: виски совсем поседели. «Бедняга, сильно сдал. Или это смерть Фуада Салахлы так подействовала на него?»
– Я пришел к тебе по другому делу, – продолжал Октай. – Ты же знаешь, сегодня мы хороним Фуада…
– Знаю. – «Мы хороним». Не стал говорить, что должен выступить с прощальным словом на траурном митинге. Октай тоже там будет, сам увидит. Печально вздохнул: – Бедный Фуад, жаль его…
Октай не поддержал эту тему, перебил:
– Мы хотели опубликовать в газете соболезнование – я, Асаф, Султан и еще несколько человек, его бывшие студенты, товарищи по работе. В редакции не взяли, говорят, места нет. Ты не мог бы помочь?
– Помогу.
Фуад снял телефонную трубку, набрал номер, с кем-то связался, переговорил, поблагодарил. Сказал Октаю:
– Все улажено. В редакции ждут текст. Идите давайте соболезнование. Что еще? Чем еще могу?..
– Большое спасибо. Я даже не думал, что это так просто. Мы вчера весь день бились, и сегодня – с утра, ничего не получилось. Ты сделал для нас большое дело! – Он встал.
Фуад жестом руки удержал его:
– Погоди, сядь. У меня есть еще несколько минут, успею встретить немецких братьев. Значит, даете соболезнование?.. Ты мне скажи, кто там еще? Ты, Султан, Асаф?..
– Джахангир и еще два товарища, ты их не знаешь.
– Впишите и меня.
Октай как-то растерялся.
– Но ведь ты… – Он умолк, подыскивая слова. Продолжал: – Ты же официальное лицо.
– Что с того? Да и вы ведь не будете писать полностью титулы, имена, фамилии. Октай, Султан, Асаф, Джахангир, Фуад… Кто знает, какой Фуад?
– Хорошо, пожалуйста… мы напишем… – без энтузиазма сказал Октай. – Только зачем это тебе? Да… – Он словно вспомнил что-то: – К тому же твоя фамилия уже стоит под официальным некрологом.
– Ну и что ж? Официальный некролог – это официальный некролог, а соболезнование семье дают близкие люди.
– Вот именно – близкие. – Октай был явно огорчен. Повторил: – Хорошо, пожалуйста, впишем твое имя, только не понимаю, для чего это тебе?
– То есть как это для чего? А вам для чего – тебе, Асафу, Султану? Конечно, бедному Фуаду Салахлы сейчас все равно… Но ведь и я тоже был его студентом.
– Верно, был.
Октай произнес эту фразу многозначительно, сделав ударение на слове «был».
Фуад почувствовал, как кровь запульсировала у него в висках. Тема, которой они неожиданно коснулись, была неприятна ему, но он решил: «Поставлю все точки над „и“ – раз и навсегда. Сейчас!»
– А в чем дело, Октай? – сказал он. – Кажется, тебе не по душе моя кандидатура? Кажется, вы не считаете меня достойным вашего дружного коллектива, а? Сейчас, наверное, думаешь: «Вот не повезло! Зачем, – думаешь, – обратились за помощью к этому Фуаду Мехтиеву? Зачем связались? Кто бы мог знать, что он начнет навязывать нам свое имя, свое соседство в этом соболезновании?» И теперь получается так: отказать мне вроде бы неудобно, но и видеть мое имя среди своих – вас не устраивает. Допустим, другие знать не будут, но ведь вы-то знаете, что за Фуад. Я это!
– Что с тобой, Фуад? Чепуху какую-то несешь.
– Нет, почему же? Иногда я люблю говорить откровенно. Часто мне просто недосуг объясниться по душам, нет возможности, нет времени. В сущности, и сейчас тоже… Но… как говорят русские, ради спортивного интереса… Мне любопытно: значит, когда надо помочь с публикацией соболезнования, Фуад Мехтиев хорош, а когда речь заходит о его имени рядом с вашими – здесь он недостоин?
– Ну вот, сделал доброе дело – и теперь начались попреки, да?
– Вовсе не попреки. Просто я вижу, чувствую… Так получается…
– Хорошо. – В голосе Октая прозвучала решимость. – Раз ты хочешь говорить откровенно, то и я буду откровенен с тобой. Дело не в том, что ты достоин или недостоин нашего списка. Сам понимаешь, это ерунда. Дело в том, что твое имя под соболезнованием жене Фуада Салахлы будет… как бы это сказать… словом, оно будет неуместно.
– Почему?
– Сам знаешь, почему. Ты ведь не забыл ту историю?
– Ага, вот в чем дело?! Это-то я и хотел знать. Но с тех пор прошло более двадцати лет. Даже самое тяжкое преступление прощается за давностью лет. А вы, ты и твои друзья, до сих пор носите в своих сердцах неприязнь ко мне, злобу! Между тем, я не совершил никакого преступления. Да, покойный Фуад Салахлы до конца своих дней не помирился со мной, так и унес с собой недоброе чувство ко мне. Но я всегда уважал его, чту и буду чтить память о нем. Ты – мой школьный товарищ, Октай, скажи: неужели ты и в самом деле веришь, будто Салахлы уволили из института из-за меня?
– Не знаю, Фуад… Но как бы там ни было, тогда все думали, что это ты продал его Шовкю.
– Тогда мне даже во сне не снилось, что я породнюсь с Шовкю. Верно, он восстановил меня в комсомоле, не дал исключить из института. Кстати, а где был ты, когда меня исключали из комсомола? Что-то ты не попадался мне тогда на глаза, как и Фуад Салахлы…
– Неправду говоришь! Фуад Салахлы в те дни из кожи лез, с ног сбился, чтобы помочь тебе. К кому он только не обращался – и в министерство, и выше! Что поделаешь, если у него не хватило сил. Это дело было под силу лишь Шовкю и таким, как он. Что же касается меня, то здесь память изменяет тебе. Я ведь в те годы не был членом комсомола: мой отец тогда еще не был реабилитирован.
– Ладно, Октай, что было – то прошло. Только давай раз и навсегда проясним этот вопрос. Запомни: я никогда никого никому не продавал! Да, тогда Шовкю пригласил меня к себе домой, он расспрашивал меня, и, кажется, я сказал ему, что Фуаду Салахлы в общих чертах была известна суть моего доклада на НСО. Но разве это была тайна? Разве Фуад Салахлы тогда или после того скрывал от кого-нибудь свое отношение к Шовкю? Все знали, что он терпеть его не может.
– Дело не в этом, Фуад. Дело совсем в другом. Ты ведь знаешь, как Салахлы относился к нам с тобой. Детей у него не было. Может, поэтому, а может, по другой причине, но он был для нас как родной отец, считал нас своими последователями. Тебя он любил даже больше, чем меня. Он был твердо уверен, что нам удастся сделать то, чего не смог сделать он, что мы с тобой реализуем его планы и проекты. Мы! И в первую очередь – ты, именно – ты! Так он думал. А ты… После того, как его уволили из института… Кто приложил к этому руку, как, каким образом это случилось, не знаю. Но после того, как его выгнали из института, ты ни разу не навестил его, не пришел к нему домой. Ты тогда сдружился с Шовкю. После того, как ты начал захаживать к Шовкю, Фуад Салахлы был забыт тобой. Словно ты никогда и не знал такого! Бедняга переживал, страдал из-за этого. Не мог понять, как человек может вдруг так измениться, все забыть – те наши разговоры, мечты, планы. Все забыть и так все растоптать! Помнишь, однажды мы засиделись у него чуть ли не до рассвета и Солмаз-ханум поджарила нам картошку?.. Как мы на нее набросились! А помнишь, как мы праздновали день рождения Фуада Салахлы? На столе только чай с лимоном – и ничего больше. Денег – ни у них, ни у нас. Начали выворачивать карманы, наскребли – что у кого было, скинулись, как говорится. Едва хватило на бутылку. Пили водку, закусывали лимонными корками, извлекая их из чайных стаканов. Помнишь? – Октай говорил, перескакивая с одного на другое, но это не были бессвязные воспоминания, в его словах имелась своя железная логика, понятная Фуаду. – И вот в один прекрасный день ты все это зачеркнул, попрал. Сдружился с Шовкю! Ты стал его… – Октай запнулся, наступила напряженная пауза; если бы он сказал сейчас «стал его зятем», Фуад выгнал бы его из кабинета. Октай закончил: – …стал его человеком. – Опять умолк, задумался, затем продолжил: – У Большого Фуада были трудные дни. Трудные – не то слово. Когда его уволили из института…
– Уволили из института! Уволили из института! – повторил Фуад, копируя интонацию Октая. – Фуада Салахлы уволили из института! Не понимаю, что вы сделали из этого знамя?! Да, Фуада Салахлы уволили из института, а через восемь месяцев восстановили. И даже, если я не ошибаюсь, выплатили зарплату за то время, что он не работал.
Октай угрюмо кивнул:
– Нет, ты не ошибаешься. Но восемь месяцев – это двести сорок дней, и значит – двести сорок ночей, Фуад. Двести сорок дней, двести сорок долгих, нескончаемых ночей, когда каждый час, каждая минута превращается в пытку.
Фуад усмехнулся:
– Браво, ты точно подсчитал. Месяцы быстренько превратил в дни. Не знаю, сколько тысяч часов, сколько миллионов минут составляют двести сорок дней, но ведь это время, в конце концов, прошло и Фуад Салахлы снова вернулся в институт – на свое прежнее место.
– Потому что он не сдался, боролся за правду и доказал свою правоту. Победил!
– Нет, извини, ошибаешься. Причины другие… Просто ему повезло. Вышло постановление партии о недостатках в области архитектуры, о нелепом украшательстве в зодческой практике. И Салахлы заявил, что он всю жизнь выступал против этого порочного стиля.
– Вот видишь, значит, истина все-таки торжествует.
– Торжествует. Именно поэтому ты должен знать, что совесть моя чиста перед памятью покойного Фуада Салахлы. Если хочешь знать, и совесть Шовкю тоже…
Октай перебил:
– Не надо, не говори этого, Фуад. Про тебя утверждать не могу, но вот Шовкю всю жизнь вредил Фуаду Салахлы. Он не дал ему стать архитектором-творцом, созидателем, практиком. Когда Фуад Салахлы занялся научной работой, Шовкю и здесь хотел помешать ему. Пытался опорочить, перечеркнуть его докторскую диссертацию, только не смог.
– Все это сплетни, Октай. Извини, тебе никак не подходит повторять их.
– Не обижайся, Фуад. Понимаю, Шовкю – твой тесть, отец Римы, однако я отвечаю за свои слова.
Фуад на мгновение испугался. Испугался, что Октай вдруг и в самом деле приведет достоверные факты, неопровержимые доказательства, и это создаст для него новую моральную проблему. Есть ли у него время, возможность заниматься этими старыми дрязгами? Особенно сейчас, когда Фуада Салахлы нет уже в живых. Кому это нужно? Для чего?
– Ну хорошо, Октай, не будем препираться. Если не хотите – не пишите мое имя под соболезнованием. Может, так будет лучше. Вдруг Солмаз-ханум не понравится, ведь она, наверное, и Шовкю и меня считает врагами своего мужа.
На это Октай ничего не сказал, встал, молча попрощался и вышел.
В памяти Фуада ожила сцена, которая давно не вспоминалась ему, которую он забыл, вернее, хотел бы забыть, однако не смог забыть окончательно. Это было в тот день, когда Фуада Салахлы восстановили на работе. Он пришел в институт, стоял в коридоре, улыбался, к нему подходили студенты, преподаватели, поздравляли с победой, а он, Маленький Фуад, не мог осмелиться и подойти к Большому Фуаду. Восемь месяцев они не общались, не разговаривали. Почему, ну почему он не подошел к нему тогда? Почему не смог подойти? В чем он, Маленький Фуад, был виноват перед Большим Фуадом? Почему, ну почему он боялся, что Большой Фуад не подаст ему руки и его, Маленького Фуада, рука повиснет в воздухе?..








