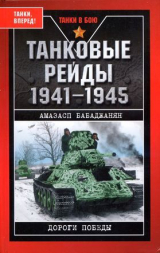
Текст книги "Танковые рейды"
Автор книги: Амазасп Бабаджанян
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Начиналась новая жизнь.
…Вижу себя четырнадцатилетним босоногим мальчишкой-чардахлинцем, по простоте душевной предпочитающим горные тропки торным тропам науки. А уж тропинки всех четырех гор, окружающих мои родные Чардахлы, знаю назубок.
Помню, как однажды на такой вот дорожке повстречался с Ервандом Мартиросяном, парнем из нашего села, которого все звали «Ерванд-комсомол». Был он всего года на три старше меня, но обладал большой физической силой. Самого меня природа обделила – я рос маленьким и щупленьким. Твердо верил, что лишь из-за физической силы избрали Мартиросяна секретарем сельской комсомольской ячейки, чтоб нагонял страх на богатеев.
Была она немногочисленна, эта ячейка, всего семь человек поначалу, потом в нее входило уже почти пятьдесят ребят.
Непросто это было в те годы в наших краях – вступить в комсомол. Многие родители не только не разрешали самим стать комсомольцами, но не позволяли даже общаться с членами ячейки.
Не будем забывать, где это было.
Кавказ… Смешение языков. Сотни народов и народностей, речей и вероисповеданий. Власть адатов и вековых предрассудков. И, как везде в первые годы Советской власти, непреодоленная инерция классового неравенства в сознании темных, невежественных жителей горных заброшенных сел.
Первый свет, первое слово ленинской правды принесли к нам в село бакинские большевики, рабочие, бывшие чардахлинцы, когда-то ушедшие на заработки в нефтяную промышленность. Еще в 1919 году они создали в Чардахлах подпольную большевистскую группу. В ней было всего девять коммунистов, но мусаватисты, дашнаки и прочие прихвостни буржуазии и помещиков знали их силу и влияние на массы. Как только в Азербайджане победила Советская власть, коммунисты организовали в Чардахлах батрацкий комитет и нашу комсомольскую ячейку.
Вот тогда и стал ее вожаком Ерванд Мартиросян. Его кулаков побаивались сынки богатеев, да и богатые папаши предпочитали не связываться с ним, обходили стороной.
Ерванд хорошо начал. Каждое воскресенье собирал молодежь – ремонтировали бесплатно дома бедняков, дороги, мосты.
Завоевали комсомольцы села добрую славу в округе. И показалось Ерванду, что это все он один, его личная заслуга. В мысли этой его укрепляли собственные большие кулаки. Ерванд не выносил, когда ему перечили. Нерадивых, как ему казалось, ребят воспитывал подзатыльниками, тумаками. А поскольку нельзя дать подзатыльника девчонке, зачем девушек и в комсомол принимать?
А девушек и так не пускали родители. Напоминаю, дело-то происходило на Кавказе.
И вот стою я на узенькой тропочке перед Ервандом Мартиросяном, смотрит он на меня тяжелым своим взглядом и цедит сквозь зубы:
– Почему тебя не было на последнем воскреснике?
– Ты мою сестру не пустил на работу, и я не пошел.
– Воскресник для комсомольцев.
– А почему моя сестра не может быть комсомолкой?
– Не бабское дело комсомол. А тебе, парню, стыдно, за бабью юбку держишься! Прочь с дороги!
Ну, вскипело тут у меня, конечно, А Ерванд только свои кулачищи сжал. Куда мне против него! Сознаю это вроде, а сам ни с места, как врос. Упрямый был, не лучше этого Ерванда.
И не выдержал Мартиросян. Плюнул для виду в обрыв и круто повернул назад.
Наверное, тогда я впервые понял, в чем истинная сила человека.
А Ерванд между тем продолжал упиваться своей властью. Дошло до того, что крестьяне стали жаловаться на него, а получилось так, что жалуются на комсомол. Потому вскоре приехал в Чардахлы секретарь уездного комсомольского комитета (укомола).
Бурное было собрание. Размахивая кулачищами, призывал Ерванд все «революционные» проклятия на головы «зарвавшихся интеллигентов», но это не помогло. Собрание проголосовало за снятие его с поста секретаря ячейки.
Новым вожаком сельской молодежи был избран Алексей Баграмов, младший брат будущего Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, тоже чардахлинца по происхождению. Алексей – умница, светлая голова, книжник. «Учиться» было его любимое слово. И вот уже все ребята ходят в вечерний ликбез – какую там «грамоту» давала приходская школа сельского попа Геворка! Многие посещают кружки политучебы. Оборудовали сельский клуб, возникла самодеятельность. Идут на сцене пьесы на злободневные сельские темы, драматурги – наши деревенские учителя.
Одна беда – и мужские и женские роли приходится исполнять парням. Нет девушек. Нет их почти и в комсомоле – родители не пускают, да и Мартиросян в свое время поспособствовал.
Тогда, помню, собрал нас Алексей.
– То, что не идут к нам девушки, наш позор, ребята. Значит, мы с вами не можем так себя с ними вести, чтобы они нам верили, чтобы уважение к нам имели. А откуда у них возьмется, если у нас к ним нет?
– Почему это у нас к ним нет? – зашумели ребята. – Как еще с ними обращаться, как с шахинями?
– Как с девушками, – спокойно отвечал Алексей.
– Но ведь ты сам твердишь: равноправие, равноправие. Как же с ними обращаться? – не унимался кто-то.
– Как с девушками, – твердо повторил Баграмов.
К концу 1923 года в нашей ячейке уже десять девушек. И они не только в самодеятельности играли, они были везде, были действительно нашими товарищами.
А в Новый год от нас забрали Алексея. Забрали на повышение – в укомол. И радовались мы, и печалились, прощаясь с другом. Но связь с Баграмовым у чардахлинских комсомольцев не прервалась.
Когда на прощальном собрании Баграмов сказал, что взамен себя рекомендует избрать секретарем Амазаспа Бабаджаняна, я не сразу поверил своим ушам…
– Меня? Но ведь и я, как Ерванд… – Нет, не кулаки я имел в виду. – Горячий…
Меня избрали. И было мне очень нелегко. Шутка сказать: уже почти сто пятьдесят комсомольцев в нашей – и ячейкой-то уже не назовешь – организации. Спасибо, помогали коммунисты.
Однажды позвал меня к себе секретарь партийной ячейки:
– Слушай, сынок. Не очень увлекайся администрированием. Комсомол – это демократия. Понял?
Я отлично понял, что он хотел сказать, хорошо знал все свои пороки как руководителя, хотя вовсе не понимал, что означают сами слова «администрирование», «демократия»… Куда уж там, окончил пять классов деревенской школы с грехом пополам. Может, и не из-за недостатка способностей, но из-за недостатков домашних определенно. Было в нашей семье ни много ни мало восемь душ детей…
Но еще одно иностранное слово пришлось мне усвоить в те далекие годы.
Такая произошла история. Во время очередной репетиции драмкружка, которая проходила на летней площадке, на сцену бросили дохлую кошку. Девушки наши разбежались, долго отказывались возвращаться в драмкружок, и мне, секретарю комсомольской ячейки, уговорить их стоило больших трудов.
Еще через несколько дней все село огласил душераздирающий вой осла. Люди выбежали на улицы, и их глазам предстала отнюдь не смешная картина: бедное животное металось в ужасе – кто-то подвязал к его хвосту пук соломы и поджег. Осла спасли, конечно, но сельчане расходились, ворча:
– Вот она, новая молодежь, а еще всякий там «комсомол» придумали…
Кто же мог творить такое, пытался догадаться я. Кто-то хулиганит, а виноват комсомол, то есть я и мои товарищи. А может, это «дачники»?
Они могли. «Дачники» – молодые люди, подавшиеся из Чардахлов в город, сыновья состоятельных родителей, которые на лето возвращались под отеческий кров. У сельских жителей считается само собой разумеющимся, что в разгар полевых работ все заняты делом, как-то не принято оставаться в стороне. «Дачники» же считали себя уже горожанами, сельский труд для них был делом низким, и они предпочитали «отдыхать» – буянить, устраивать гулянки и выпивки до поздней ночи. Такие гулянки, как правило, завершались какой-нибудь очередной «изобретательной» выходкой – вроде проделки с ослом.
Я решил проследить за ними. И вот однажды, когда уже стемнело, я увидел, что компания «дачников» поймала собаку, подвязала ей к хвосту пустую жестянку и с криками, гиканьем погнала собаку по улицам, швыряя ей вдогонку камни. Бедный пес обезумел, он бросался с пронзительным лаем из конца в конец села. Лай тут же подхватили остальные собаки, а их было много, как в каждой деревне. Начался такой «концерт», что хоть беги прочь из села.
А «дачники» стояли руки в боки и, довольные, хохотали вовсю. Тут пришел конец моему терпению.
– Останови собаку и отвяжи жестянку! – сказал я одному из «дачников».
– Еще чего! Слышите, братцы, что мне этот «начальник» приказал? А знаешь ли ты, комсомольский вождь, чья это собака? Попа!
– Останови! – твердо повторил я.
Раздался обидный смех «дачников». Их было трое, я один.
– Гляньте-ка, ребята, на это пугало! – завизжал один из них. По-городскому одетый франт, он издевался над моей чухой[4]4
Крестьянская одежда.
[Закрыть] с отцовского плеча.
Тут пришел конец и моей «секретарской» выдержке. Я нанес ему удар снизу вверх, он был намного выше меня, и удар пришелся в подбородок. Он опрокинулся навзничь, затем вскочил, бросился на меня, его дружки тоже. И плохо бы мне пришлось, если б не сбежались люди, не растащили нас.
Об этой драке я бы, может, и забыл, если б не последующие события. Избитый «дачник», обвязанный полотенцем, и его дружки явились на следующий день на комсомольское собрание, потребовали, чтоб им разрешили сделать «важное заявление».
– Вот видите, – указав на обвязанного полотенцем, сказал один из них, – это дело рук вашего вожака. Он его избил вчера. А за что? За собаку. Собака ему дороже человека. И чья?! Попа сельского. Отца Геворка.
– А ты что, выбирал, какой собаке банку привязывать? – выкрикнул кто-то в зале.
– Но собака поповская. А кто из нас у попа в классе не слышал: «идиотик», «ослиная голова» и прочие приятные вещи?
Что тут поднялось! Одни кричали:
– Да, наш поп такой, так ему и следует!
Другие:
– А при чем тут бедная собака, она в религии не разбирается!
Больше всех кричал пострадавший «дачник», даже полотенце с себя сорвал:
– Поп Амазаспу благодарность выразит, в молитве его помянет! Религия – опиум для народа!
– Тихо! – перекрыв дикий шум, раздался зычный голос секретаря нашей партячейки. Неизвестно, когда он заглянул в школьный зал, где шло собрание, и примостился где-то в последнем ряду. Сейчас он быстрыми шагами приближался к сцене. – Тихо! – повторил он. – Как ты сказал? – обратился он к пострадавшему. – «Религия – опиум для народа»? Да кто тебе право дал великие эти слова для своей выгоды использовать? Знаешь, как это называется? Демагогия. Де-ма-го-ги-я, – повторил он по складам. – Понял?
«Пострадавший» стал опять заматывать лицо полотенцем.
– Не позволим, – твердо сказал секретарь партячейки. – По-моему, ребята, здесь все абсолютно ясно, и пора закрывать этот вопрос. Глупая дискуссия.
– Правильно! – закричали с мест. – Амазасп, веди собрание дальше! Пусть посторонние удалятся!
«Дачники» удалялись, опустив головы. Первое серьезное сражение было выиграно.
Летом 1925 года меня вызвали в уездный комитет комсомола. Ехал туда я и по пути придумывал себе разные оправдания: уверен был – вызывают из-за истории с «дачниками». Но секретарь укомола, наш Алексей Баграмов, оглядел меня внимательно и объявил:
– Ну, воин, решили послать тебя на учебу. Возражений не предвижу: парень ты толковый, нашему делу преданный. Тебе остается только один вопрос: куда? Есть две комсомольские путевки – на рабфак и в военную школу. Что выбираешь?
– Военную школу, – не задумываясь ответил я. Да и мог ли по-другому: в нашем краю о военных всегда говорили с чувством высочайшего почтения, издревле жило представление о воине как о человеке доблести, рыцаре-заступнике. А двоим моим родственникам с материнской стороны удалось выбиться из голытьбы в офицеры русской армии: дядя стал штабс-капитаном, георгиевским кавалером и погиб в Первую мировую, а брат моего деда дослужился даже до генерал-майора и вышел в отставку еще до 1914 года.
– Ну и отлично, – одобрил Баграмов. – Получишь сегодня рекомендательное письмо в ЦК комсомола Армении. И завтра же в путь.
Путь предстоял в Ереван, где находилась одна из военных школ, располагавшихся в Закавказье. Я говорю – одна, потому что в то время в каждой из Закавказских республик – в Армении, Азербайджане и Грузии – была своя военная школа, где обучение велось на местном языке.
Итак, я собрался в Ереван – Эривань, как он тогда назывался, – в город, где я сроду не бывал и, конечно, не имел ни единого знакомого человека. Мать, посетовав, что сын покидает отчий кров, и вдосталь поплакав, достала из-под спуда затертую трехрублевку – деньги, вырученные за шкуру нашей старой коровы. Это был весь наш наличный капитал.
Но билет до Тифлиса, а прямых поездов до Эривани не было, стоил, помнится, целых два рубля двадцать копеек. Такую роскошь я себе позволить не мог и отправился, разумеется, зайцем. Избрал для этого товаро-пассажирский поезд, неизвестно за что кощунственно названный «Максим Горький». Забрался на третью полку, спрятался там между чьими-то мешками-хуржинами и затих.
Целых шестнадцать часов полз наш поезд до Тифлиса, а езды-то настоящей было, наверно, часа четыре. Все эти шестнадцать часов я сидел между мешками действительно как заяц, боясь шевельнуться, вздохнуть.
Страшно обрадовался, что мне удалось перехитрить кондукторов – сберечь свои три рубля, – и твердо решил продолжать и дальше путь зайцем. Забрался на тормозную площадку вагона какого-то товарного поезда, идущего в сторону Эривани, и был через два часа, сонный, снят оттуда кондуктором и передан милиционеру, который, крепко держа меня за руку, доставил в помещение пункта железнодорожной милиции.
Дежурный по пункту – пожилой человек с густыми черными усами – внимательно оглядел меня с головы до пят, взялся было за перо, но потом отшвырнул его в сторону.
– А ну, парень, признавайся, куда едешь и почему без билета?
Я сказал сразу правду и неправду: дескать, хочу учиться, а денег нет ни копейки.
Дежурный еще раз внимательно в меня вгляделся. Сначала усы его угрожающе поползли вверх, но когда взгляд его опустился вниз и на глаза ему попались мои деревенские чарыки, привязанные на манер русских лаптей, усы тоже опустились в миролюбивое положение.
– Отпустите! – бросил он приведшему меня милиционеру.
– Так ведь он опять… – начал было милиционер.
– Отпустить! – перебил его дежурный и отвернулся.
– Дяденька, больше не буду, – на всякий случай скороговоркой выпалил я, шмыгнул за дверь и через час снова дремал на тормозной площадке очередного товарняка.
К вечеру второго дня я наконец прибыл в Эривань. Благополучно переночевав в городском саду, почему-то громко именовавшемся «английским парком» (от этого спать на садовой скамейке было не мягче и не теплее), наутро стоял перед проблемой, куда идти: у меня на руках было выданное Алексеем Баграмовым направление в Эриваньскую военную школу и им же подписанное письмо-ходатайство в ЦК комсомола Армении. Погадав недолго, я предпочел идти прямо в школу, тем более что меня уже грыз проклятый голод, за несколько дней в пути я успел порядочно отощать – старался тратить свой скудный трехрублевый капитал как можно более расчетливо.
Расспросив прохожих, не без труда добрел до нужного места – забора с железными воротами и красной звездой над ними. В воротах возвышался часовой с винтовкой в руках, в шинели, один вид которой вызывал у меня великое почтение. У часового же мой вид вызвал, видимо, только чувство презрительного снисхождения.
– Э-эй, – протянул он насмешливо, – езжай, парень, восвояси, прием в школу закончен десять дней назад…
– Но послушайте…
– Прием закончен десять дней назад.
Тут я взбеленился:
– Пусти меня к начальству!
Рванулся в проходную, пытаясь оттолкнуть часового.
– Что-о-о! – крикнул он. – Назад!
И я увидел направленный прямо на меня штык. Аргумент был слишком убедительным. Я только плюнул перед собой и повернул вспять.
– Иди-иди! – раздалось мне вслед. – Шляются тут всякие!
Я показал моему обидчику кулак и, задыхаясь от обиды, повернул обратно. Шел я, не разбирая пути, думая лишь о том, что, если действительно прием окончен десять дней назад и часовому даны полномочия, чтобы в опоздавших штыком тыкать, тут уж никакой ЦК комсомола не поможет, не стоит туда, наверное, и ходить…
Ноги мои от усталости и голода заплетались, но тут до носа донеслись такие возбуждающие, аппетитные запахи поджаренной баранины, что я, забыв обиду, поднял голову и увидел, что забрел на знаменитый ереванский базар – гантар.
Давно уже нет в нынешнем Ереване гантара, снесен, застроен современными городскими кварталами. А тогда это была огромная площадь – настоящий восточный рынок. Здесь торговали всем, что только можно себе представить.
Но, не обращая внимания ни на что другое, я брел прямо туда, откуда несся пьянящий запах шашлыка и котлет. Чуть не качаясь, отсчитал продавцу несколько монет за пару крошечных котлет и, обжигаясь, так быстро проглотил их, что даже стал оглядываться, куда эти чертовы котлеты подевались.
Пришлось купить еще одну котлету. И хотя лишь заморил червячка, на душе стало как-то полегче, и уже не таким грустным казалось все на свете.
– А где тут улица Абовяна? – спросил я первого же человека в базарной толчее.
На улице Абовяна находился ЦК комсомола Армении. В помещении, где располагался ЦК, было многолюдно, оживленно и шумно. Еле нашел приемную первого секретаря, которому надлежало передать письмо. Миловидная девушка спросила:
– Вы к товарищу Гургену?
– Нет, к секретарю ЦК.
– Товарищ Гурген – это и есть секретарь ЦК Гурген Гумедин. А ты из Апарана?
За апаранца приняла, обиделся я. Про апаранцев, жителей самого далекого горного района Армении, ходили шуточки и анекдоты. Я оскорбленно насупился.
– Сейчас, сейчас, – как бы извиняясь, проговорила девушка и через минуту ввела меня в кабинет к Гургену Гумедину.
Прочитав письмо, Гумедин посетовал, что я опоздал, попросил зайти завтра.
– А до завтра что мне делать? – И я рассказал, что мне снова придется ночевать в «английском парке».
– Да, дружище… – протянул Гумедин. – Ладно, посиди, – и взялся за телефонную трубку.
Долго он звонил куда-то, добивался кого-то, просил, требовал, опять просил, наконец сказал мне:
– Все. Порядок. Знаешь, где военная школа? Дуй туда, не теряй времени.
Теперь уж знакомый мне путь не казался таким длинным. Но в дверях стоял все тот же часовой.
– А, это ты опять! А ну давай отсюда, пока жив.
– Но, братец…
– Двигай, говорю, пока жив.
– Но…
Неизвестно, сколько продолжались бы наши препирательства, если бы не показался дежурный командир.
– Бабаджанян? – коротко спросил он.
– Да… – От неожиданности я растерялся: «Откуда он знает мою фамилию?»
– Следуйте за мной.
Я последовал за начальником, не отказав себе в удовольствии показать своему обидчику язык.
Дежурный привел меня в казарму, подозвал какого-то военного с двумя треугольниками в петлице:
– Новичок. Примите, разместите, обмундируйте.
Ничего не сказав мне, дежурный ушел. Младший командир, указав мне на койку с набитым соломой матрацем, покрытую одеялом грязновато-желтого цвета, тоже куда-то ушел. Меня тут же окружили курсанты, посыпались вопросы: откуда, кто такой, почему опоздал?
Из разговора я тут же узнал, что в разгаре вступительные экзамены. Узнав, что мне предстоит сдавать, я пал духом. Вскоре, однако, меня вызвали в учебную часть, там сказали, что первый экзамен предстоит по математике. Математика мне давалась хорошо, хуже обстояло с грамматикой и литературой – этих предметов я всегда больше всего боялся.
Но, оказывается, больше всего следовало опасаться медицинской комиссии. Нет, я был совершенно здоров. Дело заключалось совсем в ином. Баграмов перед отъездом сказал, чтоб я захватил свою метрику. Но какая там была в те годы метрика! Я пошел в сельсовет и попросил справку, что мне девятнадцать лет – именно с девятнадцатилетнего возраста тогда брали в военные училища.
– Но тебе же всего семнадцать! – возразил председатель.
– Учиться хочу.
Председатель покачал головой, поставил в справке «19», добыл из кармана печать, завернутую в огромный лоскут, долго дышал на нее, словно раздумывал, идти на обман или нет. Я в это время не дышал. И оба мы облегченно вздохнули, когда наконец со словами «Ну, дело это доброе…» он прихлопнул печатью мою справку.
Теперь я снова стоял, затаив дыхание, перед медкомиссией, а она пыталась догадаться, на сколько лет ее обманывал с помощью своей справки этот низкорослый деревенский паренек.
Наверно, поэтому я был зачислен в курсанты условно. Это означало, что выдали мне обмундирование, которое на языке интендантов именовалось «б/у» – «бывшее в употреблении»: брюки мои были сплошь из заплат, а сапоги разного размера – левый спадал, правый не налезал. В таком виде я был предметом шуток и насмешек товарищей и в свободные часы старался куда-нибудь подальше забрести по территории школы.
Так забрел я в школьный тир, где курсанты старшего курса упражнялись в стрельбе из малокалиберной винтовки. За их стрельбой внимательно наблюдал военный с двумя ромбами и чертыхался при каждом неудачном курсантском выстреле.
– Чего слоняешься, парень? – строго спросил он, заметив меня. – Ты что, из музкоманды? Стрелять хочется? А ну… выдать ему патроны!
Я неуклюже улегся, выстрелил раз, другой, третий.
– Да ну! – вскричал начальник, когда показали мою мишень. – Вот это да! Да это ж три десятки! Вот как должен стрелять будущий краском! Постой, а почему, парень, ты в таком виде?
Я ответил, что я условный курсант.
– Чего? – грозно спросил он. – Какой такой условный? Сегодня же зачислить! – коротко бросил он подошедшему руководителю стрельб. – И пусть ваши люди учатся, как надо стрелять.
Потом я узнал, что это был сам начальник училища товарищ Г. Ованесян.
Произошло это 20 сентября 1925 года. С этого дня я перестал быть «условным», а стал профессиональным военным.
Забота об учебе наших военных кадров всегда была предметом первостепенного внимания партии и государства. Это был вопрос обороны Родины. И Родина не жалела для этого средств. Но у нее в те трудные годы были довольно скудные возможности, и мы, курсанты, делили трудности со всей страной: учебной литературы не хватало, питались довольно скромно, как все красноармейцы, одеты были в обычное обмундирование рядовых, не то что нынешние курсанты советских военных училищ (костюмы на все случаи жизни: полевой, повседневный, парадный – да с галстуком). Сами строили себе столовую, санитарную часть, конюшню, помогали трудящимся по благоустройству города.
И как бы велики ни были трудности, учились мы с каким-то подъемом. Мне спервоначала доставалось особенно трудно – серьезной общеобразовательной подготовки у меня не было. Приходилось крепко налегать на книжки, не всегда даже ходил в увольнение. Старался я изо всех сил, и постепенно дело пошло на лад. Вскоре меня даже избрали секретарем комсомольской организации роты.
Летом 1926 года мы были в лагерях. Наш лагерь располагался в Нафтлуге, пригороде Тифлиса, как тогда называлась столица Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, в которую четыре года назад объединились Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские республики. Их объединение, как я теперь вижу, было велением времени. Тогда сообща, в Федерации, им было легче решать сложные задачи развития народного хозяйства. Впоследствии, по Конституции 1936 года, три Закавказские республики вошли в СССР как суверенные союзные республики.
История развития моего родного Закавказья в советское время вновь со всеми яркими подробностями встала в моей памяти, когда я познакомился с проектом новой Конституции. Закрепленное в ней решение национально-государственного устройства обеспечивает подлинно демократическое сочетание общих интересов нашего многонационального Союза и интересов каждой из республик, обеспечивает всесторонний расцвет и неуклонное сближение наций и народностей нашей Советской страны. «…Главное направление того нового, что содержит проект, – отмечал Л. И. Брежнев, – это расширение и углубление социалистической демократии». Радостно сознавать, что эстафета, которую приняло мое поколение, продвинулась на новые высоты на пути к коммунизму.
…В Тифлисе в 1926 году рядом с лагерем армянской школы были разбиты лагеря азербайджанской и грузинской военных школ, а также 21-й пехотной школы, где обучение велось на русском языке. В этой школе учились многие краскомы и политработники – участники Гражданской войны, имевшие большой боевой опыт, но нуждавшиеся в пополнении знаний по военному делу. 21-я школа шла впереди всех наших школ, мы с огромным интересом ходили в гости к ее курсантам, любили посещать собрания этой школы, на которых с очень содержательными докладами выступали сами курсанты – бывшие командиры и политруки. Мне, как комсоргу, тоже было что здесь перенимать.
И вот однажды пронесся слух, что все наши четыре школы – три национальные и 21-ю – сольют в одну.
По-разному отнеслись к этому курсанты. Подавляющее большинство встретили это сообщение с энтузиазмом – мы жили в Закавказской Федерации, и такое решение вытекало из логики всей нашей жизни.
Нашлись, однако, и другие. Не стану называть имени – ныне это заслуженный человек, героически сражался на фронтах Великой Отечественной. Но тогда… Тогда нам было по девятнадцать лет, и многие, как и я, пришли из далеких, глухих деревень. Мы пережили тяжелые годы временного господства буржуазных националистов – дашнаков и мусаватистов, меньшевиков. И хотя повсеместно победила Советская власть, националистические пережитки все же кое-где оставили свои следы…
Он ходил в те дни хмурый как туча. Я попробовал его разговорить, и тогда он выдавил из себя: – Очень нужно! Я и своим языком обойдусь…
– Как это обойдешься? – не понял я.
– Хватит мне моего собственного. А что, еще по-грузински и по-азербайджански учиться?
– Нет, только по-русски.
– А ты сам хорошо знаешь русский? – с подковыркой спросил он.
– Слабо знаю, – признал я. – Но выучусь.
– Выходит, мне на своем родном учиться уже нельзя?
Дело тут было, оказывается, серьезное. Подумав, я сказал:
– Послушай, а как ты себе представляешь: если враг нападет, ты воевать будешь только на армянской территории, а дальше ни на шаг?
– Почему? – не сдавался он. – Поведу свой армянский взвод и дальше преследовать противника.
– А если тебя поставят полком командовать?
– И полк поведу.
– А если дивизией?
– И дивизию.
– А если… армией?
Он рассмеялся:
– Меня?
– Ну а вдруг? Вдруг ты окажешься таким талантливым? А в твоей армии будут и армянские, и грузинские, и украинские, и… ну, какие хочешь еще полки? На каком ты языке будешь командовать? СССР – большой, Красная Армия одна. Как же тут без русского обойтись?..
Сейчас, когда русский стал для каждого гражданина нашего великого Союза республик независимо от его национальной принадлежности вторым родным языком, приведенный мною диалог может казаться, наверно, искусственным. Но в середине двадцатых годов процесс превращения русского в язык межнационального общения только еще начинался. И наша армия шла авангардом в этом процессе.
Русский язык помогал нам овладевать богатейшей сокровищницей великой русской культуры. А в первую голову, конечно, русским военным искусством – суворовской «наукой побеждать», накопленным в годы Гражданской войны опытом первых красных полководцев.
Через год национальные военные школы в Закавказье были слиты в единую Закавказскую пехотную школу.
Перелистываю совершенно пожелтевшие – да и немудрено: минуло так много лет – страницы книжечки под названием «Курсант Закавказья. Орган бюро коллектива ВКП(б) Зак. пех. школы».
В книжечке, посвященной нашему выпуску, в разделе «Слово молодых командиров», я читаю заметку Ашрафа Ибрагимова: «В течение 4 лет я достаточно изучил русский язык, из которого ни слова, ни буквы не знал до поступления в школу. Без знания русского языка командир не может повышать свои знания…»
А вот это писал я сам: «Я абсолютно не знал русского языка, а сейчас говорю свободно…»
Нынче средняя школа в любом уголке нашего огромного Советского Союза дает своему выпускнику знания русского – языка межнационального общения народов СССР. В нашей Советской Армии солдат повышает свою грамотность, углубляет свои навыки в «великом и могучем» русском языке. Не говорю уж о военных училищах, куда приходят по окончании средней школы достаточно подготовленные кадры, хорошо знающие русский язык, позволяющий овладеть всеми сложностями современных военно-научных дисциплин и многочисленных наук, освоение которых необходимо офицеру современной армии.

Курсанты Закавказской пехотной школы
…Объединенная Закавказская пехотная школа размещалась в здании бывшего тифлисского юнкерского училища на Плехановском проспекте. Тут к услугам курсантов было все, только учись хорошо: отличные спальные и учебные корпуса, клуб, библиотека. Курсанты – армяне, азербайджанцы, грузины, русские, украинцы, дагестанцы, осетины – быстро перезнакомились друг с другом, подружились.
На первых порах преподавание некоторых общенаучных дисциплин еще велось на национальных языках, но все стремились поскорее и получше овладеть русским языком. Наиболее подготовленные курсанты по желанию переводились в русский сектор.
Вскоре после объединения республиканских военных школ я вновь был избран секретарем комсомольской организации роты, а затем и всей школы. Надо было подавать пример остальным, и я, хоть и опасался, что моих познаний в русском языке еще недостаточно, попросил о переводе в русский сектор.
Когда я впервые появился в 1-й русской группе, ребята сыграли туш, а староста группы, подав шутливую команду «Смирно», доложил:
– Товарищ отсекр! Когда комсомольский вождь с нами, нам никакие бури не страшны!
– Вольно! – поддержал я шутку, но все же добавил: – Только, чур, братцы, не очень смейтесь надо мной, если я что не так по-русски скажу…
Наверно, поначалу я многое произносил не так, но надо мной никто не подшучивал. Группа жила удивительно дружно, сплоченно. Однако заниматься мне пришлось еще больше. Без всякого преувеличения могу сказать: я забыл, что такое выходной день.
Совмещать учебу с комсомольской работой было еще труднее. Тем более что наша организация стала очень многочисленной – 600 человек на комсомольском учете. И, как ее секретарь, я был к тому же избран членом городского комитета комсомола.
А скидок на занятость мне наши преподаватели никаких не делали, наоборот, один из них приговаривал, модернизируя старинную русскую поговорку: «Назвался отсекром, полезай на передовую – даешь сто процентов пятерок!»
Пришлось выдавать эти сто процентов. Тем более что незадолго до этого в моей жизни произошло событие чрезвычайной важности. Расскажу о нем подробнее.








