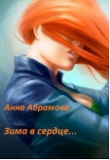«На этой страшной высоте...». Собрание стихотворений

Текст книги "«На этой страшной высоте...». Собрание стихотворений"
Автор книги: Алла Головина
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
М. Цветаевой
«Шаги эпохи тяжелей…»
В море – на корабле,
На потухшей золе,
На гранитной скале,
На магнитной скале,
Только не на земле,
Не в любви, не в тепле…
– Слышать, как журавли
Отлетят от земли,
Чуять землю вдали…
Чтоб ее пожалеть,
Чтоб ее увидать —
Умереть,
Умирать —
На разбитом крыле,
Только не на земле…
1935
ВОЛЬНЫЙ ЦЕХ
Шаги эпохи тяжелей,
Чужую жизнь обеспокоив,
Пусть свищут ветры из щелей
В бессонных лагерях изгоев.
Здесь не смыкали глаз еще,
Не выходила смерть отсюда,
Здесь перебитое плечо
Привычно поджидает чуда.
Но близок час, когда с земли
Их увезут в ночи угрюмой
Серебряные корабли,
Неузнаваемые трюмы…
В последний раз они, томясь,
Пойдут покорно и без жалоб…
Но ангелы счищают грязь
С воздушных мостиков и палуб…
Земля дымком пороховым
Покроется, но будет просто
Увидеть райский полуостров,
Сказать – Эдем; подумать – Крым.
Там над землянкой – тишина,
И там выходит из окопа
Такая райская весна,
Трава такая Перекопа…
1935
«Бродила комнатой, и как подъемный мост…»
Вольный цех – незнакомые деды,
Иностранцы-отцы через мир
Завещают труды и победы.
Страдивариус выгнутых лир
Вышел новый из вольного цеха,
Чтобы свет за окном не погас.
Крепко ль держится ржавая веха,
Голубой и крылатый Пегас?
Трубочист, проходящий а цилиндре,
Слесарь, браво надевший берет,
Узнают тебя в солнечном нимбе,
Будь здоров, работяга-сосед!
Ночью в кузнице вздохами меха
Раздувается жар добела,
У тебя же крылатая веха
Отрывает от стенки крыла.
Запирая ворота ключами
В сто бородок, бросая засов,
Ты летаешь привычно ночами,
Ты работаешь восемь часов.
Чтоб на цеховом празднике в мае
В море символов от древка
Поднималась любовь, раздвигая
Позументы и облака.
И, встречаясь с толпой подмастерий,
Узнавая свой радостный цех,
На пикник через синие двери
У заставы ты выпустил всех…
1934–1935
ДЕРЕВЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Бродила комнатой, и как подъемный мост,
Окно рванули высохшие ветки,
Там звезды скачут, распушая хвост,
Как белки в надоевшей клетке.
Там можно ветра придержать струю,
Как за кормой упругое теченье,
Там ангельское столоверченье
Избрало нынче плоть мою.
Накинь скорей на плечи простыню,
А прядь волос трепещет у ключицы,
Там, испугавшись, к млечному огню
Слетелись ангелы, как птицы.
Ведь ты живая? И вздыхает жесть
Небесная от тяжести ладоней.
Да, я люблю, и даже сердце есть
В моей груди, и кто-то сердце тронет,
Повертит словно розоватый плод
И вложит в мерное плетенье крови,
Но кто-то бросит и крылами словит,
И словом ангельским смятенно назовет.
И самый мудрый, пожалев меня
Иль любопытствуя, шепнет: послушай,
Стань духом, как другие, и, маня,
Заплещут где-то человечьи души.
Но, оградясь горячею рукой,
Дрожащим телом падаю, теряя
На облаках, в предместьи рая,
Рассаду слов, подсунутых тоской
1935. «Скит».III.1935
НОЧНЫЕ ПТИЦЫ
На изнанку земля по весне!
Перетряхивай ветер печали!
Это плуг проплывает в огне,
Чтоб у дальнего леса причалить.
А вверху, у кладбищенских стен,
Словно пленная стая, украдкой, —
Это ангелы, вставши с колен,
Развевают замшелые складки,
Белый мрамор спуская с плеча,
Мох счищая с застывших ладоней…
Под ногою земля горяча,
Покидаемый плачет и стонет…
Но легко отгибая доску,
Как страницу на крайней могиле,
Он прикладывает к виску
Жестяную повязку из лилий.
На дерновый садясь бугорок,
Он глядит, как дорогою мимо,
На небесный слетают порог
Деревенские херувимы.
Им у этих отверстых гробниц
Не склоняться над чьей-то виною,
Потому что воскресло весною
Сердце жадное самоубийц.
1934. «Скит».III.1935
«Шальная жизнь не выдается дважды…»
Этот вечер огненно-желтый
Видит снова, в который раз,
Как смятенные птичьи толпы
Сетью выхватил Монпарнас.
И у белой холодной стойки,
Чинно вниз опустив крыла,
Из густейшей крови настойку
Ты доверчиво отпила.
Вспоминая камыш и гнезда,
Подражая в последний раз,
Ты крылом утираешь звезды
С неослепших орлиных глаз.
И ты видишь, ты видишь, видишь,
Как нагретые зеркала
Тушат счастье твое, подкидыш,
И ломают твои крыла.
Пусть наутро сметут со стойки
Песни наши среди золы,
И, болтая, покинут сойки
Тесно сдвинутые столы…
Вот слоятся стеклянные двери,
Разбредаясь по одному,
Мы бросаем горстями перья
Вырастающему холму.
Чтоб сегодня приблизить чудо
Смерти той, что который год
На заре подымает блюдо,
Зерна сыплет, не зовет…
1935
«Слабеют руки, отмирая…»
Шальная жизнь не выдается дважды,
В саду шумит неповторимый дождь,
Не утоляя, не смиряя жажды,
Свой пресный мир ты пригоршнями пьешь.
И видишь, как, захлебываясь влагой,
Вокруг себя озера замутив,
Корнями оступаются в овраги,
В хлыстах побегов, туловища ив.
– Обрубленные буйно прорастают,
Смотри, смотри, как сизая листва,
Летит из-под коры, как стая,
И – отражением трава
Встает из-под воды навстречу.
Вплотную – иглы свернутых недель.
Теперь бы солнце!.. Но уже за плечи
Тебя схватила комнатная мель.
И подняла, спасла и обсушила
(Ты шла по лестнице, чтоб двери распахнуть,
В саду – потоп, и ты теряла силы…):
Глоток вина, одеколоном – грудь…
1935
Л. Червинской
СЧАСТЬЕ
Слабеют руки, отмирая…
Бездельники, зачем нам две руки —
Мы даже не плетем венки, —
Крылом стучимся в двери рая.
Вот эти пальцы: два и много, три,
Приставить к перьям или просто этим
Пером блестящим из крыла, смотри,
Мазок оставить на портрете.
И, может быть, поверят больше нам,
Прося автограф, только чуя славу —
Поверят счастью, и мечтам, и снам,
И клетки отведут по праву.
Из-под мостов слетимся, отчеркнув
Главу: опушенные руки.
И запоем, а может быть, и клюв…
И не слова, а только звуки…
1935
«Переводится молодость: счастье, взболтни…»
По весне, хитрей, чем Калиостро,
Трижды в день у городских застав,
Счастье паспорт проверят просто.
Пряча грим в серебряный рукав.
И въезжает все еще в карете,
И в предместье станет у крыльца.
Узнавая занавески эти
И на ставнях круглые сердца.
Там, где пахнет плесенью и воском,
В маленькой гостиной, у зеркал,
Ты меняешь второпях прическу,
Подглядев учтивейший оскал.
Март стекает с заблестевшей крыши,
Веерами распушив кусты,
Зазывают на углах афиши
Суеверных ласточек, как ты.
«Боже мой, ты ангел или дьявол?»
Но, уже не помня ничего,
Ты впиваешь страх и славу —
Ты – подруга верная его.
Привыкаешь, вышла на подмогу:
Белый плащик, синее трико.
Ты – бледна, но где твоя тревога —
Слабым пальцам обмануть легко.
Понимая взгляд его и слово,
Ловко пряча за спиной беду,
Ты тасуешь песни перед новой,
Побледневшей, во втором ряду.
1935
«Твои слова? Томление мое?..»
Переводится молодость: счастье, взболтни,
И в последний разок, обжигая,
Льются в кровь сумасшедшие звонкие дни.
В сердце шепотом: дорогая…
Брось бутылочку и рецепт —
Кризис в прошлом: ты смотришь и дышишь,
Твой нежданный, твой поздний, твой алый рассвет.
Все равно ведь уже не пропишешь
Десть бумаги (не узенький ярлычок,
Где на штемпеле ангел кудрявый)!
Вынь перо, карандаш или даже смычок
И венчай свою молодость славой.
И на нотной бумаге напишешь сонет,
Констатируя смело коллегам:
Наступивший покой, остывающий бред,
Тротуары, покрытые снегом…
1935
«Мир по шву острием распорот…»
Твои слова? Томление мое?
Иль этот вечер с дождевою дрожью?
(Глаза к глазам, зрачки как острие)
Скажи теперь, но что же было ложью?
И где теперь тяжелая стена?
Неделями разлуки, расстояньем
Она разрушена? Иль, может быть, она
Украсилась калиткою, дверями?
И плющ на ней прикинул кружева,
А сзади дом и наскоро – тюльпаны…
Добро пожаловать! Моя любовь – жива
И вот летит через чужие страны.
Всё узнает снесенное в сенях,
Вот наше первое обзаведенье:
Мой первый сон и мой последний страх,
И наша смерть и наше пробужденье.
Кудрявою склоняясь головой,
Рисует ангел облака и поле,
Чтоб всё, как в жизни было. Неживой,
Ты забываешь о последней боли…
Глаза к глазам. Я требую, скажи,
Ведь ложь была, она была сначала?
Но шепчешь ты, что не бывало лжи,
Чтоб ты узнал, чтоб я тебя узнала…
1935
«Нет лучей, но отраженный свет…»
Мир по шву острием распорот —
Прочный мир. Перелицевать?
Или новый, как этот город,
Унести, заметать и сшивать?
Шире – плечи и к вороту ярче,
Звонкий шорох: парча или штоф?
Нитки рифмы, рабочий ларчик
И строка за строкою, как шов.
Вьются улицы, как воланы,
Звездный шлейф у недвижных ног,
Но тебе подражают страны
И листают твой каталог.
Вот и плащ заботливо выткан —
Как нарядна твоя судьба!
И последнею алой ниткой —
Венчик на середину лба…
1935
«Письмо наизусть не пропеть…»
Нет лучей, но отраженный свет
Бьет от стен напротив, известковых…
Над кроватью стертые подковы
Счастье приносили много лет.
Тень у ног пуста и коротка,
А лицо прозрачнее и суше,
Зеркало покажет у виска
Сеть морщин, что стянет и задушит.
И поверю – будет тот же свет,
Белый и слегка голубоватый…
С черным бантом на столе портрет,
Для тебя заказанный когда-то.
Вот портрету будет нипочем
Состязаться с тою, на постели.
Пятна проступают еле-еле —
Ретушь сняла крылья за плечом.
Только ты, что и меня забыл
И его не получил когда-то,
Будешь помнить шелест белых крыл,
Мертвый свет руки голубоватой…
1935
«Придет пора, и будет чист…»
Письмо наизусть не пропеть,
Поднимая глаза на раёк.
Написано несколько строк,
Что и в сердце не смеют звенеть.
Татьяна, вслед за тобой,
Хоть тысячу раз повторяй,
Не взлетит потолок голубой,
К райку не приблизится рай.
От сердечного этого жара,
От бессонного жара глаз.
Ни косы твоей, ни пеньюара,
Ни наперсницы в этот час…
И не встретиться через годы
Ни в гостиной, ни на балу…
Только песенка с огорода,
Только пяльцы твои в углу.
Этой девочки деревенской
Больше рядом со мною нет… Ленский…
Сероглазый и не поэт.
Мы остались вдвоем на свете,
Познакомимся и поймем:
Мох на брошенном пистолете,
Осыпается белый дом…
Ничего уже не исправить,
Не писать до зари без сна:
«Я люблю, для чего лукавить?
Я – чужая, я неверна…»
1935(?)
«Отчаялся день – не расцвесть…»
Придет пора, и будет чист
Твой мир, простертый на закате,
И стих, что станет не речист,
Заговоривши об утрате.
Презрев в последней тишине
Свою любовь, свои измены,
Оскудевающие вены
Забудет сердце в полусне.
И голос будет иссякать,
Слова, что угли, потухая,
Золою заметут тетрадь.
И вот впервые, не вздыхая,
В какой-то день, в какой-то час
Услышишь ты иные звуки,
В последний раз взметнутся руки
И веки устрашенных глаз…
И будет мерно холодеть
Прекрасный сон самозабвенья,
Уже привычные виденья
Не устают сверкать и петь…
И перед зеркалом своим,
Волос раскладывая свитки,
Ты, как музейный Серафим
С ненумерованной открытки.
Твоя душа, поклажу сил
Земных отбросив без усилья,
Колышет синие надкрылья
Над парами скрещенных крыл…
1935
«Под утро сорвется дыханье…»
Отчаялся день – не расцвесть.
Не в солнечном прежнем обмане, —
Ты – в комнате, в белом тумане,
Сегодня такая, как есть.
И вот как ты нынче живешь,
Когда не царит вдохновенье,
Когда отступившая ложь
Оставим мертвые тени
У глаз и у губ, а с плеча
Исчезла умелая ретушь
Крыла, что несла, волоча,
Ты взмахом небрежным по свету.
Ну что же? – Теперь умереть.
Ты жалуешься на усталость,
Утратив пернатую малость,
Где даже руки не согреть.
Ты пальцами шаришь вокруг,
Но нету луча за тобою,
И комната не голубою,
А серою кажется вдруг.
Умри. Это осень пришла.
Три месяца будет все то же,
А зимнее солнце поможет
Тебе, ты отыщешь крыла.
И там, и в раю, где такие,
Налгавшие людям во сне,
Приняв за фиалки, втайне
Рвут звезды за стебли тугие…
1935
ГРОЗА (1-й вариант)
Под утро сорвется дыханье
От нежных упрямых толчков,
Под утро таю трепетанье
Тобой зарожденных стихов.
И знаю, что лучше и краше
Еще не бывало стиха.
Бумажные ворох а
Ждут счастье случайное наше.
Огромную радость вдохни
В слепые невнятные звуки,
Когда на бумаге стихи
Расправят сведенные руки.
Ведь скоро они зазвенят
Впервые, желанные строчки,
Родившиеся в сорочке
И даже с крылами до пят…
1935
(2-й вариант)
Был гром от нас в полуверсте,
Вскрывались молнии, как вены,
Шел дождь и шарил в темноте
По тротуарам и по стенам.
Как в детстве, страшная гроза…
Не видя, ничего не слыша,
Ждала ты, заслонив глаза,
Удара над твоею крышей.
На мир твой пыльный и поблеклый
Сквозь слабый щит железных штор
Спокойно, грозно и в упор
Взглянуло небо через стекла.
Был ослепляющ синий свет,
Входя сквозь веки и ладони,
Разбивший двери на балконе
И покоробивший паркет.
(3-й вариант)
Провода поют, смолкают птицы,
Желт венок в опущенной руке,
Городская роза из петлицы
Снова расцветает в сундуке.
В невысоком небе, в белом небе
Лебеди сегодня далеки,
Но измятый проволочный стебель
Голубые выгнал лепестки.
И мечтает бархатное чудо
О гитарной трели за стеной,
Что я тоже в городе забуду
Трехнедельный невозвратный зной,
Что, меня узная по загару,
Бледному загару моему,
Ночью птицы посетят гитару
И сквозь струны – попадут в тюрьму.
Вот, смотри, почти уже поверяя,
Я венок роняю из руки,
В сером доме, за тяжелой дверью
Ждут меня две первые строки.
И с цветком нелепым, не колючим,
Может быть, откроется тебе
Не июльский зной, но что-то лучше —
Жар, который по плечу судьбе
«Не умирай, не верь, не жди…»
Провода поют, смолкают птицы,
Увядает розовый венок,
От дождя и по полю струится
Перекресток явленных дорог.
Сколько же путей еще возможно
Влево, вправо от больших путей?
Зыбкая дорога непреложно
Ждет следов и по пути вестей.
Хлещет дождь, и голубые пряди
Холодно твердят – наперекор —
Милый друг, твое несчастье – сзади,
Как цветочный головной убор.
Дачный отдых забывай, как скуку,
А любовь – как вялые цветы.
Положи на дождь спокойно руку,
Принимай посланье высоты.
Не жалей. На первом полустанке
В поезде просохнет воротник,
Ляжет лист на водяные гранки,
И стихами обернется крик.
1935
СИРЕНЬ
Не умирай, не верь, не жди,
Что будет райская награда.
Покроют руки на груди
Цветами из чужого сада.
От выцветающих оград,
Где спят напуганные адом,
Ты не увидишь этот сад,
Не пролетишь над этим садом.
Взойдет непышная трава
Над желто-розоватой глиной,
Н будешь помнить ты едва
Озерный шорох лебединый.
Цветы на письменном столе,
Грозу, встающую над скатом,
И руку на плече крылатом,
Крылатом только на земле.
1935
«Что бы ни случилось в жизни этой…»
Желанное случилось
В последний этот день:
У окон распустилась
Персидская сирень.
Душиста и лилова
И так густа, густа…
Свиданье нынче снова
У этого куста.
В твоей сегодня власти,
Цветет до облаков
Душистый крестик-счастье
В десяток лепестков.
Пусть горло жжет шелковым
Тебе огнем петля,
На облаке лиловом
Уже плывет земля.
На облаке махровом
Ты губы прячешь в тень
И осыпаешь снова
Персидскую сирень.
Пускай в ладонь невесте
Упрямая рука
Кидает черный крестик
В четыре лепестка.
Привычно оправляет
Серебряный покров,
С открытки отпускает
На волю голубков.
Ведь по дорожкам сада
И по твоим рукам
Скользит лиловый ладан
К вечерним облакам…
1935(?)
«На заре, по краям площадей…»
Что бы ни случилось в жизни этой,
Сколько б лет с разлуки ни прошло,
Ты припомнишь ту весну и лето —
Нашей встречи ветер и тепло.
Кажется, чему б еще случаться,
Раз друг друга видели во сне,
Но нам было велено всетречаться,
И еще – встречаться по весне.
Нам была дана сирень повсюду,
Что дышала сизой теплотой,
Все довески к радостному чуду,
Всё до дна и весь хмельной настой.
Летом клевер, о, какой махровый,
Сонный лес, вздыхающая степь,
В мае – слово, летом – с полуслова,
В мае – струны, а в июне – цепь.
И она на этом расстояньи
Всё звенит, соединяя нас,
Возвращайся – клевер не увянет,
Но сегодня – предпоследний час.
1935(?)
«Спокоен сон мой и глубок…»
На заре, по краям площадей,
Чуть заметно круженье камней.
Посреди у фонтана не стань —
Там совсем небывалая грань.
Руки сами взлетают и ждут,
Скамьи кружатся и поют.
Небо розово сквозь синеву,
И вздыхают стихи наяву,
Что мешают им сны, и слова,
И скамейки, и синева.
Если ты не боишься узнать,
Умереть, полюбить и не встать,
Жди еще, задыхаясь, без сил,
Чтобы ангела Бог отпустил.
И с моста в лишаях и без рук
Ангел вылетит с грохотом вдруг,
Скинет камень и руки найдет
И с тобою охотно умрет,
Иль любовную примет тоску,
Иль крылом переправит строку.
1935(?)
«Я – все та же; и видят глаза…»
Спокоен сон мой и глубок.
Душа сейчас меня превыше —
Летит мой облик на восток
От ложа, потолка и крыши —
Чтоб шпили храмов как порог
И словно черный коврик тучи:
Восток, восток, восток, восток —
Восток не тот, не желтый, жгучий,
А, кажется, совсем другой —
Страна такая на востоке,
Где – тропки с розовой дугой,
Где вечные снега глубоки,
В колоколах вздыхает медь,
И тишина в дворцовых залах,
Где бродит улицей медведь
И женщины в платочках алых,
Где я не пела у берез
И в хороводе не плясала,
Где не лила кровавых слез
И с молоком их не всосала.
Но где поймут ее тоску —
Моей души стихи и муки,
Где ангел к жаркому виску
Прохладные приложит руки.
Но нет страны такой нигде.
Пускай из складок одеяла
Рука при меркнущей звезде
Дорогу с памятью сверяла.
1935(?)
ФЕВРАЛЬСКИЕ СТИХИ
Я – все та же; и видят глаза
Всё, как прежде – как видеть не надо.
Вот над винною лавкой лоза,
Оживая, ползет по фасаду.
Винограда стеклянная гроздь
Наливается соком и светом,
Задремавший за стойкою гость
Пробуждается снова поэтом.
Видит море, и желтый песок,
И звезду на светлеющем небе,
Где асфальта чернильные гребни
На зеркальный ползут потолок.
Вот сейчас бы не медлить, скорей! —
Не помогут мольбы и угрозы.
Листья вьются у фонарей,
И устойчивы слабые лозы…
Тишина и рассвет за углом
И в росе твои руки и плечи,
Кто-то машет навстречу крылом,
Кто-то крыльями машет навстречу.
И, как след, голубая стезя
По стене проплывает на крышу,
Но полета мне видеть нельзя,
Потому что я пенья не слышу
1935–1936
«Ты не поешь, ты стала старше…»
В феврале заблестела земля,
И легко вознеслась над тобою
Это небо конца февраля,
Желтоватое и голубое.
Блеск у ног твоих и наверху,
И крылатая сила в запястьи…
Вот скворешни навстречу стиху,
Заскрипев, раскрываются настежь.
Мы по мокрым дорожкам идем,
Говорим о больших переменах,
Мы взлетаем, и пахнет дождем
В деревянных некрашеных стенах.
Вот и все, и погода ясна,
Будет завтра такою же вешней,
Рано утром проснется весна
На пороге просохшей скворешни.
И когда из далеких концов
Хлопотливых, узнавших о чуде,
Встретим мы настоящих скворцов,
О весне догадаются люди…
1935–1936
«После такой разлуки…»
Ты не поешь, ты стала старше,
Ты – побежденная, не та,
Но прямо вверх, крылатым маршем
Спешишь сегодня от моста.
Такая вышла в полночь встреча
Поэтов, брошенных, бродяг.
Что серый ангел взял на плечи
Ваш синий, ваш линялый флаг.
Зачем холодные перила
Ты слабой трогаешь рукой?
Бросайся вверх с последней силой —
Там Млечный Путь шумит рекой.
И проводник из темной ниши
Над нерешительной толпой
На облака все выше, выше
Ступает каменной стопой…
Конец поэтов и бродяг —
Сегодня смерть твоя крылата,
Как жизнь твоя была когда-то,
Пока ты расшивала флаг…
1935–1936
ВО ДВОРЕ
После такой разлуки,
После такой любви
Из-за плеч прохладные руки
Ложатся на веки твои.
И догадаться не смея,
Кто стоит за тобой.
Ты видишь, что мрак мутнеет,
Становится голубой.
И шумен прозрачный воздух,
И боль не коснется век,
И звезды, синие звезды
Плывут, озаряя снег.
Смотри, в этом новой мире
Такой огромный простор,
Всё выше, светлее, шире
Привычных озер и гор.
Пусть руки тонки и слабы,
Опущенные, как плеть, —
Там даже и ты смогла бы,
Как прежде, во сне взлететь.
Каменный ангел не тронет
Крыло твоего плеча:
Лети, не будет погони,
Ты умираешь – ничья…
1935–1936
ТИШИНА
Дошла любовь до точки,
Цепей не расковать,
Любились голубочки,
Слетались ворковать.
Достался голубь кошке
И клювом не стучит,
Соперница в окошке
Подперлась и сидит.
Подперлась локоточком,
Глядит куда-то вниз,
Летают голубочки,
Садятся на карниз.
А во дворе прохожий —
Плечист и сероглаз,
Кому-то точит ножик
Сегодня в первый раз.
Поет, поет прохожий
Не о моей красе,
Звездами брызжет ножик
На белом колесе.
Последний вечер дожит —
Цепей не расковать,
Поет и пляшет ложе —
Пуховая кровать.
Последний вечер дожит,
Она гасит огонь,
И месяц – острый ножик
Упал в мою ладонь.
Порхая звезды всходят
От нашего двора,
Покоя не находят
На небе до утра.
И пляшут под окошком,
Скользят по желобам,
Ползет по крыше кошка
К уснувшим голубям.
«Современные записки».1936.Т.61
ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ
Надежный верный кров
и небо голубое,
ни пенья комаров,
ни башенного боя.
Молчит на кухне кран,
не скрипнет пол ни разу…
Излеченный от ран
мой ангел кареглазый
пришел, приполз домой
и под периной – зябок,
и как глухонемой,
склоняет шею набок…
Не слышит, но глядит
на небо, перелески.
Весенний нежен вид,
как трепет занавески…
Вот так вот, закружась,
на гомон понаслышке,
как галки, падать в грязь
от колокольной вышки…
И ангел слышит сон
сквозь локон неподвитый:
невиденный, забытый
малинов странный звон…
1936–1937
Над пролетом моста, над твоею тоской —
ангел каменный, городской.
Как замшела рука, да и плеч не склонить,
чтоб упавшего благословить,
не взлететь – приросло крыло
и взглянуть ему тяжело —
посмотреть из-под серых век
на лицо твое и на снег.
И перила, что так холодны,
никогда ему не видны.
Но за каменной складкой волос
всплеск ему услыхать привелось.
– Ангел, разве нам по пути —
ведь крылатому трудно идти.
Отпускает меня тоска,
и звезда над водой близка…
Чтобы первый полет видать,
чтоб завистливо ожидать
взмаха новых, неясных крыл,
он склоняется у перил…
1936–1937