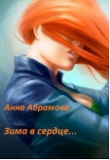«На этой страшной высоте...». Собрание стихотворений

Текст книги "«На этой страшной высоте...». Собрание стихотворений"
Автор книги: Алла Головина
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Послушничек,
Наушничек,
Девушничек,
Двурушничек…
Волосики – лен,
С личика чист,
Больно умен,
Больно речист…
– Мне бы за узкие плечи мешок,
Мне бы расчесочку – гребешок,
Мне подпояску бы, ремешок,
Мне бы в указку да посошок… —
А глаза, как хрусталь, холодны,
А уста, что коралл, бледны.
А рука – неживая лежит.
Затаился и ворожит…
Змея шестикрылого
Даром оплели.
Чернеца-то хилого
Узнаю вдали.
На девятой версте,
На проклятой версте,
Это – не я.
На мосту стоит, на хвосте —
Змея.
Жарится, нежится,
Смотрит, колышется:
Если б я была бы я,
А не эта вот змея,
Давно бы кольцо твое приняла,
Колечки бы льна приласкала на лбу,
Змеиные б кольца не развела,
Кольчугу б свою потеряла в бою…
– Ну какой же ты чернец, молодец,
На дуде золотой игрец?
Много выпил в ночи сердец.
А за мною пришел под конец. —
За мною идет в забытый скит
(Снами уже истомил),
Вербы стоит, и ива стоит,
И дышит зеленый ил.
Это не сон уже, а явь
(Змея стоит на хвосте),
Русалки его догоняют вплавь
На девятой версте.
У каждой губы черны-черны,
И женская боль, боль в очах…
Ты за собою не знал вины,
Почему же и ты зачах?
Оставь лежащую ту сестру,
Она – словно в горле кость.
Не змея ли она, что стоит на мосту,
Сторожит у плотины мост?
Брось ее, брось,
Нас верни
На землю, на мост,
Чтобы жить с людьми…
СЫНУ
– Здравствуй, монашек
Выпитый.
Повыспрашивай,
Повыпытывай.
Монашек липовый,
Меня поспрашивай…
А тебе разве памяти мало,
А тебе разве мало тоски
По камням разноцветным Урала,
По изгибам какой-то реки?
Но беспомощно руку ребенка
Направляя в зеленый простор,
Ты на карте стучишься в избенку,
Попадаешь в серебряный бор.
И касаясь холмов живописных
С странным именем Жигули,
Видишь, в небе, иконописно,
На ладони твоей – журавли.
Милый мой, я сама не бывала
Ни в Кремле, ни у ясных полян,
Разноцветные камни Урала
Мне показывал капитан.
И твердили настойчиво книги,
Звали старшие, пели стихи.
И тебе я о том же покорно
Повторю, но не зная тоски.
Ты с Кавказа дорогой узорной
Все обходишь материки.
Тянет тлением от каждого оврага,
Пахнет адом каждый Божий сад.
И врага не знает, скользкой шпагой
В этот час заколотый солдат.
Лорелеи косы распускают,
Голос бездны сладок и высок.
И над кладом медленно сияют
Черный Рейн и золотой песок.
А над дальним Брокеном смятенье,
Пир горой, и в пламене гора,
За которой пляшут в исступленьи
В древних рощах гномы до утра.
И над всеми – с мертвыми глазами
Серый призрак, гибель на скале.
…Сеет ночь усталыми руками
Правды и неправды на земле…
И от полюса смотришь, моргая,
Как встает на востоке страна
Та же самая или иная,
Та, что мне никогда не видна.
«Сумасшедший дом. Аккуратный парк…»
Океанская глубь, океанская ширь.
Зелена и бела на бумаге Сибирь,
И коричнев Кавказ, и Кура коротка,
Опираясь на Кремль, как на два локотка,
Смотрит сонно Москва, и подвески огней
Запевают малиновым звоном у ней.
Питерсбурх, Петербург, Петроград, Ленинград…
Это Летний крыловский сияющий сад.
Почему же он вечно в крови и снегу?
Я не знаю, Сережа, и знать не могу.
«Душа моя – моя кариатида…»
Сумасшедший дом. Аккуратный парк.
Сумасшедшая русская: Жанна д’Арк.
Разрешили ей волосы стричь у плеч
И тяжелые двери свято беречь.
– Ах, – печально она говорит врачу, —
Я дофина увидеть скорей хочу.
О, поймите, я слушаю голоса
Каждый день по три, по четыре часа.
И со скукою врач отвечает ей:
– Был расстрелян в Сибири дофин Алексей,
А историю вашей дикой страны
Вы и здесь забывать никогда не должны.
Но однажды явившийся серафим
Показался царевичем ей сквозь грим.
Тут-то многое она поняла
(Поседела и от ворот отошла),
Что она – эмигрантка, а город – Париж
И что за нашей историей не уследишь.
Той же ночью спокойно она умерла,
И вошла в Ленинград, и дофина нашла.
И собор отыскала. Стоял Алексей,
Петроградской белой ночи бледней.
Ликовал почему-то советский народ
И уже собирался в какой-то поход.
Эмигрантская дева жива не жива
(Словно молния – в древо) и видит – Москва.
Петербург отступил, и уже Михаил,
Дрожь скрывая, стоит у бесчестных могил…
«В столице Москве, впервые…»
Душа моя – моя кариатида,
Поддерживай последние года
Земных страстей. Последняя обида
О грудь твою разбита, как всегда.
Вот так и в европейском захолустьи,
В каком-то переулке, в уголке,
Стоит фасад необветшалой грусти
И дверь крепка, и статуя – в венке.
И каменные голубые руки,
Что, как кораблик, подняли балкон,
Хранят навеки тишину и муки
И двадцать чисто вымытых окон.
Еще какое-то тепло укрыла
Она и здесь, за каменным плечом.
Она глаза свои полузакрыла
И тщетно ждет хозяина с ключом.
Душа моя, в моем уединеньи,
Случайной тени этого жилья,
Я не гляжу на мокрые ступени,
Не жду гостей и не скучаю я.
Ты примешь за меня освобожденье,
Судьбу и смерть, когда они придут.
И листьев небывалое круженье.
И блеск в дверях на несколько минут.
«Не проклинают нелюбимых…»
В столице Москве, впервые
Крещу эмигрантский лоб.
Палач не успел по вые
Ударить и бросить в озноб.
Впрочем, лубянки и эти бутырки —
Не недорезана жизнь монастырки.
Прекрасной, фильтрованной, синей
Кажется эта река.
Туристы…………………линий
…………………………свысока.
Ну, здравствуй, ну, здравствуй…
На улице русская речь,
Что от какой-то латыни
Мы сумели сберечь.
Авиафлот и паспорт…
Таможня. Авиафлот…
И пограничная стража,
Самая страшная кража,
Бывший земной оплот…
«Ни объятьем, ни взглядом, ни словом…»
Не проклинают нелюбимых,
И я тебя не прокляну.
Летят по стенам херувимы
К неосвященному окну.
СЕРДЦЕ
Ни объятьем, ни взглядом, ни словом
Не сказать, что приходит тоска.
В этом мире, чужом и неновом,
Я с тобою не буду близка.
«Если левая ручка – добро…»
Пылало сердце, платье прожигая.
И вот на ткани – темное пятно.
Душа летит и падает нагая,
От сна восстав, в разбитое окно.
Она разбужена, когда крыло истлело, —
Весь мир в дыму задохся и завял.
Она с балкона в облака слетела
Растянутых толпою одеял.
Она встает, не чувствуя бессилья,
Она вдыхает городскую пыль.
Уже стихов серебряный костыль
Ей режет опадающие крылья,
Прикрыв рукой ослепшие глаза,
Она кричит, вещая о пожаре,
Она спешит о смерти рассказать
И птицам перья стынущие, дарит.
Но шло землей мирительное лето,
И сквозь земной невыносимый зной
Вставало сердце солнцем сквозь запреты
Гореть и звать библейской купиной.
Добра и зла, добра и зла —
Смысл, раскаленный добела.
Г. Иванов
Как правая и левая рука,
Твоя душа моей душе близка.
Но вихрь прошел, и бездна пролегла
От правого до левого крыла.
М. Цветаева
«Платить по счетам! Два года ни строчки…»
Если левая ручка – добро
И белее, чем серебро;
Холодна и нежней пера
И готова – подать с утра;
Если левая да ладонь
Говорит: не ласкай, не тронь.
Я – суженая, я – судьба.
Я перстами касаюсь лба, —
И прозрачнейший перстенек,
Как болотный, горит огонек —
Не согреет и так далек, —
Подойдешь, а он – наутек…
То на правой моей руке,
Как на классной да на доске,
Нарисованный символ зла
Подымает конец крыла;
Правой ручкой бы только бить,
Подзывать, получать, теребить;
Сверху ручка моя – смугла,
Горяча и кольцо сняла.
Но пожатье таких десниц!
Но объятье бескрылых птиц!
Но присяга таких перстов!
И у флага: а ты готов?
И когда им сойтись, Адам?
Ты познаешь, а я отдам.
И, как боги, Авель и Каин —
Семя наших извечных таин.
11.8.1942
«Ни искать, ни звать тебя не надо…»
Платить по счетам! Два года ни строчки
Новых стихов. Стыдись же, пиши!
Что делала ты? Я вязала носочки,
Пеклась о сыночке, мечтала в тиши.
Ты лжешь, ты спускала петли со спицы
Ты хмурилась сыну, мечтала черно,
Ты стала беспомощней запертой птицы,
Что смотрит задернутым глазом в окно!
Что делала ты? Я письма писала,
Немножко гуляла, хотела любить,
Я вспоминала, я рисовала,
Хотела смириться, хотела забыть.
Что делала я? О, порою, случайно,
Встречала судьбу, под аркой, тайком.
Судьба проходила, как чуждая тайна,
Косилась ресницами, узким зрачком.
Порою, не чаще, чем раза четыре,
За целый за год заходила к нам.
Мы говорили о войнах, о мире
И чокались рюмками по краям.
Судьба анекдоты плела мне вяло,
Я хмуро рассматривала судьбу.
Такой бы ее я навек изваяла,
Такою ее я увижу в гробу.
Высокая. Холод, покой и скука
В тяжелых глазах. Длиннопалой рукой
Она в мою душу стучалась без стука
И мне обещала любовь и покой.
Любовь ли? Не знаю. Только объятье,
Вернее, она захотела мне дать.
И так порешила она, и заклятье
Я скромно несу, как несут благодать.
Два года прошло, я ее искушаю,
Но, впрочем, в душе я, без боя, сдалась.
Что делаю я? Я покой не вкушаю,
Я только платить по счетам принялась.
5.8.1942
«Слезы твои смахну…»
Ни искать, ни звать тебя не надо,
Будет так, как звезды захотят.
Бузина парламентского сада
Расцвела созвездьями подряд.
Нет счастливей в небе сочетаний —
Колдовские расцвели цветы.
Сломанная ветка не завянет —
На подушке снежные кресты.
Тяжко спать, вдыхая этот запах.
В небе синем – млечная тропа,
И Медведица в холодных лапах
Держит синий ободок серпа.
Жнет цветы. И вниз слетают звезды.
Милый друг, я жду тебя одна.
Сон далек. Высокий синий воздух
И дорога за окном – видна.
26.6.1942
«Не забывай, не обижай, не отводи…»
Слезы твои смахну,
Если ты случайно заплачешь.
Твою заслоню вину,
Если ты своим сердцем заплатишь.
Мы не пойдем на войну,
Только зальем войну:
Кровью, слезами, дождями.
Мы искупим вину.
Нас не клонит ко сну,
Но мы не будем вождями.
Ангелов Божья рать
Стелет павшим кровать.
Спите в перинах, солдаты.
Мы – не должны умирать;
Нужно камни собрать,
Нужно поставить заплаты.
28.6.1942
«Верною и чернобровой…»
Не забывай, не обижай, не отводи.
Ведь сердце женское в моей груди.
Ведь в сердце женский, темный, вечный страх,
Ведь я иду на ощупь и впотьмах.
Не запирай высокое крыльцо,
Не отвращай далекое лицо,
Ведь я забыла для тебя других,
Ведь мир сегодня для меня затих.
Ведь я иду в последней тишине
И только смутно помню о войне.
Любимый, поддержи, не покидай,
К плечу склониться на мгновенье дай.
О, дай мне только раз передохнуть,
И мы опять продолжим прежний путь.
Прости меня за слабость и грехи,
За розы, за свиданья, за стихи.
И что в течение двух этих лет
Молчала я всегда тебе в ответ.
28.6.1942
«О, не царица, только Суламифь…»
Верною и чернобровой
Я к тебе в ночи лечу,
«И в реке Каяль бобровый
Я рукав свой омочу».
Только рана все – зияет,
Кровь горячую точит,
А стрела, как луч, сияет,
В сердце до пера торчит.
Кто тебя убил, коханый,
Кто скакал гонцом в Путивль,
Кто смывал с груди и раны
Желтую степную пыль?
Я не плакала зигзицей, —
Я молилась и ждала,
Я святой мочу водицей
Край разбитого крыла.
От живой воды с зарею
Воскресают мертвецы.
Я стрелу в степи зарою,
Как хоронятся концы.
И баян перстами тронет
Горла белых лебедей.
Кто надежду похоронит
Двух счастливейших людей?
29.6.1942
«Мне страшно мое вдохновенье без края…»
О, не царица, только Суламифь
Войдет к Тебе, когда настанут сроки.
Да будет так: ночной реки извив,
И виноград, и первые уроки.
Холодным и жестоким был с другой.
Со мною будешь – только терпеливым.
Высокое чело и бровь – дугой.
Но почему-то стал неприхотливым…
И Песня Песней миру говорит
О том, что радость выбрана не слепо.
В библейский год Тебя боготворит
Любимая и на пороге склепа.
Но храм сияет нам невдалеке,
Сожженным будет, мы его отстроим.
Моя рука теперь в Твоей руке,
Июль дохнул иерусалимским зноем.
2.7.1942
«Как трудно с тобою списаться…»
Мне страшно мое вдохновенье без края —
Живу, догорая и не сгорая.
За встречу с тобою – платить до могилы.
Прощаю тебя за нездешние силы.
За всех говорю, за тебя говорю, —
Ночами и вечерами горю.
Утрами и днями пою и пишу.
Почти умираю, почти не дышу.
Но сон опускается краткий, глубокий.
И снова даются мне новые сроки.
И я отдыхаю, и я затихаю,
И я на часы, на минуты стихаю.
Любовь моя. Жизнь моя. Смерть моя. Вечность.
Прощаю тебе и твою бессердечность.
Мне сердце дано на двоих и на многих,
Для бдений, для будней суровых и строгих.
2.7.1942
«В темном городе люди спали…»
Как трудно с тобою списаться,
Как сложно с тобой созвониться,
Как дивно тебя не дождаться,
Как страшно тебя не добиться.
Вот видишь: все – лишние речи,
Но я не играю словами, —
Мне хвастаться больше и нечем
(Шелками и кружевами?).
Как трудно с тобой сговориться,
Как странно с тобой соглашаться,
Как сладко и страшно открыться,
Как трудно и стыдно вмешаться.
Ты слышишь бессвязные речи,
И ты их легко забываешь.
Смеешься далече, далече
И, может быть, даже зеваешь.
Но рано с тобой расставаться
И расставаться недружно.
И ты не просил оставаться,
Но мне показалось, что нужно.
2.7.1942
«По радио холодный русский голос…»
В темном городе люди спали,
Ты проснулась и умерла,
В остывающем одеяле
Руки слабые развела.
И куда тебе было деться,
Узнавая мгновенный страх,
В этой жизни, совсем не детской,
В одиночестве и впотьмах?
Ты не видела за витриной
Смерти с розовой косой,
Этот крест на аршин от глины
С перекладиною косой,
И на блеклой парче покрова,
На шелку, что связал венки,
Эту надпись, где буквы снова,
Словно в азбуке велики.
«Первая всегда враждебна встреча…»
По радио холодный русский голос
Не признает, что Севастополь пал.
Душа моя, должно быть, раскололась,
Пока ты в Белой армии не спал.
Как бились страшно наши под Каховкой,
Мучительно отстаивали Крым.
Серебряною маленькой подковкой
Луна всходила через белый дым.
На кладбище о Блоке ты заспорил,
Пока к утру не начался погром.
История рассудит. Рок ускорил
Возмездие. И вот – последний гром.
Тень Врангеля взметнулась над Востоком:
– Эвакуируйте в порядке Крым. —
Идут татарья. Но на льду широком
Ливонских рыцарей мы победим.
5.7.1942
«Все шире русло. Дельтою стихи…»
Первая всегда враждебна встреча,
Первое объятье – ни к чему.
Вот такая яростная сеча —
Только должное отдать уму.
Не люблю, но только уважаю,
С детства фехтоваться мы должны.
Шпагою играя, угрожаю,
Признаю, а Вы удивлены.
Голубой павлин, а рядом – белый.
Белый, Вы прекраснее в сто раз.
Я гляжу на Вас уже несмело
Сотнею своих павлиньих глаз.
Говорят, что хриплые павлины,
Умирая, лебедем поют.
Говорят, что голос лебединый
И любовь вешает, и уют.
Шпаги скрещены на древних стенах,
Над столом дубовым, за спиной.
О любви, о страсти, об изменах
Вечером беседуешь со мной.
5.7.1942
2-й вариант
Все шире русло. Дельтою стихи
Расходятся и орошают землю.
Я говорю, как пахарь от сохи,
И только Богу за работой внемлю.
Приходят чужеземцы. Что ж? Привет!
Земля и впрямь для нас одних обильна.
И вы сбирайтесь за труды, чуть свет,
Работайте и правьте непосильно.
Не так легко рабами володеть,
Не так легко тебе княжить над нами.
О Рюрике поют стихи, как медь.
Над ним одним – нетлеющее знамя.
И Киев вырастает на Днепре,
Святой Владимир идолов сбивает.
По деревням девчонки на заре
Веснянки и березки завивают.
Язычники, а вот полком идут
Святым на лед. Молился Дмитрий ночью.
Мы Русь не выдадим, враги падут,
И я увижу Рюрика воочью.
Сквозь Ледяной поход, побоище на льду,
Он прискакал со знаменем к столице.
Мы благодарны. Я к тебе иду,
Жена усталому воздаст сторицей.
5.7.1942
«Лилит, Сафо, Офелия и Ева…»
Сегодня виденье возможного дня,
Как смерть, как рожденье, коснулось меня.
В привычных словах, в начертании чисел
Настойчивый зов, узнаваемый смысл.
Созвездья, соцветья, союзы, семья
Круги замыкают возле меня.
И будущим ширится пустота,
Сквозит и – срывается темнота.
И радость, почти что, приникла ко мне:
Сияющий иней на мутном окне…
Не спорь, не дрожи, не гори, покорись.
Здесь ад, словно парус, в закате повис,
Здесь рай отступает. Осенняя высь,
Как призрак вещает: не обернись.
Придет этот час – равновесие сфер.
И мир за оградою – больше не сер.
И я – не черна. И ты – больше не бел.
Пишу черновик. Заполняю пробел.
«Мой друг, примиренность прежде…»
Лилит, Сафо, Офелия и Ева,
Придите мне сегодня помогать.
В день радости, усталости и гнева
Я не хочу, я не умею лгать.
Нарцисса, Кайна, Ангела и Яго
Мы встретим хором жалоб и стихов.
Постель свежа, а на столе бумага,
И голос женский из-под ворохов
Таких стихов, как ни одна не может
Тебе или иному написать
Ведь нас тоска, нас червь могильный гложет,
Нас не хвалить бы надо, но – спасать.
И сжалиться над нами на минуту.
Потом мы снова встанем и простим.
Сирена в Одиссееву каюту
Как рыба смотрит холодком пустым.
Но змеями волос метет Медуза
Песок у ног убийцы, и – слепа…
Моя надежда, падаю от груза,
Широк твой путь, узка моя тропа…
7.7.1942
«О, если ты придешь ко мне в июле…»
Мой друг, примиренность прежде,
Чем даже начало пути.
Я в серой и пыльной одежде
Хочу за тобою идти.
Я мудрости не научилась,
Но верить в нее начала,
И кровь моя не просочилась,
Но в сердце сгорела дотла.
Смотри – непотухшие взоры,
Но их привлекла тишина.
На платье моем – не узоры,
Но вечные письмена.
И ночью за лунным сияньем,
А с солнцем – на Купину,
Иду за твоим обещаньем,
Не данным еще никому.
9.7.1942
«Как всегда, утверждение Ваше…»
О, если ты придешь ко мне в июле,
Я буду жить еще, и петь, и знать,
Что яблони меня не обманули, —
Стоявшая рядами чванно знать.
Цвели, как фрейлины в своем уборе
Национальном, шитом серебром.
Теперь сложили ручки на заборе
И ждут, пока мы их не оберем.
О, мы ведь знаем – бледные, худые,
Они вальяжно станут румянеть.
Несут корзин – кареты золотые.
Всё к сроку: золото, рубин и медь.
29.6.1942
«О, как Вы страстно этого хотели…»
Как всегда, утверждение Ваше
Очень спорно, Марина, но Вы
Над горчайшей и полною чашей
Не склоняли своей головы.
Пили так, как на ассамблее
Пил гордец Большого Орла:
Хоть и пьян, но не плачет. Бледнеет,
Но сидит и глядит из угла.
Все до дна. И во здравье Петрово.
Недоволен. Не обессудь.
У раба – свободное слово.
Сердце живо. (Изрублена грудь.)
Завтра выспимся. Опохмелимся.
А сегодня – Пьянейший Совет.
Мы ужасно как веселимся
И танцуем в Москве менуэт.
Так, Марина, и Маяковский,
И Есенин – Ваши друзья,
Поплясали в хмелю по-московски,
Потому что иначе – нельзя.
Разрезали наутро вены
И кудрями лезли в петлю.
Эх, кремлевские крепкие стены,
Эх, толпа, что кричит: улю-лю…
Где не горечь любви неудачной, —
Там родимый народ освистит,
Замолчит до каморки чердачной,
Позатравит, задавит, сместит.
Ваша дочка вторая, Ирина,
Похоронена где-то в Москве.
Бог Вам дал любимого сына —
Передышечку на траве.
Ваша первая – ангел Аля,
Встретит Вас над Кремлевской звездой:
– Я осталась ребенком. Я ли
Поддержать не смогу родной?
И пойдете Вы – цепкой, крепкой,
Твердокаменной, как по земле,
За любовью своей – за цепкой,
Как звезда на старом Кремле.
Вам, Марина, мы тут не судьи,
Мы поклонники Ваши тут,
Мы свои подгоняем судьбы
Под такой же, как Ваш, уют.
Накануне отъезда, в Париже,
Землянику мне принесли.
«Я в Нормандию еду». И вижу
Вместе с Вами Москву вдали.
«Счастья я, Марина, желаю,
Даже и в Нормандии, Вам».
До свиданья, такая злая,
Я Вас помню и не предам.
Что ж, Россия, еще грехами
Ты не слишком с зарей пьяна?
Ассамблея твоя со стихами,
Ты до смерти влила вина.
Что ж, Россия, ты лихо рубишь
Под коленочки лучший дуб,
Что-то мало поэтов любишь,
Только кубок держишь у губ.
Нам не только бы пить с тобою,
Нам бы нужно и пописать.
Призадуматься над судьбою,
Карандашик свой покусать.
Чтоб стрельбы было меньше, шуму,
Чтобы комната – чуть светлей,
Чтобы время – подумать думу,
Чтобы на сердце – потеплей.
Мы ль не любим тебя от века.
Мы ль тебя не ведем вперед?
Вот – стихи. И душа – калека.
Вот петля – роковой исход.
Ах, набатом военным выла
Над тобою, Марина, Москва.
Самолеты бросали с пыла
Над траншеями не слова.
Но над фронтом восточным грозно
Цвет медовый волос сиял,
Резко, требовательно, не слезно
Ты кричала: еще не взял!
12.7.1942
Я подыму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок.
«Птица вещая – Гамаюн…»
О, как Вы страстно этого хотели,
Всю жизнь была протянута ладонь.
И не в душе – во всем усталом теле
Дышала жизнь, и жег ее огонь.
Как я надеюсь, что теперь в ладони
У Вас цветок – огромная звезда.
Ее никто не отберет, не тронет.
Она не увядает никогда.
Вы сами были стоголосым чудом,
И мы его не смели удержать,
А что еще хранили Вы под спудом,
А что еще хотели б рассказать?
Ваш предок боковой, Адам Мицкевич,
Любил Россию (Пушкина), а Вы —
Вы – «пушкинист и критик Ходасевич»,
Любили все, изгнанник из Москвы.
Как мало чтут поэты и поэта, —
Учились очень плохо по стихам.
О, сколько раз я Вас прошу за это
Не осуждать по делу, по грехам.
Ведь я исправлюсь. В дымном, душном зное,
За бриджем вечным и в кафе
Я Вам теперь порасскажу иное.
Кончается с зарей моя игра.
Сыгрались пары, впрямь, теперь на диво
И разойдутся в розовом свету.
Я больше не играю и радива,
Я воплощаю лучшую мечту.
И, если Вы хотели прежде ставить
На полудетские мои слова,
Теперь и я сумею их исправить,
Теперь и я, совсем как Вы – жива.
У… стоят, журчат фонтаны,
С конечной остановки автобус
Сворачивает в радостные страны,
Где я Вас снова отыскать берусь.
15.7.1942
Птица вещая – Гамаюн
Не касается нынче струн.
Птица горести – Алконост
Улетела до самых звезд.
Только Сирин поет в дому,
А о чем – и я не пойму.
– Нет радости – нет тебя.
Сирин, он не придет, любя.
Сирин, Сирин, он не придет.
Он – холодный, как первый лед.
Сирин, он говорит: не хочу.
Мне, себе и даже лучу…
Отвечает Сирин, кружась:
Он – жених. Он – Сокол. Он – князь.
7.7.1942