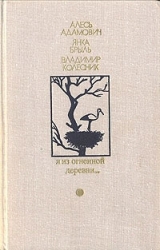
Текст книги "Я из огненной деревни…"
Автор книги: Алесь Адамович
Соавторы: Владимир Колесник,Янка Брыль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
3
Деревня Первомайск [25]25
Бывшее Кобылево.
[Закрыть]Речицкого района Гомельской области.
Сюда мы ехали через Днепр, любуясь им с высокого моста, потом – полями, лугами да лесом, миновали несколько нефтевышек – полесскую новь – и вот сидим в хате Павла Марковича Скакуна.
За окном покачиваются от ветра тощие подсолнухи. На одном подоконнике громоздятся недоспелые помидоры, на другом – умывается кот, пророча каких-то гостей еще.
Хозяина нам позвали с работы: он – мелиоратор, был на своих канавах. Не хотим его задерживать излишне, но и не спешим во вред делу. И он не очень спешит.
«…В сорок третьем году, четырнадцатого мая, с самого утра приехал немецкий карательный отряд. Ну, я малый был, двенадцатый год, я об этом ничего не знал… Они окружили деревню. Мы пахали, батька, значит, и я был с быками: водил. Бегут немцы кругом и кричат, чтоб мы бежали в деревню. Нас толканули, и мы пошли в деревню.
Приходим мы с батькой в деревню, а там уже три немца вытащили такие вот браунеры, пистолеты и гонят людей по деревне.
Тут батьку раз – забрали телят грузить на возы. А я пошел к матери. Нас всех было четверо. Шел я, шел, вижу: одна женщина за хлев утекает, а немец ее раз – и убил. А тут они с мотоциклами… А та сторона деревни горит. И гнали нас до того перекрестка. Они загнали во двор и решили разделить. Как разделили, значит, дак мать в одну сторону пошла, а я тут остался. Одна женщина стала бежать в ворота, а я – за нею, дак она мне: „Куда ты?“ Дак я не пошел за нею, побоялся.
После – в хату. Там один мужик, высокий такой, уперся в дверях и не пускает никого, чтоб не заходили туда. А немец ему тем браунером – по голове. Ну, деваться некуда, дак я между ног у того человека и – в хату. Захожу я туда, а там полно уже. Зажгли в красном углу свечку – обычай такой в деревне, – сидят, о чем-то молятся, крестятся. А я ничего в этом не понимаю. Я стал в углу у стенки, потому что я один: я этих людей не знаю. Знаю, но мало.
Тут окно одно выбито, и через окно одна покатилась, синенькая, как картошина, – граната. Как лопнет она, значит, – пораскидала! Кого ранило, кого так отбросило. Меня только воздухом ударило. Я ростом небольшой, дак оно, видать, выше пошло, что ли. Меня об стенку только ударило, и я оглох… А потом из трубы сажа как пошла – темно в хате! – ничего не видать. Те попадали, значит, корчатся, ползают, кричат. Я вижу, что около порога место есть. А у меня была лохматина такая, дак я пошел да лег и укрылся ею.
Лежу я и слышу: кок-кок-кок – идет. Он от меня и начал. Бух, значит. Дак меня пуля – вот сюда. (Показывает.)Три раза слышал я, как бухнуло. Шум у меня в голове, ничего я не помню. Стрелял он там, стрелял…
Оглох-то я оглох, но не совсем, и глаза видят. Вижу: они порасселись, говорят что-то. И смех там был. По-немецки и по-русски – слова бросали разные. Три человека их. Потом, как выходили, дак, видать, смекнули, что все люди – вытянувшись, а я – наполовину согнутый был. Дак он как дал мне в колено сапогом или ботинком, дак аж рассек колено. У них – железо на носке. Я уже как дохлый был, я уже ждал, что пуля шлеп – и по всем будет. Они что-то там буркнули и пошли.
Запалили они хату отсюда, от меня. Крыша соломенная была, а они отсюда от дверей и запалили. Сени начали гореть, двери начали гореть… Потом двери упали ка меня – и мне уже горячо, я уже горю. Я оттуда выбрался, а отсюда уже крутит пламя, выгоняет меня. Я хотел сначала под печку, но там валенки всякие, – там могу и сгореть. Дак я в окно.
Выскочил, а эти немцы недалеко, метров тридцать. Они, видать, стояли и наблюдали. Я, значит, через это окно, которое выбито, куда они кидали гранату, перемахнул и – там канавка была небольшая – пополз. Там пожарная стояла, дак я за эту пожарную, а потом – в кустики.
Не доходя до моста, немец меня заметил и – за мной. А на эту сторону дороги бежали две пацанки. Дак я под восток, а те пацанки – дальше. Он их убил, они попадали, а я – под сваи и лежал, до самого вечера в воде. Потом шла тяжелая машина и чуть не придавила меня. Как даванула на те сваи…
Когда они нас поубивали, дак долго сидели и гергетали – минут пятнадцать-двадцать. А потом вышли и запалили хату.
Вопрос: – А о чем они говорили? Вы слышали? Вы понимали их?
– Да нет. Там же и повернуться негде. Как повернешься немного, дак сразу пуля, они ж готовы на все.
А люди, которые недобитые, дак они стонут. А он как услышит – дак и направляет туда пулю…
Как я потом там поднялся, дак видел, как соседка лежит, этак вот дитя держит. Сундук какой-то, дак она к сундуку вот так притулилась и сидит.
А муж уперся в стену, и сын, годов пятнадцать…»
4
Харитоново Россонского района Витебской области.
Павла Александровича Лазаренкомы не застали дома. Поехал в поле, сеять.
Райкомовский шофер знал, казалось, не только все деревни района, но и все хаты, всех людей. Однако и он не сразу разобрался, где то поле, куда те хлопцы поехали сеять подкормку, люпин и овес. Мотались мы от перелеска до перелеска, заплутались и начали искать тех сеятелей – по тракторному гулу. Останавливались и, сквозь густой да усердный щебет жаворонка, слушали, где он, тот трактор, гудит. А не услышав или плохо уловив гул, не поняв, где он, – ехали дальше. Сначала по дороге, а потом «по-фронтовому», как весело говорил шофер, которому, кстати, в войну не было даже десяти. Пробирались мы то какой-то опушкой, то по какой-то приблизительной дороге, а то и просто по бороздам картошки – где вдоль, а где и поперек. И снова останавливались, снова слушали… И вот наконец нашли! Кажется, даже и не по гулу, а просто наткнулись. Потому что трактор как раз замолк, остановился около возов с семенами.
По нашей просьбе лишние отошли и приглушили гомон. Магнитофон наш примостился на возу и начал писать. Так же «по-фронтовому» – с помехами. После ночного дождя дул резкий ветер. Над зарослью, над сивым, разволнованным житом, мокрыми луговинками и нашей свежей пахотой шли охапками белые редкие облака. Ниже, чем всегда, усердствовали жаворонки, ближе и больше, чем всегда, считала кукушка, скулили два чибиса, раз за разом размашисто снижаясь чуть ли не до самого воза… И еще не все, – наш уважаемый Павел Александрович, раненный когда-то в рот, как ни старался, а говорил невыразительно.
Хороший хлопец, из тех, что умеют, и не стараясь, сразу нравиться.
«…Ну, это было в сорок третьем году. У нас была партизанка [26]26
Партизанское движение (бел., разг.).
[Закрыть]. И немцы были – и танки, и самолеты, и орудия… И вот шестого февраля сорок третьего года немцы ворвались к нам, на нашу местность.
Пришли они сюда, а люди, конечно, в беженцах были, много уходивши. Потому как они уже знали, что будут издеваться.
И вот когда они пришли, сразу, шестого, всех людей собрали в один дом. Тесно там было, невьютно, в общем – люди мучились. Потом, на следующие сутки, седьмого февраля, нас разделили. На два дома. В одном невозможно было.
У них были списки, кто-то им подал, партизанских семей. У нас такая байня была, и они согнали туда людей. Мы думали, что они нас запаливать будут. Живых спалят. У нас была одна учительница, Дроздова. Ей просто и одеться не дали дома. А мороз такой был, метель. И что вы думаете, – она там, в байне, с ума сошла. Одежу все на себе рвала, волосы рвала, „ратуйте!“ кричала. В общем, сошла с ума. Не выдержала. Еще потом один, Захаренко Владимир – тоже… В общем, всем худо было, У всех настроение нехорошее.
В десять часов утра раскрылись двери, и говорят:
– Выходи, половина! Поедем в Германию на работу.
Нас вывели. Кругом охрана. Никуда не денешься. Они не повели нас дорогой, а на поле. Повели на поле, на поле нас выстроили в ряд всех, сами зашли в затылок, ну и давай стрелять по нас…
У меня был отец, я и брат. Матери не было. А мама наша была в поселке: немцы утром взяли ее на кухню, горох перебирать.
Ну что, поставили нас в ряд. Большинство было стариков, детей было, наверно, человек семь или восемь. Детей на руках держали. И вот они как стали стрелять… Я не знаю, как у меня получилось. Я сразу полетел, на меня полетел отец мой, – ему сразу как дали пулей разрывной в бедро, так ногу и отняло. И брат мой повалился. А я как повалился – сразу стих…
Старухи плачут. Одна женщина была с ребенком на руках, ее убили, а ребенок ползает по снегу… Немец подошел и его там сразу… Расстрелял на месте.
Стихло немного, вот, немцы ушли, а одного оставили дежурить. И вот тот немец ходил, каждому в голову бил. Стрелял. И ко мне подошел. А я когда летел, дак у меня шапка свалилась с головы, съехала. Он выстрелил, голову задел разрывной пулей, шапку всю разбил, а я – остался жив. И еще один парень. Он и сейчас живет у нас, в Харитонове. Казюченко Евгений Александрович. Мы лежали, лежали, замерзли. Потом его мать поднялась. Она старуха православная была, давай креститься…
Вопрос: – А немец этот ушел уже?
– Не, не ушел. У них охрана была на горе, два пулемета. Когда мы поднялись, начали бежать – они из пулемета по нам. Как стали бить – ну что… Хорошо, что кусты недалеко. Мы в кусты – и пошли по кустам. Вошли в лес Лесневский. Уже мы ходили всю ночь. Ночевали в лесу. И мокрые, и голодные. Куда ж нам деваться? Где партизаны, где немцы?..
Пошли мы в Миратин, там у меня бабушка жила. Приходим туда – там никого нет… Сначала зашли мы в Скуратово. Там в одной хате сидят девочки. Мы попросили у них есть – они нам не дали. Потому что не было чего. А когда мы входили в деревню, дак был спаленный сарай и люди: их, значит, согнали в сарай и запалили…
А потом я добрался до Миратина, там моя бабушка жила, и там я отлежал шесть месяцев.
Вопрос: – А сколько, скажите, вас там лежало, убитых?
– В нашей группе было двадцать три, а другая группа была – двадцать два.
Ну, вот и все. А как там дома случилось – я сам не видел. Расстреляли мать и брата моего. Вывели их за поселок, покололи штыком. Искололи лицо все… А батьку, когда он утекал… Он жив был, только нога оторванная, потом они пришли и в голову разрывной пулей. Ничего не было – вся голова…
А ребята, маленькие дети, – в головы побиты, страх было глядеть…»
В то трагическое для харитоновцев время Павел Лазаренко был не подростком, как нам перед тем в деревне сказали, а уже юношей. Это нам стало известно в самом конце нашей беседы, когда мы услышали, что ранило его в рот и «все побило там» уже на фронте, в Германии, а тогда, в Харитонове, каратели ранили его иначе.
Рассказ его мы даем в этой главе, как нужное вступление к тому, что сообщил нам после Евгений Александрович Казюченко, которому тогда было четырнадцать.
Женя стал инвалидом труда и войны одновременно. Уже на седьмом году после победы трактор его наехал на противотанковую мину. «Трактор весь побило, – говорит бывший тракторист, – а мне вот – ногу и руку…»
Нашли мы его дома. Записывали в хате.
«…Это было в сорок третьем году, восьмого февраля. Пришли они к нам, уже сюда. А у меня был брат в партизанах. И вот за брата меня и мать поставили под расстрел.
В две хаты было все это население согнанное… Из одной хаты вызвали партизанские семьи, из другой вызвали и всех нас отделили.
– Поедете в тыл к немцам, скот будете доглядать.
Он так сказал, чтоб народ не волновался. А как оказывается, не в тыл скот доглядать, а всех собрали нас в байню. Это было точно человек сорок пять. Заперли в байне, часового поставили, а тогда пришел немецкий офицер, подсчитал, видать, сверялся, точно ли. Вышел из байни, и немцы пришли, скомандовали:
– Выходите!
Ну, вышли мы, они нас оцепили. А снег же тогда глубокий был!.. И повели на гору. Расстреливать. Там были и дети, и старики, и старухи – все. Подростки. Всяких видов люди были.
Завели за гору и построили в одну шеренгу. Когда покроили, немцы тогда – позади… Шесть немцев тогда расстреливало. Из винтовок расстреливали. Ну, они шага за три стали сзади в шеренгу и начали уже расстреливать. Выстрелов так пять раздалось, и я гляжу: там человек упал, там… Значит, не по порядку они расстреливали.
Как раз мать моя стояла. Мне тогда годов четырнадцать было. Я тогда мать в снег пихнул и сам сообразил, зачем стоять: кто стоит – того убивают. Я упал и качнулся, чтобы сильней в снег въехать, и въехал в снег…
Ну, а кто стоял, тех всех поубивали.
Когда поубивали – тихо стало все, а все-таки боязно было голову подымать. Тут оказалось, что пять немцев ушло, а одного оставили. Людей били сзади, а люди вперед валились. А он шел спереди и давай снова, этот уже эсэсовец – вторично уже убивать людей. Три раза винтовку перезарядил. Винтовка – пять патронов. А я на это смотрел. И я знал, что в винтовке пять патронов… Руки я отморозил, мороз был большой, градусов тридцать, а то и тридцать пять. У меня как раз руки распростерты были, он шагнул между моими руками – только шинелью протянул… Ну, и пошел он уже.
А мы все-таки боялись головы подымать.
Тогда я услышал нашразговор. И моя голова будто сама подскочила. А это сосед оказался живой. Его брат живой, и батька живой был. Батька в ногу раненный.
Тогда мы уже стали рассуждать, идти батьке или на месте лежать… Но на месте целый день не вылежишь: мороз большой. Давай уже утекать будем.
А на горе пулемет у них был: охранялись, чтоб партизаны не напали. Лазаренко вперед побежал утекать. Тогда я своей матери:
– Ты следом утекай!
И уже я стал утекать. Когда я стал утекать, поднялся, а ноги – уже кровь застыла, не мог утекать, дак я ползком метров шесть или семь прополз – ноги стали работать – встал. Только метров десять отбежал – заметили. Пулемет и два немца стояли. И сразу давай из пулемета по мне уже… Это там тростник был, кустики. Пока не бегуне стреляют, как только подымусь, стану двигаться – так стреляют. Сяк-так я утек, не застрелили.
А отец Лазаренки в ногу был раненный, этот уже не утекал. А братишка малый, когда мы утекли, дак он уже отполз и в деревню пришел сюда. Братишка Лазаренки.
д этот, который списки делал, продал немцам партизанские семьи, этот увидел, что „партизан прошел битый“, опять немцам сказал, что этот братишка остался и что мать осталась. Она горох какой-то перебирала, военным, – немцы заставили. Забрали этого пацана и мать, повели вот сюда за огород и убили.
Вопрос: – А что ж это за гад был такой?
– А его тогда – приехали немцы на третьи сутки и всю семью убили.
Вопрос: – А как его фамилия?
– И его самого убили. А как фамилия – ей-богу, не помню. Кажется, Верига.
Вопрос: – А мать ваша тоже осталась?
– Мать осталась живая. Она еще прожила двенадцать лет, а потом померла.
В сорок четвертом году пошел я на курсы трактористов и потом работал трактористом до пятьдесят первого года, пока на ту мину не наехал… Ну, а теперь вот нахожусь инвалидом, помогаю в совхозе, что могу…»
5
Миколая Михайловича Богдановичанашли мы в Слуцке, на строительстве мясокомбината. Как раз кончалась смена, и сорокатрехлетний плотник, закрывшись с нами в прорабской, за дощатыми стенами которой слышался грохот и гомон, рассказал нам, как он удирал из родной деревеньки Гандарево, когда она была в своем последнем огне.
«…Мы как раз были в хате все. Мать ставила еду на стол, а тут немцы налетели на деревню. Никто никуда не успел убежать.
Немец пришел в хату и говорит:
– Матка, иди корову выгоняй!..
Она пошла, а он достал пистолет и убил ее. На моих глазах. В хлеву. А потом вернулся в хату. А я на дворе спрятался.
Брат был. Постарше. Уже был раздетый, как больной лежал, – чтоб в Германию не взяли, – дак он взял и застрелил его в постели. Младшего брата с печи снял… Девочку тоже убил… И вышел из хаты.
А я потом вбежал, брата поднял меньшего, Ваню, и – убегать с ним.
Выбежали мы из хаты вдвоем, и я еще забежал в хлев маму поглядеть. Думаю: если брат живой, дак, може, и в маму не попали…
Брат побежал прямо в лес, и его догнали. В руку выше локтя и в голову… Потом его там нашли.
А я не побежал, я между двумя хлевами залез в проулочек. Дядькин хлев и наш. Сижу там. А потом, как хлева начали гореть, дак я думаю, что они будут разваливаться и придавят меня… Я оттуда вылез и ходу с одной стороны на другую: чтоб он и из дядькина двора не шел и из нашего. А они меня заметили. С направления Тихани, соседней деревни, они ехали. И послали одного Я вижу – он идет… Думаю: они меня не видят. А лото а он голову из-за угла, и я – из-за угла. Дак я ему: „Панок! Панок!“ Да этим… Извините, мерзлым конским говняком из-за угла запустил. А сам бегом на свой двор, через колодезь, через забор и полетел дальше по улице.
Вопрос: – А он поскользнулся, немец? Так нам ваша сестра рассказывала.
– Поскользнулся. Ну, он, може, думал – гранатой я пустил. Черт его знает, что он думал, факт, что так было Он упал, а я за это время – на третий двор… А потом ползком, ползком, за бурты… Там была конюшня колхозная, а уже от этой конюшни до лесу метров пятьсот было. Снег растаявший был от пожару, снегу много – никак не могу бежать. Полз, полз, а потом подхватился и – бегом. Где уже снег твердый. Добежал до лесу, и тут все равно как кто-то в затылок меня ударил – темно в глазах… В одну ногу ранили и в другую… После очнулся, слышу – стреляют…
В Стареве люди меня перевязали, и я пошел в лес…»
Не разговорчивый Миколай Михайлович. Расспрашивать надо было, подшевеливать вопросами. И стеснительный. Про ту мерзлую «гранату», которой он, мальчуган, напугал взрослого с погонами и автоматом, он вообще не думал вспоминать. Если б Зоня Михайловна, сестра его, к которой мы перед тем заезжали, не рассказала про это, так он, как сам сказал нам, «постеснялся б говорить»…
ДВЕ СТАРОСТИ
«Головка его болит…»
У нас был перерыв, целая неделя, когда мы были дома и жили больше заботами и радостями своей повседневности, и потому теперь солнечный, зеленый июнь мы по домашней инерции воспринимаем без страшного глубинного подтекста – без людских воспоминаний о крови и огне.
Деревня Ольховка Кличевский район Могилевской области
Спешились мы около нужной нам хаты, идем от машины к лавочке перед палисадником, на которой сидит Дедок Тихонький, серый, маленький, седой. И не в тени, хоть жара, а на солнце. Здороваемся, а он не отвечает, спрашиваем, а он молчит. Да не от грубости, потому что осмотрел он на нас то ли приязненными, то ли безгрешными глазами. Не улыбается – только глянул неторопливо и безразлично, и снова смотрит куда-то, будто вперед, будто вдаль.
Стережет что-то? Обдумывает? Просто любуется тем, на что глядел столько лет, а все же не нагляделся? Видать, ни одно, ни другое, ни третье: на все на это нужна какая-то активность, а он, дедок, просто смотрит. Сидит себе и смотрит…
Поняв, почувствовав, что это не тот, кто может нам помочь, идем в калитку. Уже во дворике нас встречает шустрая, приветливая бабуся. Да еще и толковая – быстро смекнув, что нам надо, приглашает в хату, а деда своего с улицы не зовет.
В хате чисто и пусто, и, не спрашивая, можно догадаться, что дед и баба, как во всех почти сказках, живут одни.
Присев к столу, бабуся, как большинство тех, с кем мы уже встречались в хатах и на поле, на микрофон не обращает внимания, – просто рассказывает людям, и все.
«… Как меня, говорите, зовут? Цмыг, Грипина Павловна Цмыг. А сколько мне лет? Мне уже, хлопчики, два года еще и тогда будет восемьдесят. Ой, давно уже живу-у, ой-ой-ой!.. (Смеется.)А он у меня, мой хозяин, уже совсем… Он старше меня. Може, на тринадцать или на четырнадцать лет. А зовут Амельян Атрафимов Цмыг. И тот мой дед был Амельян, первый муж. Этот мой дед вдовец был, у него пятнадцать душ убили немцы, в яме в той лежат. А он остался, этот дед.
Ну, я осталась вдовой. Мой сын был в партизанах. А он, этот дед, да того моего деда кум. Дак он говорит:
– Знаешь что, кума, давай мы будем вдвоем. Дак я говорю:
– Ну давай.
Сын прибежал из лесу, и я спросила:
– Так и так, сынок, что делать?
– Мама, если где прислониться есть, дак ты тут и будь. Може, когда портянки дашь или рубашку переменишь мне, прибегу.
Ну, вот мы и сошлись с дедом, и годов, може, тридцать живем. Уже не в нашей деревне, не в Суше, а здесь.
А теперь головка его болит…
Этот дед и эти хлопцы собирались гуртом – воскресенье было. И женщины принарядились, старые и молодые. Сидят где-нибудь, собравшись. Ну, и тогда это дед стоит в курене, а та баба, первая его, и говорит:
– Собирают на собрание! Иди, дед.
– Я спрячусь.
А она говорит:
– Чего прячешься? – Это ж мы такие глупые бабы. – Что тебе прятаться – все же на собрание пошли.
Ну, на собрание, дак на собрание. Все эти бабы и хлопцы молодые… А хат уже не было, – курени. Хаты попалены были. Землянки были. Дед хотел в землянку под нары, дак она не пустила.
Тогда эти немцы и говорят:
– Вот три человека: этот, этот и этот (стареньких уже: молодых же погнали в плен), три человека надо коров гнать. И гоните их сюда, к речке, на луг, попасите их. А тогда гоните в Кировск. А если не будет коров, дак и вас не будет!..
Это дед мне уже рассказывал все, когда мы с ним сошлись.
Дак они погнали в Кировск.
А они уже их, немцы, людей тех, что остались, – поставили в шеренгу. На собрание. Два поселка было. Километра не было – этот поселок и этот поселок. Дак они – оттуда и оттуда, а посреди – картошка. Выкопали яму, приготовили. И поставили их в шар, и пиляметы наставили. И тогда: „Столько и столько!..“ И бегом в яму. Это рассказывали возчики.
Дак не выдержал человек один из Городца, который возчиком приезжал, – не выдержал, помер.
Людей в яму, в яму, а тогда он пиляметом построчит, построчит. А бабы возьмут… как только уже голосит, дак так во завязывается, да тогда уже в яму. Бросается. Завязав лицо платком. А тогда уже, говорит, другие все…
Откапывали потом. Може, сто пятьдесят этих… черепов…
А как закапывали их в той яме, дак земля, говорили, этак вот дышит, дышит, дышит!.. Это возчики рассказывали. Как раз Хведотовых свояк был. Дак он говорил: „Так все на мне млело“. Помер тот человек, от этого и помер, не выдержал.
Когда мы уже сошлись со своим дедом, дак поискали, поискали его семейных с неделю. Слышим, какой-то рой гудит… А это уже не рой, а всё мухи, оводы всё… А они закопали вот так – тут дорога, а они около дороги, близ в этом… Ну, картофельник большой… Этот мой дед и еще человек три-четыре: „Давай пойдем откапывать. Похороним их отдельно“. Откопали. Как за руку возьмется уже, дак и слазит кожа эта вся. Сопрели. Ну, дак некоторые говорили, чтоб вытаскивать, а мой дед говорит:
– Не буду я трогать их – нехай где положены, там и лежат.
Там мы их и прикопали и обгородку поставили…
После того уже головка его заболела, у деда моего. Вот ничего он так и не знает… Хлопчики мои, как это дожить? И купить все надо, и его доглядеть, как малое дитя…»
Вот и сказка – не сказка про деда и бабу.
Светит солнце, щебечут дети и птицы, весь наш мир живет по-летнему, бабка – веселая, шустрая, добрая – плачет, а тихонький, серый, маленький, седой дедок глядит… Только глядит и ничего как будто не видит.
Если и на самом деле ничего, так хорошо хоть, что он не видит также и роя лесной мошкары, и разрытой могилы со всем своим родом, со всею деревнею – того, отчего «заболела его голова».
Навсегда.







![Книга Торговцы [=Торгаши] автора Жоэль Помра](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-torgovcy-torgashi-256105.jpg)
