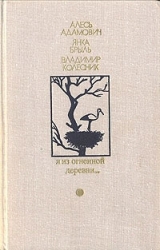
Текст книги "Я из огненной деревни…"
Автор книги: Алесь Адамович
Соавторы: Владимир Колесник,Янка Брыль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Фашизм, его реальное лицо, реальность его планов такие, что природа человеческая отводит свои глаза от всего этого. Ужас такой, что люди вдруг… засыпали. (То, что называют «запредельным торможением». Психика человека, спасаясь от срыва, от помешательства, отключается.)
Про этот внезапный сон нам столько раз говорили, столько людей рассказывало…
«…Ну, мы все поползли по картошке в жито… Мужчины, уже на фронте были которые, понимают, говорят:
– Ну, это уже убивают.
Слышно, что выстрелы, а потом дали гудки. Мужчины говорят:
– Ну вот, сейчас будут жечь деревню.
Вопрос:– А вы в жите?
– А мы в жите сидим.
Вопрос:– В жите они не искали? Из хаты в хату ходили?
– Не, не искали. Из хаты в хату. Може, ближе где мекали, а нас – никто. Только было такое тяжелое… Страх, спать хотелось. Ну, а когда уже запалили…
Вопрос:– Спать хотелось?
– Ну, от страху. Так вот от страху спать хотелось! Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное… Люди ж горели, запах тяжелый был…»
( Ева Ивановна Тумакова. Красница Быховского района.)
Природа «отводит глаза» – человек внезапно засыпает. Часто в самый опасный момент.
«…Рассказать вам, как это все начиналось? – переспрашивает жительница деревни Алексичи Хойницкого района Антонина Лазаревна Кособутько. – Ну, вот я жала за поселком. Я ячмень жала, а жито стояло, и там поубивали двенадцать душ. А как стали они людей тех убивать, дак я вот так легла ниц и заснула. Я не слышала, как их убивали, не слыхала ни писку, ни крику. А дальше уже, как поднялась я – уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и весь скот лишит, ревет тут, в соседском дворе. Дак я встала и стою, а соседка идет и говорит:
– Чего ты тут стоишь? У нас же всех поубивали.
А я думаю: боже, нехай бы и меня убили, зачем же я тут осталась!..»
Такое случалось с женщинами, с мужчинами. И сами они рассказывают о том – с удивлением. И с испугомдаже.
Детская же психика, природа еще поспешнее отворачивалась от такой реальности. И тут неожиданный, внезапный сон часто был спасением – уже в прямом, физическом смысле. Сон прятал детей от убийц. И некоторых – спас.
«…Сейчас приезжает на лошади тот, который добивал. Видит, что человек живой, – добивает. Я глаза приоткрыла и тихонько гляжу на него.
Вопрос:– А дети?
– А дети не шевелятся, спят. Заснули».
( Софья Пименовна Скирманд. Збышин Кировского района.)
«…Когда уже две хаты осталось до нас – они подходят, видим: раскрыли дверь и выстрелили раз. Там одна старушка была. И оставили дверь открытой. И уже последняя хата! В ту, а тогда уже – и к нам. Там, это, староста жил. В той хате. Они шли туда, дак он вышел, а У него, може, человек двадцать в хате. Он думал, спросят что да и уйдут. И вышла его старуха, того человека, и девочка – он, тот староста, неплохой был, его заставили быть старостой. Он не хотел, а заставили. Ни то ни сё, ни туда ни сюда был. Ну, и они его так за воротник, да в дверь. И за ту старуху, за дитя – и начали из автомата бить там уже. А нам уже некуда деваться, мы уже растерялись. У меня четыре души. И соседских детей пятеро было в хате у меня. Куда ж деваться. Они хотели сюда вот спрятаться, под полом, а я говорю:
– Утекайте, а то придут, и они нас или запалят или Убьют. Бежим, нехай стреляют, да и все.
Дак мы кинулись на кладбище, – дети те и мы. Мы попадали – там яма была. Трое детей вдоль дороги вроде бы к Романовне побежали, а двое упали: ветер с сосны сломал верхушку, дак они залезли в ту верхушку. Да и позаснули там. А мы в той яме были. Видим, что стоят немцы вокруг кладбища. Подняться нам никак нельзя: они ходят и гомонят, слышно. Ну, не встаем. Уже они и ушли отсюда, а нам сдается, что стоят там. Спят дети…»
( Ульяна Осиповна Казак. Казимировка Мозырского района.)
Вот так психика человеческая спасалась от помешательства (и подчас спасала детей от смерти). И подсказывала, что происходит что-то такое, на что природа человеческая «не рассчитана», «не запрограммирована». Несмотря на весь прошлый опыт, который оставили человеку и человечеству Тамерланы и чингисханы всех веков и народов.
Если так помнят, такие подробности, – веришь в правдивость. Сидит женщина – тревожное, вопрошающее, готовое к мукам лицо, взгляд – как в больнице перед серьезной операцией. Тут не до придумок!..
Некоторые рассказывают с такой готовностью, будто они тут ждали этого все тридцать лет – чтобы вот так кому-то, кто от далеких людей приехал, пожаловаться, всему свету поведать, что тут делали с ними.
Акулина Панкратовна Габрусь. Козуличи Кировского района.
«…Ну, у меня была девочка два годика на руке, во тут во. Правда, у меня документ был, взяла я документ. Ну, гнали, пригнали. Я думаю: боже ж мой, где ж моя семья? Только одна девочка у меня на руке. Пригнали. Кто говорит, что будут в беженцы гнать, а кто говорит, что будут убивать, а кто его знает! Я думаю: куда мне, боже мой? Потом погнали людей по шляху. А соседка идет и говорит:
– Ат, Кулина, пошли, куда люди, туда и мы! Что бог даст!
Дошли мы только до крупорушки, из-за хатки выходим – немцы выносят те весы. Дак я говорю:
– Ну, молодичка, нам уже бог дал.
А нам было слышно, что в Лютине загнали в мельницу й спалили людей. Я говорю:
– Ну, Явгинья, нам уже бог дал. Она говорит:
– Ага, уже.
Ну, их обняли кругом, один к одному стояли – кругом! И пальцем не проткнешь – от шляху и до шляху, кругом этого здания. А людей же полный двор. И вот их прут в эти двери, душат, гонят в эти двери, а там – в крупорушку. А у меня девочка на руках, во тут во. И у меня – документ. Я как глянула – уже мама там и тата. Этих людей уже так душат, так бьют! Один тут стал проситься, дак его – прикладами. На штыке и поперли туда. Это мужчина был. Молодой попался. А я с этой девочкой. Оглянулась вот так назад – мама стоит моя.
– Мамка, говорю, уже все наше!
Я ее целую, дак она – как лед. А тата – уже дальше немножко. А уже… А тут одна, знаешь, женщина, две девочки и она. Они к немцу одному, попросились – он пустил. Эта во Ульяниха. Пропустил. Тогда я глядь – боже мой, надо было и мне с мамой идти! И у меня уже темно в глазах стало, я ничего не вижу. Только вижу тень человека, который уже отпустил этих. Дак я подошла да: „Пан!“ – вот перекрестилась, а тогда эта моя девочка – у меня вот тут документ был, я забыла о нем – это мое дитя вытащило этот документ. А боже ж мой, дак это ж у меня документ! Я ж уже забыла…»
Ни за что могли убить целую деревню. Потому что убивали, излишне не разбираясь, кто там какой, есть у него «аусвайс» или нет. И вдруг женщина показывает какую-то там бумажку, и та спасает ей и ребенку Жизнь… Случайность, которая только подчеркивает, насколько все их «причины» и «доказательства» придумывались на ходу не очень даже и старательно.
« Вопрос:– Сколько вашей девочке было?
– Два года.
Вопрос:– Она сама взяла эту бумажку?
– Ну, она – вот так… Я ее держала, я про нее забыла, уже у меня темно было в глазах, ничего, только вижу, как тень человека идет. Я – ему, а он, правда:
– Матка, туда!
Я перебежала на эту сторону, упала. Упала с этой девочкой. Потом приподнялась. И идут еще – одна шеренга, другая шеренга. Думаю – все равно – те отпустили, эти убьют. Не. Не тронули. Тут дохожу только до того, до шляху, идет человек. Несет документы, сбегал и уже документ этот взял, и женка и двое деток. Узелок еще одежи несут. Я думаю: „Господи, куда ж вы, люди!“ Думаю, скажу – другие ж прошли и не сказали им – думаю, скажу, дак и меня убьют. Их уже как довели, дак убили там…»
Убили, хоть тоже «документ» имел человек. Какой уж тут документ, когда действует «план»!
«…Я как оглянулась: „Э-э, уже дым!“ Только пулеметом, слышно было: тр-тр-тр! Как вталкивали там – так сразу и убивали. А тогда уже и запалили. А этого немец вел, что с документом, если бы не немец, дак я ж бы сказала, что убивают.
Три года оно, може, у меня с глаз не сходило, стояло в глазах и стояло…»
И теперь оно не «сходит с глаз» у Акулины Панкратовны – то, как убивали Козуличи – ее родных, соседей.
Нашли мы и ту женщину, о которой говорила Акулина Панкратовна – Дрозд Ульяну Прокоповну. Она также своими глазами видела весь ужас расправы над жителями Козуличей.
«…Ну, мы уже стоим… Всех околотили, только одни хаты остались. Отца и мать мою и две сестры младших.
Ага, когда всех гнали, я осталась и еще двух свиней и две коровы понакрывала соломой. И собака на цепи. Они подошли:
– Авек, авек, авек!
Я собралась и пошла к шляху. Выхожу – все стоят семьями! И плачут. Стоят навытяжку и плачут…
И повели нас. Где вот это кладбище, тут стояла мельница, крупорушка, жил мельник. Так старая его хата была, а так – новая. Ну, вот туда заходят:
– Заворачивайте направо!
Заворачиваем. Мельницу раскрыли на две половинки, и у дверей стоят весы мельничные.
– Заходите, выносите весы!
Немецкая одежа, а по-нашему, по-русски говорят:
– Заходите! Никто ж не идет.
– Заходите!
Никто не идет в эту мельницу. Они – такие плетки резиновые, через руку вот такой ремень – и этой плеткой через голову, через голову! В ряду шли семьями, дак вот так мужчины позакрывали своих. Бросили бить. Бросили, крупорушку эту раскрыли – а крупорушка на две половины – широкие двери, засов был. Они открыли эти две половинки дверей:
– А ну-ка, заходите сюда!
Ну, кто идет, кто не идет. Они сами зашли и кличут:
– А ну-ка, – кличут, – заходите, заходите!
– Авек, авек! – немцы. А эти по-русски:
– Заходите, заходите!
Людей и втолкнули в эти двери. В эту крупорушку. А я, значит, – стоит в немецкой одеже, – я говорю:
– Пустите меня, – и какая-то у меня была справочка. В Любоничах давали. Я говорю: – Пан, пустите меня.
Посмотрел на эту… бумажку, за руку меня, через шлях перевел меня.
– Садись и сиди тут, – по-русски. – Сиди, пока я не приду, не удирай никуда. Если побежишь – убьют тебя.
Ну, что будет, то будет. Я села и сижу. А мама моя говорит:
– На платок и хлеб уже, в беженцы собирайся.
Два куска сала с собой она взяла, две буханки хлеба – это ж трое детей уже и сами вдвоем, думали ведь, что погонят в беженцы. Я махнула: „Не надо!“
Вопрос:– А мать где ваша?
– В крупорушке уже. Дак думает, что хоть мне понадобится. Хоть мне.
Вопрос:– Она вам это передает?
– Мне не дали взять, не пустили меня к ней, а ее ко мне. Ну, я махнула: „Мама, не надо. Мне, говорю, хватит дома“.
Вопрос:– А с мамой кто из ваших?
– Две девки младших, мои сестры. Ну, немцы за людей – в крупорушку, закрыли этим засовом. А я сижу, ноги спустила вот так в канаву и сижу. Так, как вот теперь на лавке. Проходит этот самый, что меня перевел через шлях. А они бегают, бегают, канистрами – жах-жах-жах, пообливали канистрами. А этот самый подходит ко мне:
– Собирайся – шагом марш!
И шляхом, говорит, бочком, только не беги, будут стрелять, это, говорит, не по тебе. Так он. Ну, я и пошла. Иду – что будет, то будет! Иду, иду, а там человек идет: его пустили домой, чтоб документы эти взять, и двое детей с ним. Немец повел их, тех людей, того человека с женкой и с семьей. А я пошла и пошла. Прихожу на шлях сюда, а тут стоит этот часовой. А эти уже стоят, а машины так ревут, так ревут все. Подходит моя сестра (ей теперь семьдесят два года):
– А где тата с мамой?
А их уже, пока я отошла, запалили, горит уже крупорушка. Говорю:
– Вот, уже горят!
– Гэ-э-э-э! – подняли люди крик.
Вопрос:– Все эти люди? Которые остались?
– Ага. Я говорю: тихо вы!.. Подскакивает один да:
– Успокойтесь, а то и вам ето буде!
Правда, сти-ихли все, как воды в рот набрали! Смолкли. Подбегает Коновалов етот самый – тот, что в красную субботу был…
Вопрос:– Его тогда партизаны перехватили тоже?
– Перехватили и ранили, а кто-то из казюлицких его в уборную спрятали. А через ночь на жеребке завезли в Кировск.
Вопрос:– Он был начальник полиции?
– Начальник самый главный, етой, кировской, ну там. Отрядом уже ихним командовал. Ну, дак он подходит:
– Ну, что – ету сторону на уголь жечь, а ета сторона пусть стоит!
Вопрос:– На деревню показывает?
– На деревню. Эти немцы уже как бежали, а сюда ветерок, как бежали по-за хлевами, по-за хлевами – через одну, через одну запалили. Это уже и горит все. „А вы, говорит, расходитесь“. Все тогда и побежали, и я побежала.
Вопрос:– У вас много людей осталось?
– Наша деревня большая была. Триста восемнадцать уже спалили, с детьми, ну, а еще деревня большая. Я прибежала, еще выгнала корову, теленка и двое свиней выгнала. Стояло ведро, миска и ложек семь – я за ето, на руку и ушла из хаты. А так в хате все сгорело. Ну, ушла, села на улице и сижу уже. Немцы меня не трогали. По шляху едут – все взад-вперед, взад-вперед. Некоторые попрятались, а я сижу, думаю – одна смерть, если я уже оттуда ушла!.. Все сгорело, назавтра приду и на двор еще не могу зайти. Как гляну – не могу, поверите! Тогда открыла погреб, глянула на эту одежу: батькино, мамино лежит… Я, вы поверите, обомлела в том погребе. Ну, и что? Прожила… А забыться – не забылось. Тогда снится эта моя сестра, самая младшая, она такая кудлатая была! Ходила во второй класс. Дак я говорю:
– Вот, Алена…
Знаю, что она сожжена. А она мне:
– Ох, Ульяна, да болела ж моя голова, под полено прятала голову, так припек уже огонь!..
Приснилось. И под полено она прятала свою голову. Так во сне она мне говорит…»
Огненная память, огненные сны…
О снах своих, военных, послевоенных, рассказывали, говорили нам многие. Потому что в снах тех – продолжение их мук. Снова и снова, как самую реальность, переживают люди все то – вместе с погибшими и как бы Уже за них.
Даже «коллективные» бывали сны у людей – после того общего ужаса. И такие, что люди в лесу, поговорив, Переговорив утром, вдруг бежали на свои пепелища – настолько реальным приказом были для них ночные, во сне, картины мучений родных, близких…
Мы – у деревни Лозовая, в Осиповичском районе Могилевской области. Несколько женщин, занятых делом около сенажной ямы, узнав, кто и зачем приехал, говорят с нами, перебивая друг друга: и про вчерашнее все, и, еще больше, про сегодняшние дела, заботы, огорчения. И одно с другим переплетено: жизнь у человека одна, и память – тоже одна. Как на дереве: прежде чем дойдет сок от корней до самой последней, самой молодой веточки, должен он пройти через весь ствол, А эти женщины еще и довольно молодые, крепкие, потому сегодняшние заботы для них имеют значение большее, чем для тех, для многих, кого старость «отсадила в сторонку». Люди, живущие всеми практическими делами, интересами, и вот они нам – о снах. О своих, таких реальных снах. Потому что сама реальность, действительность тогда выглядела жутким сном, кошмаром. Одно переходило в другое, неизвестно где кончаясь…
«…Мы были в лесу, – говорит Вольга Григорьевна Гришанович, – ну, и пришли из лесу, когда наших спалили. Посмотрели, собрали пепел: дети лежат, кажется, живые. Возьмешь – пепелок рассыплется. В одной хате мы собрали всех. Девять цыбарок – одни беленькие косточки. А в другой – там уже была гора. И кровь видна была, их, видать, убивали. Потому что они в куче, и кровь была. По уголочкам были, под печью. Через год один дед… Ему приснилась жена: „Почему ты меня не похоронишь? – говорит она во сне. – Я ж под печью в мухоморе!“ Ну, он никому не сказал, дождь идет, он тихонько эту печь разбирает. Приходим, говорим:
– Дедушка, что ты делаешь?
– А мне, говорит, Алеся приснилась: „Что же ты меня не похоронишь, я уже целый год лежу под этой печью, в мухоморе, а ты меня не похоронишь“.
Правда, он разобрал эту печь, а там косточки, только косточки остались.
Вопрос:– А как фамилия этого деда?
– Прокопович Виктор. А его жена звалась Алеся. Ну, мы пособирали эти косточки и снова закопали. А когда этих хоронили, придем в лес, наголосимся в лесу.
Снова на пепелище прибежим – приснилось нам: „Что вы нас не похоронили!..“ Станем этот кирпич разбирать… Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем, опять эту могилку поправляем. Снова пойдем в лес, ляжем: какой там сон! Но опять снятся: „Вы нас…“ Что всех не похоронили. Снова придем и станем этот кирпич разбирать, искать… Ну, так и остались. А как палили – никто не знает. Ни одной души у нас не утекло. Вот уже в соседней деревне, в Бозке, там в Германию отбирали. А у нас такие были женщины молодые – ни одной души не оставили. Там, так с детьми которые, тех сжигали, а молодых – в Германию.
Вопрос:– А они потом, немцы, поставили здесь гарнизон?
– Это потом уже. А когда жгли, мы прятались в болоте. Трое суток сидели. Залезем на сосну, глядим: никто ни печи не топит, ни воды не носят. Ну, мы решили, что забрали, може, и погнали в гарнизон. Тогда – солнышко заходило – мы говорим:
– Давай побежим, поглядим, что делается…
Вопрос:– Сколько здесь погибло?
– Сто пятьдесят человек наших только. А тут, говорят, пригнали из Лочина тридцать человек. И тех, что в лесу ловили, тоже в огонь бросали.
Ну, что ж, остались по сегодняшний день. Из всей деревни остались: вот нас троих – она со своими детьми, и еще одна женщина с детьми осталась – три семьи…»
…Надо сменить в магнитофоне ленту, остановить рассказ – и боишься: а сможет ли человек, хватит ли у него силы снова вернуться туда… Потому что и случалось, что после такого перерыва человек уже не мог по-прежнему полно, обстоятельно рассказывать. Но чаще было такое ощущение, что ты магнитофонную ленту остановил, а он «остановил» свою. И что на самом деле в нем все это записано. Один раз и навсегда. Один на всю жизнь Рассказ. И исчезнет он только вместе с жизнью, с памятью человека. Действительно видишь, – когда столько, как мы, послушаешь этих людей, – что эта необычная полнота, точность – общая особенность «огненной Памяти». Такое человек не может рассыпать, растерять по дороге жизни – даже и через три десятилетия, даже если бы и захотел…
Однако проявляется эта общая память по-разному, Уже в зависимости от человеческой индивидуальности. Что человек – то и рассказ.
Среди всех выделим пока два типа, два образа рассказчиков, а точнее – рассказчиц, потому что женские воспоминания – наиболее полные, эмоциональные.
Об одном типе рассказчиц мы уже говорили – о тех, которые и говорят, и смотрят, и даже при этом усмехаются как-то странно спокойно, рассказывают неожиданно «эпически». С непривычки и пока поймешь, что за этим скрыто, зажато – делается даже страшновато. Не к месту певучий голос (Барбара Слесарчук из Ивацевичских Бобрович) или звучно-бесстрастный (Ева Туманова из Быховской Красницы) мешает сначала даже чувствовать, понимать, о чем человек рассказывает. Зато, когда наконец дойдет до тебя правда и этого спокойствия, и этой бесстрастности, и этой странной усмешки, еще более невыносимой и жуткой делается правда самого события, самого факта.
«…Через улицу перехожу, – рассказывает жительница Красницы Ева Туманова, а в глазах ее на широком лице ее вопрос, как бы непонимание: что ж это было, правда ли, что было? – гляжу, лежит сродственник, двадцать третьего года рождения, и лежит, и у него кишки вывернулись… Ну, все, живот ему порвало, все… Он говорит:
– Ева, дай мне воды. Я говорю:
– Ай, Игнат, где ж я тебе возьму воды, все ж погорело!
– А вы все живы?
– Убили мою мать, а брат и батька остались живы… А ваших?
– Надю, говорит, убили, а Кастиян где-то пополз в яр…»
Какое-то раздвоение с человеком и в человеке происходит: сам рассказывает и сам как бы спрашивает: было ли с ним это, правда ли, могло ли быть? А если правда, так что же это, и как можно, чтобы такое было?
И это раздвоение видно не только на лице, в глазах, интонации, в голосе (звучно-бесстрастном), но и на слова накладывается. И слова, а не только интонация, уже «не то», «не о том». Горит все, истязают людей, убивают, можно представить, какой ужас, крик над…й, а человек рассказывает, что он не побежал, не пополз, не бросился в жито, а «пошел» («пошли и сели в жите»). Или та же «беседа» девочки (Еве Тумаковой было тогда тринадцать лет) с тяжело раненным родственником. Будто и на самом деле так: «Ай, Игнат, где ж я тебе возьму воды!..» – будто это обычный разговор девчины с парнем среди сельской улицы, в обычный, а не в тот день.
Рядом с образами таких рассказчиц, после таких рассказов, встает из числа многих и совсем иной. В той же Краснице, в том же красницком клубе, записывали мы Нину Михайловну Князеву.
Подошла, присела к столу красивая женщина, совсем еще молодая, и заговорила тихо, почти шепотом. Нет, не от неловкости или застенчивости перед соседями, что сидят у стены, или перед нами, незнакомыми людьми, притишила она так голос, а потому что каждое слово для нее – боль, мука. Не та, не там, а мука здесь, теперь.
Жизнь для нее не разделена на две половины, ибо то, что было, что в ее памяти – продолжается. Такая это натура, душа. И с такой реальной остротой все в ней продолжается, что любая жизненная неудача, обида (муж бросил – сказала и об этом) бьет по тому же воспаленному месту. Такой человек все, даже мелочи, переживает втрое… А на тронутом пулей лице – присмотритесь! – сколько душевной мягкости в этих глазах, в этих детских губах, душевной наполненности, человеческой красоты.
Каждым словом своего рассказа она будто дотрагивается до все той же жгучей, живой боли – и невольно понижает голос до шепота. Будто зажимает в себе ту боль. И голос уже совсем пропадает – только тихий, беззвучный плач… Тихая женская краса, тихий голос, тихие слезы, а кажется, что здесь стоит тот немыслимый крик.
«…Ну, что я знаю. Знаю только, как в нашу хату засняли людей. Когда убивали Красницу, то мы стояли на улице. Мы жили туда, к низине – на поселке. Мы стояли, собравшись, глядели, что тут уже дым. И дождались, что соседний дом, что соседей уже… И подходит к нам – В хату!
Загнали в хату. Нас было три семьи. Наша семья – семь душ…
Вопрос:– Вы стояли и видели, как уже соседей убивают?
– Ну, все, соседей уже… окна бьют и гранаты бросают… А мы еще у своего дома стоим. Мама, отец и я. Отец больной, только что пришел с операции. На войну его не взяли. Ну, стояли, достоялись – приходит:
– В хату!
Загнали нас. Ну, а в хату мы зашли – что делать? Один за другого стали прятаться. Мама кружится, тут и все за ней – никто никуда. Ну, а они стояли.
– Так, долго с вами чикаться? Ложитесь! Только ничком. Ложись!
– Ну, мы – кто куда! Мама хотела под лечь – тут отец крикнул:
– Сгоришь живая!
Она сейчас – на печь. Ну, и мы – скок-скок за ней на печь. Семь человек. Ну, и баба еще была наша. Она залезла уже на печь и загородила нас всех, легла с краю. Ну, они начали бить: прежде на полу кто лежал. Отец на полу был, дед, брат, там еще одна женщина с ребеночком под кровать залезла. Тех поубивали. Я все гляжу, как они все убивают. Я все вижу. Ну, тогда и мне – я ж тогда и ранета – сразу и мне попало сюда вот, в лицо, в одну щеку и вот, в другую выскочило.
Вопрос:– И вы видели того, что стрелял?
– Я все глядела, пока они на полу поубивали. Тогда уже – ко мне! Ну, тут мне попало уже, я прилегла. И брат мой, младше меня – тут, у трубы прислонившись – его не ранило. А мать первая вскочила на печь, дак она так вот легла, за трубу голову. И ей – как били, так мясо летело – голову это обляпало ей. Ну и били на печь все. Старушку ту посекли – она все живая. Мать ранили, там поубивали всех… Семь нас человек, а мы только втроем – мама и я с братом сошли потом с печи. Ну, они уже раза три – побьют и выйдут – слушают, живой, может, кто. Еще раз – услышат, войдут и бьют. Дыму наделают! Вышли. Третий раз, опять вошли – слушают: ну, уже все, никто не дышит! Кто еще жив – притаился.
Вопрос:– И говорят о чем-нибудь, когда заходят?
– Разговаривают сами тихонько, дышит ли кто, слушают. Ну, вышли уже последний раз, говорят, что „капут“, а мы ведь слышим. Мы уже, притаившись, лежим. Ну, что? Не слыхать. Хату запалили. Там, на чердаке, сено было, что ли – оно стало заниматься уже. Мама встает. Тут убитые на ней лежат. Дерг, дернула ноги эти! – она почувствовала уже, что в ногу попало – стала вырываться.
– Ну, еще раз попробую – если вырвусь, то пойдем, а не то гореть будем.
А мы говорим:
– Мамочка, мы лучше гореть будем!..
Да сразу с себя все раздевать, одежу. Она не дала нам раздеваться, говорит:
– Не, подождите, може, выйдем.
Ну, и стали выползать. Ну, мы вышли. Мама прошла еще:
– Кто жив – за мной.
Ну, мы вдвоем с братом идем. Дети. Мне девять, а брату было восемь лет, что ли. Ну, вышли. Она говорит:
– Кто жив – за мной!
Мы вышли, видим, отец вышел. Ранетый. Рука правая и тут вот, в шею его ранили. Ну, выползли, жито было у нас на усадьбе, – по житу. Мама уже стала сознание терять: стала от нас утекать. Дак мы по крови ее найдем… (Плачет.)
Я не могу рассказывать…
Она жить хотела еще. И сознание теряла… Хаты горят, солнце заходит… В леску хата одна осталась – дак уже в ту хату все сползались, кто живой. Дак мама говорит:
– Уже идите, може, где коляску какую, меня завезите.
Пошел брат этот меньшой – ну, это ж ребенок, – пошел в ту хату, там и сел. Пошла я. Мне уже тоже свету Не видно: я же в лицо ранета. Коляски там нема. Мама сгореть хотела – поползла к огню, а ее кто-то оттащил. Снова поползла. Посбивала коленки, ползая. И шел Биськов Яков (он живой теперь) – он ее нес, до дороги пронес. Это с километр будет от той хаты. А потом другой донес, ну, и собрались в ту хату. Все раненые.
У кого была родня – те забрали своих. А у мамы сестры были далеко они пока услышали… По лесу мы скитались. Потом уже коляску нашли: удирают в лес – и мы ее на коляску. А отец ранетый тяжело, он оставался один в том доме. Ну, тут уже говорят, что немцы идут, танки по лесу – деваться некуда Бегут – куда кто, в болото… Ну, мы ушли все, а он… Он сам себе смерть сделал… Надо плакать нам снова… Остались мы. Мама ведь ранета, а еще ж и пацаночка родилась после того. Сидеть некогда, я говорю.
– Мамочка, пойдем в Воровское. Я дорогу запомнила.
Ночью сходила раз и запомнила. Их завела в Воровское. Только завела, и в то утро немцы в Воровское пришли. Ну, и нас выгнали Выгнали в беженцы, гнали, а мы еще утекли. За Кузьковичами, в лес. Поутекали. Жили там с неделю, что ли Окоп выкопали. Ну, все равно нас немцы половили в лесу. И погнали. Жили мы в Ямном – за Быховом. А затем – в Подкленьи, а потом – в блиндажах. И зимой. Пока и война закончилась…»
Голос рассказчицы – все тише, а боль кричит все сильней…








