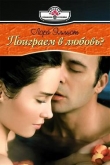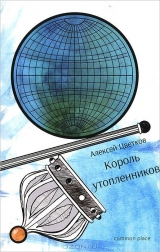
Текст книги "Король утопленников. Прозаические тексты Алексея Цветкова, расставленные по размеру"
Автор книги: Алексей Цветков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
1 Кто такой «я»? Люблю смотреть между вагонными половинами. В метро. Там стальная линия с тремя болтами держит толстую пленку на полу. И вдруг я вижу, что шляпка одного из болтов закрыта десятикопеечником. Он ее закрывает один в один. Такой случайности не может произойти, но это есть. Монета лежит на шляпке болта у всех под ногами и точно, до миллиметра, с ней совпадает. И это рифма, это поэзия, это доказательство бытия божьего, которого мне хватит до конца дней. Она не может быть такого же размера. Она не может лечь так точно. Она не может оставаться там. Но я это вижу. Должен ли я тут объяснять связь между логикой капитала и персональной религиозностью, их общие причины? Выходя из вагона, поймал себя на мысли – когда меня похоронят, я буду лежать много выше и ближе к небу, чем иду сейчас, в этой остроумной одежде, сделанной сразу с готовыми грязными пятнами.
2 Временно неизвестный художник знал, как отменить конец света. Вручную. Ну, то есть как от него застраховаться. Коллективно. Мы откуда про конец света знаем? Из Писания. И сказано в Писании: «День и час тот неведомы никому». Нет ничего проще. Делаем сайт, на котором во весь экран написана одна фраза:
«Я ЗНАЮ ДЕНЬ И ЧАС КОНЦА СВЕТА, ЭТО: » и ниже окошечко со всеми возможными часами и днями на миллион лет вперед. И каждый, кто на сайт заходит, выбирает себе незанятый день и час и подписывается в окошечке. Типа, Сидор Карпыч знает, что конец света наступит 30.04.2010 в 12:00, а Ольга Ильинична знает, что он наступит 30.04.2010 в 13:00 – и так далее по циферблату и календарю. Сколько человек зайдет и сыграет в эту игру, настолько часов и будет отменен христианский Апокалипсис. Позже художник по минутам решил разбить для точности. Людям это понравилось, в игру включились миллионы «откладывателей». Правила такие: два раза нельзя, т. е. две даты нельзя от себя вбивать, никто не может знать две даты конца света, это уже какое-то «или» получается, а «или» в вопросах веры исключено. Если мы включим миллиард человек, то гарантированно отложим конец света сами посчитайте на сколько! Ну и сайт создали сверхмодный, реклама на котором стоит... сами понимаете. Ведь не допустит же Господь, чтобы Сидор Карпыч неправильно назвал дату, «не ведал», как и положено человеку, а Ольга Ильинична возьми да и попади пальцем в небо, «ведала», получается, вопреки Святому Писанию. Такого не может быть. Неравенство такого уровня невозможно. Так что договориться с Богом в нашу пользу, используя заданные им же правила, вполне в наших силах. Постепенно это должно стать ритуалом, вроде инициации. Каждый ребенок, достигнув совершеннолетия, заходит на сайт и еще на час, ну или на минуту, если он скромный, откладывает судный день. Конечно, можно спекулятивно подойти и условно, раздобыть базу данных, какие вообще в мире люди живут, и к каждому прилепить дату конца, чтобы залить сразу на века вперед. Но это будет ложь, люди же не будут знать об этом, получится, что их использовали втемную, от их имени чего-то там нарешали. Такое не сработает. Нужна добровольность. И за это нельзя платить деньги, ведь оплаченная отмена не считается состоявшейся. Есть работа, которая исключает оплату.
3 Но что такое деньги? Будущих банковских девушек учат наощупь, без аппарата, определять в пачке настоящих поддельную купюру. Рассматривать доллары сквозь бдительную линзу.
«Под увеличительным стеклом президент Франклин должен вам подмигивать», – говорит препод.
Еще не банковские девушки сначала дружно наводят на Франклина, а потом начинают смеяться так же дружно и даже, сами вместо Франклина, подмигивают преподу. В этот момент они чувствуют радостное единство со всеми теми девушками, которые уже смеялись над этой шуткой и которые уже работают в банке, ведь их таких тысячи. Дальше рассказывают по очереди, у кого какие истории уже были с ненастоящими деньгами. Одной дали сдачу на рынке в Стамбуле такой купюрой. Попросила сама сдачу в долларах, которыми и платила.
– И что ты сделала? – спросил препод
– Да ничего, в Москве знаю место, где не проверяют, там и разменяла.
К другой пришел обманщик в магазин и дал сразу три разных купюры, все ложные. Самому, говорит, только что на сдачу дали. А одна из купюр – десять тысяч рублей. Она тогда только вошла в оборот. «Это где же вам, интересно, такую сдачу дали?» И две других, помельче. «Я вам их не верну и вызываю милицию немедленно». Обманщик убежал, сказав на прощанье, что его, сука, в тюрьму за три бумажки не посадишь.
Если бы в тот момент, когда по щеке ангела покатились вниз два горючих пикселя, профессор смотрел в карман, в стол или в кошелек, а не в окно, то он увидел бы, как изменились все долларовые купюры в доме. Президенты на них закрыли свои глаза и поворачиваются затылком к зрителю, к обладателю, к пользователю, к человеку. Отныне он не может больше видеть их лиц. Да и они достаточно смотрели на него. Но сработает ли в тот же час тот же фокус с фальшивыми банкнотами?
Мировая революция 1
Я долго говорю на этой лавке, сцепив пальцы, не глядя тебе в глаза, чтобы не отвлекаться. О самых памятных своих снах, об удивительных выходках людей, важных для меня, о подробностях беспорядков, обычно пропускаемых прессой, о самых больших и самых маленьких своих гонорарах, о совпадениях, которых становится слишком много, чтобы считать их просто совпадениями. Я пытаюсь стащить все это в одно место, стянуть, зацепив словами, в общую точку, но не нахожу ключевого слова, хотя и чувствую его в себе.
– Мировая революция? – делаешь это ты за меня.
Мировая революция. В том, как ты произносишь, слышно понимание, ирония, сочувствие, печаль. Я молча киваю и беззащитно улыбаюсь. Ты видишь, что поняла меня лучше, чем я сам.
Это не конец текста. Тебе пора. Ты знаешь, что через двадцать минут будет восемь. В восемь один блок бетонной стены на известной тебе стройке станет мягким, как теплый пластилин. Мягкость продлится ровно столько, чтобы успеть поцеловать материал всем лицом и телом, впечататься, как образец, в волшебный бетон, а потом, сделав шаг назад, оказаться кем-то совсем другим, с новыми воспоминаниями, чертами, одеждой, полом, голосом, возрастом. Созерцателем барельефа на твердеющей стене. Новый облик останется на тебе, как липкий слой, и скоро проникнет внутрь. Я никогда об этом не узнаю. Никому не смогу ответить, куда ты ушла. А стена, не законченная пока, останется, и будет работать даже после мировой революции. Завтра ее покроют декоративным кирпичом, чтобы дом выглядел дороже. 2
Я остаюсь с нездоровым чувством, что почти все, очень многие вокруг – прибыли из другого времени и места, чтобы наблюдать за мной и такими же, как я, немногими упрямцами. Это невротическое чувство легко объясняет окружающее согласие и примирение. Я чувствую их инопланетянами на экскурсии. Они сами ощущают себя мудрыми зрителями, гостями в этой жизни. Вопрос в том, как превратить этот невроз в топливо для прогресса? В оружие мировой революции. Люди – скрытые камеры не обязаны действовать вместе с тобой. Они просто иронично и заинтересованно направлены на тебя. Они передают сигнал, сами не зная куда, может быть, в голову этого высокого памятника, отлично видного мне. Я должен устроить им сюрприз. Не разочаровать. Разбивание скрытых камер не превращает их в оружие. Они заранее мудрее того, что могут увидеть. Это делает их мертвее их собственной смерти. Свержение памятников не устраняет необходимости в новых идолах, впитывающих чужой опыт. Бронза тяжела, как миллионы несостоявшихся жизней у подножия изваяний. 3
Помнишь, мы ходили на пьесу? Тоже были зрителями. Она называлась «Острая дыня, или Нормальная жизнь». Там, в Китае 60-х годов, крестьяне попросили скульптора вставить статуям в парке глаза, чтобы не только народ мог любоваться шедеврами древности, но и сами изваяния смогли бы взглянуть на чудеса культурной революции. Те статуи с эмалевыми зрачками уже не могли закрыть своих новых глаз. Когда их оперировали, то есть делали зрячими, каменным головам впервые было больно. Отныне статуи были приговорены видеть тех, кто на них смотрит.
«Я так люблю дыню с перцем! – каждые семь минут звучали из-за кулис слова Мао. – Если бы Ленин ее попробовал, он бы тоже ее полюбил!» Житейским голосом, без пафоса, как будто сами себе эту фразу говорят декорации.
Когда крестьяне поручили скульптору добавить к старинным статуям еще одну, посовременнее, он высек из мрамора страшное расплавленное лицо пленного, над которым ставили опыты японские оккупанты, они испытывали химическое оружие на людях. Дорогой мрамор этого бюста был похож на кипящую воду и никто не мог долго на него смотреть. У скульптора в портфеле хранилась фотография «кипящего человека», вырезанная из газеты, как доказательство того, что он не выдумал свой образ из головы и бюст не является проявлением модернизма.
Часто я чувствую, что мы до сих пор находимся там, так и остались в этой пьесе, которая давно закончилась. Смотрим ее.
Начиналась с радиосообщения о смерти Мао. Его слушают четверо в фарфоровых масках с лицом Председателя. Они сидят на провисшей веревке и задумчиво покачиваются. Выглядит зловеще. Им предписано вспомнить о «нормальности». Этого требует репродуктор. Насчет того что такое «нормальность», у них оказываются разные мнения. Каждая маска рассказывает другим одну и ту же притчу об убежавших от злого старика обезьянах. Старик заставлял их танцевать на ярмарке, но им это разонравилось, и они перегрызли веревки, чтобы свободно собирать ягоды в горном лесу. Каждая из масок понимает притчу по-своему. Старика-самодура сравнивают то с последним императором Пу И, то с японцами, то с американцами, то с самим Председателем. Наконец, маски обращают внимание на то, что в притче власть и народ изначально имеют совершенно различную природу, они буквально принадлежат к разным видам жизни, ведь там командует обезьянами человек.
– Я не понял, можно ли ностальгировать и ненавидеть одновременно? – кричит какой-то зритель из зала.
Меня волнует другое – откуда и зачем берется ностальгия по событиям, которых с тобой никогда не было, да и, наверное, ни с кем не могло быть.
Веревка, на которой сидят четверо в масках, уходит вверх и влево. Там на экране без звука мелькают наиболее дикие кадры культурной революции: гнев хунвейбинов, бреющих головы профессорам, костры из искусства, Председатель, уверенно плывущий на тот берег Янцзы. Та же веревка на другой стороне сцены уходит вправо и вверх. Там на втором экране мельтешат суды хунвейбинов над собою, отмена принудительных коммун, возвращение партийных лидеров из ссылок и лагерей, двое аквалангистов поддерживают в воде Янцзы Председателя и тащат его вперед.
У четырех главных героев каким-то хитроумным образом за два часа спектакля пролетарские робы культурной революции постепенно, шов за швом выворачиваются наизнанку. В финальной сцене четверо снимают маски. Под ними зритель видит черные оскаленные морды желтоглазых обезьян. Приматы танцуют варварский ритуальный танец под нынешнюю электронную музыку.
Некоторые из героев надеются, что их смерть станет воссоединением с Председателем, хотя и понимают всю старомодность подобных упований. Тем более что Мао здесь, с нами, на площади, в мавзолее.
– Его интересовали, – вспоминает важный свидетель на посмертном суде свой разговор с Председателем, – его интересовали ремонтно-технические мастерские!
– Белая курица выжила! – объясняет детям школьный учитель пропагандистский фильм, – потому что во время взрыва была полностью накрыта большим свинцовым листом. Так же в случае атомной войны спасется и любой из нас, у кого дома найдется личный свинцовый лист.
Зрителя слепят сотни атомных взрывов, повторенных, как орнамент обоев, на всех экранах.
– А что будет, если атомная война уничтожит всех нас и даже саму планету? – показывает на глобус любопытный пионер.
– Очень просто, – смеется учитель, – даже если все погибнет, материя останется, атомы бессмертны, и по законам диалектики через миллиард лет мир все равно придет к коммунизму, так что мы ничем не рискуем.
В его словах о бессмертии материи слышна смесь сожаления и надежды.
«Сегодня Ленин – это китаец!» – вывешивают студенты самодельное дацзыбао в университете. Они прочли в передовице, что Пекин разочаровался в политике Москвы. Мао вспоминает, как в их возрасте он с друзьями-подпольщиками решал, какой иероглиф лучше других годится для обозначения коммунизма в китайской письменности. Выбрали «совместная обработка полей».
– Обработка полей, – подхватывает студент, – потому что обезьяна стала человеком, когда взяла в лапу орудие?
– Не совсем так, – поправляет его Председатель, – я полагаю, она взяла в лапу оружие, чтобы сразиться с врагом, а уже потом, победив, нашла своей палке и мирное применение. Быстрое выживание в войне стало ключом к медленному выживанию в поле. Я не верю в долго размышлявшую обезьяну, придумавшую рыхление. Она схватила палку внезапно, чтобы отбиваться, мстить, нападать. А после не захотела выпускать ее из лапы, начала делать ей многое, и лапа стала рукой, а обезьяна – классовым человеком. Вначале появился солдат, а потом уже от него произошел рабочий. Вначале была военная техника, а потом из нее родилась вся остальная.
Мао крутит железную ручку и отворяет нереальной толщины бронированную дверь, чтобы показать президенту Никсону свое бомбоубежище. Все предусмотрено на случай атомной атаки.
Пока опасности нет, там, за открывшейся военной дверью, белая курица важно расхаживает по комнатам и клюет зерна, мастерски нарисованные на полу. Она выжила и снялась в пропагандистском фильме. Президент Никсон высказывается в том смысле, что всегда очень ценил восточное искусство. Председатель Мао расстилает перед ним карту мира, пододвигает кисть и тушь и просит изобразить дерево, на которое напал ветер. Никсон смеется. Мао показывает, как это сделать. Он капает на карту большую кляксу туши и сильно дует на нее. Никсон вглядывается в получившуюся порывистую крону и видит атомную войну.
Годар, Кардью, Бойс, Уорхолл смотрят эту сцену, постоянно высовываясь из-за кулис, пробуя аплодировать, отвлекая актеров жестами, щелкая вспышками фотокамер и кнопками диктофонов.
«Рубить собачьи головы!» – хором скандируют хунвейбины.
На сцену падает дождь из голов собак. Прямо к их шкуре пришиты дурацкие колпаки. Звучат мемуары Марко Поло об азиатской стране песьеголовцев. Некоторые из собачьих голов, отчаянно подскакивая и взволнованно лая, падают в зал, под ноги зрителей. Только освободившись от своих человечьих тел, эти головы приобрели верную классовую оптику.
«Нельзя иметь своей зубной щетки, с этого начинается капитализм», – рычит одна голова в колпаке, которую в тихом ужасе пытается подальше отпихнуть мыском туфли зрительница. Если бы этот текст стремился к гламурности, следовало бы назвать туфлю по имени, указать, из какой коллекции, но и вы, и я, и этот текст обойдемся без гламурности. «Нельзя иметь своей пары обуви, с этого начинается отчуждение», – вторит другая песья голова,
кусая даму за каблук. «Сам станешь вещью и будешь кому-то принадлежать, ходить из рук в руки, как стертый юань», – пророчествует третья голова, катаясь в проходе между рядами.
На сцене отрубленные головы пытаются перелаять друг друга, и четверо в масках и вывернутой пролетарской форме больше не могут разговаривать. Входит смерть в длинной мантии, сшитой из пропагандистских газет, усыпанных иероглифами. Она рассказывает о самой первой войне. Когда начальный человек Пань Гу вышел из яйца, темные духи, ослепленные его светом, разорвали его на пять частей. Узнав свет, драконы тьмы почувствовали голод, которого не было у них прежде. Каждая часть Пань Гу блуждает во тьме, не умея встретить других и соединиться с ними. Но в своем желании вернуться к единству пять частей первочеловека образуют пентакль, звезду. Смерть, читая иероглифы у себя на платье, объясняет четверым в масках, что после ухода Председателя, без своей пятой вершины, пентакль распался, и между ними нет больше ничего общего. Пораженно сняв маски, четверо оказываются обезьянами и с облегчением танцуют. Кажется, все. У обезьян густая черная шерсть и горящие желтые глаза. 4
– Расскажи мне, чего тебе не хватает в этой пьесе? – просила ты потом в японском кафе, в зале для курящих, гордо выложив пачку сигарет на стол. Ты никогда ее не раскрывала. Да и курить бросила больше года назад. Носила с собой, чтобы не чувствовать себя чего-то лишенной.
– Пьеса должна заканчиваться появлением известного немецкого философа Карла Маркса. Сжимая свой 11-й тезис в руках, как автомат, бородатый умник начинает стрелять в зал, избавляясь
от зрителей, свидетелей, людей – скрытых камер. От заплативших за билеты.
Еще там не хватает педагога, дающего пионерам минимум революционного воспитания:
1. Отказаться от любого морализма в пользу диалектики.
Нет плохих и хороших вещей, людей, ситуаций. Есть свои и чуждые стороны вещей, людей, ситуаций. Нужно вступать в контакт со своей стороной всего, усиливать ее и, наоборот, избегать и ослаблять чуждую сторону. Нужно всегда держать в уме чуждую сторону того, что выбрал, т. е. не доверять полностью никому и ничему.
2. Отказаться от прибыли как цели своих действий.
3. Поставить под сомнение институт собственности, культивировать ее условность и относительность. Покончить в себе с идентичностью, основанной на величине и форме собственности.
– Там нет такого педагога, потому что революция в пьесе уже произошла и твои пункты потеряли актуальность, – говорила ты, просматривая сообщения в телефоне, – но продолжай, мы же в зале были, а не на сцене.
– Если вам удались эти три пункта, вы неизбежно покидаете территорию системы. Дальше у вас одна задача: найти практическое выражение этим трем решениям. Как не быть заменимым источником прибыли, не быть охранником института своей/чужой собственности, не быть негодующим моралистом? Если у вас получается, то сознание, которое не терпит пустоты, заполняет вакуум, возникший на месте трех упраздненных идолов. Так у вас появляется личная революционная стратегия. Если вы готовы отказаться от трех химер, значит, вы готовы изобрести нового себя.
– А как насчет свободы? – смеялась ты, показывая мокрые зубы, – ведь красные так много запрещали?
– Для диалектика свобода и развивается через развитие общественных запретов. Капитализм, рынок и частная собственность так же естественны и свойственны человеку, как и каннибализм, инцест и изнасилование младшего старшим. История людей началась с запрета на эти естественные и по-человечески понятные вещи и должна продолжиться отменой частной собственности и преодолением рыночных отношений. Дословно «снятием» у Маркса. Пора бы запретить себе чем-либо владеть и кем-либо командовать. Пора бы перестать позволять и другим командовать и владеть. Это базовое условие появления общества «господ без рабов». 5
– Репрессии, – ты вкусно выговаривала каждую букву, – красным не простят репрессий, – рассматривая тростниковый сахар, уже успевший выйти из моды.
– Помнишь, как рассуждал революционный трибунал?
«Вот перед нами, – говорят в трибунале, – ни в чем таком вроде бы не виновный гражданин. Он никого не душил, не казнил, не мучил, а наоборот, отличался высоким образованием, вежливостью, незлобивостью, деньги тратил на искусство и путешествия. Один только за гражданином грех, он жил за счет чужого труда, то есть был, как и все в его роду, совладельцем того и сего и потому мог особенно не работать, а если и работать, то по собственной прихоти, в любом случае – источником его денег был чужой труд. И потому мы этого не очень виноватого человека накажем, конечно. За всех тех, кто создавал для него прибыль, за их идиотскую мучительную работу, за их несостоявшуюся жизнь мы с гражданином рассчитаемся. Но ведь и его предки до бог знает какого колена жили также за счет других. И никто из них не понес за это наказания. Получается, что в истории веками царила безнаказанность одних, живущих за счет других. Если кто и гиб на дуэли, то это здесь ни при чем. Сегодня мы изменим такое положение дел и наполним историю смыслом. Мы казним стоящего перед нами неплохого в общем-то человека много раз, за каждого его избежавшего расправы предка. Точнее, мы сделаем нашу казнь многосерийной. Скорее всего, к концу наказываемый сойдет с ума от того, что справедливость оказалась настолько связанной с болью, невыносимой и долгой. Но нам не нужна нормальность и здоровье этого гражданина. И то и другое украдено его семьей у других, и должно быть изъято. Нам нужна история, полная смысла, то есть такая, в которой использование чужих жизней не прощается и боль приходит по адресу даже через тысячу лет, тысячекратно выросшая из-за столь длительного откладывания исполнения приговора. Обсудим теперь детали наказания. Оно потребует от нас старательности и мастерства.
В библиотеке обсуждаемого гражданина я обнаружил старую китайскую книгу, которая может нам помочь. Вряд ли кто-то из нас сможет ее прочесть, но в этом нет необходимости, картинки говорят обо всем, взгляните».
И все зашуршали полупрозрачными листами, прикрывавшими подробные китайские картинки. 6
Как мы с тобой попали на «Острую дыню»? По приглашению.
Я вел тогда рубрику «Некоторый смысл» в одной стремящейся к запрету газете. Обращал внимание читателей на возможную, но так и не использованную революционную сторону любых предметов – зефирных пирожных, легковых автомобилей, зажигалок, рекламных щитов. Старался быть достойным тех, кто мне нравится. Многие из них пели о возможности коммунизма. Я пою о невозможности коммунизма. Я предан той же идее, но с другой, что ли, стороны. Моих авторитетов интересовало, как, почему и где ожидается мировая революция. Меня интересует только, почему, где и как она не происходит. Отсутствие необходимых событий вдохновляет меня и делает верным им. В любом покрое одежды, голосе мотора, взаимоисключающем сочетании реклам, в каждом жесте, звуке, пятне, запахе найти знак необходимого невозможного.
Этого внятно не объяснишь. Не объяснишь, как однажды, выйдя из театра, следуя по сверкающей Тверской, я вдруг поймал радио «Бемба», партизанский барабан, посланный из Сьерра-Маэстры задолго до моего рождения. Так я узнал разницу между спасителем и создателем, почувствовал гвозди в своем мясе и пули, с хищным любопытством входящие в чужой череп существа одного со мной вида. И от этого захотелось упасть в снежную столичную грязь, но я никуда не упал. Я пошел дальше уверенными, счастливыми шагами к безумной и давно отмененной цели, навсегда теперь убежденный в нескольких, возмутительно примитивных, идеях. Пошел рядом со своей спутницей, улыбаясь ей, потому что ни она и никто другой никогда не почувствуют этой моей личной связи со всеобщим. Ты не была свидетельницей этого, хоть ты и была рядом.
– Научись разговаривать притчами, чтобы сказать хоть что-то, раз уж нельзя объяснить эту связь, – подсказываешь ты в своей машине, такой темной снаружи и такой бежевой, светлой, кожаной внутри.
В мутных кадрах хроники хунвейбины заставляют уличных рикш садиться в свои каталки, а клиентов, пришедших на остановку, принуждают возить по городу самих рикш. Но вчерашние рикши не знают, какой назвать адрес, и перепуганные пассажиры под веселую речевку возят рикш по кругу. В центре круга большой черно-белый костер. Так, под молодецкое улюлюканье подростков с красными повязками, свободная езда по конкретному адресу превратилась в принудительную прогулку. 7
– Ты не пробовал писать сказки для детей и подростков, ну, например, про мышей? – предлагаешь ты, желая найти мне место, хотя у каждого из нас уже есть место в этом воющем вагоне метро, – или комиксы сочинять, знаешь, если бы там были мыши вместо людей, это имело бы больший успех.
Ты не привыкла к метро, для тебя оно – этнография. По вагону влачится нищий, и сразу кажется, что мы никуда не едем, а сидим все вместе в тюрьме.
Иван Мышь вошел к Семену Живцу. Опустим все вторичные подробности, чтобы сразу говорить главное: у Ивана не было ничего для заработка, кроме своего тела. Семен покупал тело. Точнее, его часть. Станок у Семена в гараже был один, но универсальный, железно хватал ногу выше или ниже колена, мгновенно рубил руку там, где начерчено маркером, или лопал сверлом глаз на безопасную для мозга глубину. Это была экономика. Живец оставлял себе изъятую часть верхней или нижней конечности, а клиента, Ивана в нашем случае, выволакивал из гаража и немедленно звонил своему врачу. Через две недели, выписавшись из клиники, неполный Иван будет готов ходить в метро и честно показывать пассажирам красный тупик руки. Собранные средства делились: треть Мыши, остальное – Живцу.
Так, сжав зубами полотенце, и согласно кивнув Семену, задавшему вопрос в последний раз, Иван узнал наконец, что такое экономика.
У Семена таких неполных, ползущих в вагонах, много, но меньше, чем запланировано. Живец их работодатель и защитник. Он сам платит ментам. Когда мент подошел к безрукому, первое спросил: «А Живец тебя знает?» Иван сказал: «Да, Живец знает».
И мент отошел, пообещав проверить. Так Мышь узнал, что такое государство.
Врач приехал к гаражу быстро. Наложил жгут, навертел бинт, сделал укол, достал кривую иглу. Ивану, тонущему в боли, казалось, что отнятую руку прижигают снегом. «Ну вот, – сказал врач уже в палате, – теперь ты готов, наконец, нормально обеспечить себя, заживет до свадьбы, зато голодным не останешься, завтра поп к тебе придет». Так Иван узнал, что такое милосердие. «Мышь» – записали в карту его фамилию.
Поп пришел, как и было обещано, и сказал свое утешающее слово: «Бог, – вспоминал поп, – терпел и велел нам поступать так же. Мученик ты, а мученику будет дан в рай специальный пропуск. Отдал ты руку, а получил взамен бессмертие души. Послано тебе испытание и ты его претерпи с миром. Спасителя прибили к кресту, а у тебя всего лишь рука. Благодари создателя. Как юродивый пустишься ты по вагонам жизни, а в юродивых наша правда. Без нее не стоит отечество».
Так Иван узнал, что такое вера в Христа.
Если Мышь недоплачивал, то есть глотал внутрь себя рублей несколько, чтобы испражнить после, Живец чувствовал этот металл в животе обманщика, будто у Живца в голове монетный магнит. «Утаивший рубль от хозяина нарушает закон и должен быть наказан», – говорил мент, целясь резиной в голову. «Утаивший рубль от хозяина лжет и крадет, а значит, будет низвергнут в преисподнюю», – вторил поп. «Утаивший рубль не утолит монетой голода, а только испортит желудок свой, и не получит нашей коечки, – предупреждал врач, – а коечка ему занадобится после исполнения наказания».
И тогда, послушав их, Иван совал оставшуюся руку в рот и выворачивал харчи на дорогу. В теплом желудочном соке поблескивали монетки с гербами. Не желая мараться, Семен разрешал менту, попу и врачу разделить эту прибыль. «Давший на церковь душу свою спасает», – говорит поп, выхватывая медяки из цветной лужи. «Государство – это мы», – напоминает мент, наступая сапогом на свою долю. «Помните о других, и сами не будете забыты», – обещает врач, забирая себе что осталось.
– Куда? – однажды спросил, набравшись храбрости, Мышь у Живца, – Куда девается то, что отнято?
Семен сразу понял Ивана и рассудил, что тот имеет право знать. За дверью была галерея. Там превращались в мумии разной длины, оттенков и возрастов человеческие части. Семен сушил их, смазав, чем врач прописал, читал над ними молитвы и не нарушал никаких законов. Под стеклом они медленно тлели, умалялись временем, мощи тех, кто ходит в вагонах. Это был музей. О нем спорили в прессе. Так Иван узнал, что такое искусство.
Если бы кто-нибудь, многоглазый и вездесущий, смог увидеть сразу все экспонаты этого большого музея – все отнятые голени, ладони, ступни, выломанные колена, все намозоленное, татуированное, рябое – тогда этот некто узнал бы, что они могут соединиться друг с другом, как очень сложный конструктор. Все изъятые части тела как новые конечности великого существа, сторукого тысяченога, спящего в музее по частям.
– Хватит... – говоришь ты на эскалаторе, брезгливо держась за черную резину, – это никому не понравится, да и тебе самому не нравится, ты просто кривляешься, чтобы меня позлить, а я не хочу злиться на тебя.
Твое сердце сердито бьется в розовой сумочке, сжатой в левой руке. Я думаю, глядя на розовую блестящую чешую, что если проткнуть сейчас твою сумочку длинной иглой, ты немедленно умрешь и тебе незачем будет ехать вверх, из мраморной могилы на улицу. 8
– Нас здесь так много! – закричал он вниз, держась рукой за каменную ногу памятника; вторая рука сжимала свистящий мегафон. – Так много, что можно быть уверенным, некоторые пришли сюда по заданию и передают своим хозяевам все, что сейчас тут происходит. Я обращаюсь именно к ним. Идите к своим хозяевам и скажите им, что их власть кончилась. Все равно вам больше никто ничего не заплатит. А теперь я хочу сказать главное всем остальным. Мы должны ударить немедленно, иначе мы сами не простим себя, наши дети нам не простят. Начинаем движение. Перестаем стоять. Мы знаем, куда идти.
И все пошли, все громче напевая и быстрее разгоняясь. Слыша подошвами, как миллионы забытых ежедневных человеческих драм впитались в землю и стали там горами каменного угля, морями скользкой нефти. Осталось найти рецепт и способ поджечь это, обжечь себя и других, превратить материю страдания в энергию смысла, ослепить внутреннюю контрреволюцию и превратить контрреволюцию внешнюю в дым – последний памятник «снятому» прошлому.
И уже на бегу, я, незаметно для других, прощаясь, постучу двумя пальцами в твою стену, как будто ребенок показывает стрельбу из пистолета. Как будто вместо «ставить к стенке» собрался стенку застрелить.
Мы идем, потому что снимается ролик о никогда не происходивших событиях.
Король утопленников 1
Конечно же, у Короля была мечта. Если он закрывал глаза, видел волны: катятся, рождаясь друг из друга. Солнце высокое, маленькое и никаких птиц, потому что им неоткуда прилететь. Зеленые со свинцом бугры воды повторяются. Бесконечный шум ничем не стесненной жидкости. Спокойно падает пушистый снег, прибавляясь к океану. 2
Игрушечное ощущение. Вместо горизонта бледно-зеленая стена-пустота, как в очень большой комнате. Да и потолок, в смысле, небо, как в офисе, навесной – низкие пористые облака. Половина палубы пропала в тумане. Ю увидела столбы света, замершего между водой и небом. Айсберги. Такая гора пропарывает шутя двойную обшивку борта. Плавающие памятники тем, кого мы никогда не видели и поэтому не узнаем. Едва заметный уху хруст будит аппетит.