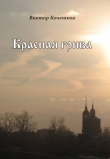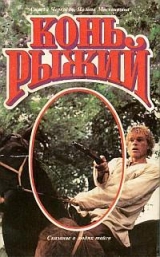
Текст книги "Конь Рыжий"
Автор книги: Алексей Черкасов
Соавторы: Полина Москвитина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Ной не ждал, что к нему пожалует чопорный полковник Дальчевский. А тут – батальонщица!.. Надо как-то извернуться.
– Приехала вот на воскресенье из Питера погостевать землячка. А тут у нас сражение произошло. Из нашего Минусинского уезда Евдокия Ивановна.
– О-очень приятно! – Неулыбчивое, длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участия, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове! – Такое жестокое время, Ной Васильевич! Кошмарное время. Вас не было, когда матросы допрашивали батальонщиц. Пятерых казаки расстреляли на кладбище, а других замучают у себя в теплушках. До Петрограда не довезут, понятно. Наш комиссар допытывался про пулеметчицу Евдокию Юскову. Погибла, пожалуй. Это ее счастье!
У Дуни ни кровинки в щеках и сердце замерло.
– Надо полагать, у большевиков не все единомышленники, если восстал красногвардейский батальон! Что ж, Ной Васильевич, приглашайте сесть.
– Милости прошу, Мстислав Леопольдович.
Подал ему стул, а у самого глаза сузились, как у охотника, целящегося в крупного зверя.
Расселись…
Ной повесил беспогонную шинель Дальчевского и папаху.
– Что у вас варится?
– Картошка.
– Ну, ну! Скоро не будет ни картошки, ни консервов. Впрочем, у нас есть лошади. – Не спрашивая разрешения, Дальчевекий размял в пальцах папиросу, закурил. – Барышня не курит?
– Спасибо, не курю, – ответила Дуня. Ох, как бы она закурила!
Дальчевекий спросил: есть ли у председателя керосин или свечи? Нету? Пусть пойдет ординарец к нему на квартиру и возьмет несколько свечей.
– Ступай! – послал Ной, отмахиваясь рукой от табачного дыма.
Санька ушел.
Булькала вода в котелке, брызги летели на раскаленную буржуйку, шипели, испаряясь, Дальчевекий что-то обдумывал, прищуро косясь на Ноя. Взглянул на гимнастерку Дуни, похвалил как отважную патриотку, но сейчас-де настали такие времена, когда «георгии» не в моде, и патриотизм, к сожалению, канул в небытие, хотя половина женщин России и носит военную форму. Но в данной ситуации, после разгрома женского батальона, небезопасно землячке Ноя Васильевича выставлять свою форму напоказ и не лучше ли переодеться в штатское платье? «А крест спрячьте и не потеряйте», – милостиво напомнил Далвчевский. Дуня не сняла, а сорвала крест и сунула его в карман гимнастерки.
Ной опустился на стул, ладони на колени, а внутри, как в котелке на печке, вскипает лютая ненависть к полковнику из тайного «союза», еще не изобличенному, не схваченному на месте преступления. «Мертвые не свидетели», – вспомнились слова Дальчевского у трупов убитых в ту ночь офицеров.
– Ну так вот, Ной Васильевич, поскольку я не был на митинге, но информирован, что завтра вы едете в Смольный, то решил зайти к. вам и сказать, что подал рапорт об освобождении меня от командования. Сожалею, что принял полк 11-го октября. Ну-с, а теперь, когда у военки Смольного фактически нет ни армии, ни устава, если не считать Бушлатную Революцию и отрядов Красной гвардии, моя миссия командира полка закончена. Положение у Смольного не из важнецких: армии развалились от той же большевистской агитации «долой войну», кругам дезертирство, сплошные митинги, на Украине самостийная рада сговаривается с немцами. А кайзеровские дивизии на Северо-Западном фронте плечом к плечу, и надо ждать их в Петрограде: братишки и путиловцы не спасут. Достаточно сказать, что на место главнокомандующего, прославленного генерала Духонина, поставлен прапорщик Крыленко. Это же издевательство над Россией!.. Если меня не упрячут в ЧК, то я, пожалуй, уеду к семье в Красноярск и буду там сажать репу и брюкву. Обожаю пареную брюкву!
Ной изрядно вспотел возле буржуйки – припекло спину, а со лба соль капала.
«Ну и стерва, господи прости! – думал он. – В кусты прячется. А комитетчиков успел подвернуть под себя, и они гнули его линию на митинге, да еще оренбургские казаки поддавали жару!.. Ясно-понятно, полк развалился. И ведь не схватишь за горло!..»
– Подвойский особо предупреждал, чтобы мы усилили охрану продовольственных складов, фуража и сена. Я распорядился. Ну и вы, само собой, имейте в виду: фураж – это кони под седлом.
– Как же, как же! – согласно прогудел Ной, соображая: тут что-то запрятано!.. Уж не думают ли они оголить Гатчинский гарнизон? Продовольственные склады рядом со штабелями прессованного сена!..
Это он, Дальчевский, предвкушая разгром большевиков и захват Смольного, вывез из Луг весь фураж для конников 17 корпуса и тюки спрессованного сена, чтоб потом, в Петрограде, ни в чем не нуждаться. И все это достанется красноармейским конникам!
Дуня чутьем угадывала: Мстислав Леопольдович говорит совсем не то. Он сожрал бы рыжего Ноя с его кудрявой бородой. И как будто рядом с Дальчевским, на одном стуле, сама Юлия Михайловна, со своей роскошной русой косой. Это она легла у пулемета на водокачке, отстранив Дуню, и так-то ворковала:
– Какие они славненькие, матросики! Бегут, бегут! Ко мне, миленькие! Ах, как горят теплушки! Чудненько! Чуточку поближе, миленькие. Сейчас я их расцелую, красных ангелов.
И потом, когда матросы полегли на рельсах, возле горящих вагонов, и малое число спаслось бегством, Юлия Михайловна поднялась от пулемета, обиходливо стерла грязь с низа ядовито-зеленой юбки, сорвала красную повязку с правой руки и, скомкав, бросила:
– Все, Дунечка. Надо их, милая, вот так убивать, с короткого расстояния.
Мстислав Леопольдович так же, как Юлия Михайловна, ласково, милостиво разоружал хорунжего Лебедя. Но Дуня заметила по настороженному цепкому взгляду Ноя, что он тоже хитрит, и не так-то просто его разоружить!
И Дуня видела себя сейчас не в комнате, а на желтой водонапорной башне под грязным небом, на башне с огромным котлом, и в котле том не вода – смола кипучая ненависти к матросам, рабочим, красным комиссарам Смольного, ко всем, кто лишил полковника Дальчевского, Юлию Михайловну сытого благополучия и узаконенного разврата, которым они жили от века, а вместе с ними и Дуня Юскова. И все они сейчас на желтой водонапорной башне.
Дуне страшно. Жутко.
«Боженька, боженька! Да что же это? Что же?» Бежать бы, бежать бы из Гатчины домой, но куда бежать? И есть ли у Дуни дом и пристанище?
Давно ли вот этот Мстислав Леопольдович в Пскове лежал в постели Дуни и бормотал ей в ухо:
– Если все обойдется благополучно, я возьму тебя с собой в Красноярск. Только бы вырваться из Гатчины…
– У вас ведь в Красноярске супруга с девочками?
– Не беспокойся, я тебя устрою.
– Нет, нет! Только… не у мадам Тарабайкиной. Вы же знаете…
А теперь она – пленница Ноя, и Мстислав Леопольдович уедет без нее. Без нее! О, боже! Какие они все скоты! У него же ни в одном глазу жалости к ней. А она еще пела ему про нежность и вишневую шаль!
– А знаете, Ной Васильевич, – сказал Дальчевский. – Одна из батальонщиц оказалась крепким орешком. Она заявила, что нет той кары, самой жестокой кары, достаточной кары, которая постигнет каждого предателя «союза», и она лучше умрет, чем отречется от священной клятвы!
Что это? Уж не угрожает ли ей Мстислав Леопольдович?
Скотина! Он и тогда был скотиной. Она прекрасно помнит, как в Пскове, сделав свое дело, он прошелся по комнате, вскрыл консервную банку датских поставщиков, выел до дна тушенку ломтем черного хлеба (на него всегда нападал жор в такие минуты) и, забыв о всех своих обещаниях, уехал, холодно попрощавшись.
– Закружили их эсеры с заговором, – ответил Ной, едва сдерживая ненависть.
Санька принес пяток стеариновых свечей и зажег три.
Свечи, укрепленные на донышках обливных кружек, мягко освещали большую комнату.
– Я очень сожалею, что нам не удалось догнать их командиршу Леонову. Она бежала на паровозе с тремя санитарными вагонами и отрядом офицеров. Вот только хотелось бы знать – далеко ли они ушли?!
Очень уж беспокоился Мстислав Леопольдович.
– Далеко они не ушли. Путиловцы, я думаю, их уже встретили, – прогудел Ной. – И артбригада ушла туда же.
Как-то вдруг сразу на улице посветлело.
Мстислав Леопольдович кинулся к окну:
– Пожар! Склады горят! Сено горит! – ахнул Ной.
Пожар моментально разгорелся. Сено же, сено горит! До неба взметнулось пламя.
– Точно, Ной Васильевич, горит, горит! Фураж горит. Продовольственные склады горят! – крикнул Санька. – Какая-то сука подожгла.
Мстислав Леопольдович быстро оделся, и все трое выбежали из дому.
Дуня осталась одна…
На желтой башне. Сама с собою и с полыхающим пожаром за готическими окнами. Бегут, бегут в ночи люди на пожар. Мелькают за окнами. Страшно и стыдно, стыдно. Спустится ли она когда-нибудь с башни на грешную землю?
Заговоры, заговоры, заговоры…
Зверь то там, то тут выпускал кровавые когти.
Были склады с продовольствием в Гатчине – в уголь и пепел обратились, выгребли из-под углей и пепла смешанную с золою муку, обгорелые туши конского мяса, вздувшиеся консервы…
Было сено – зола и пепел.
Были охвостья с овсом – ни мякины, ни зернышка.
Пожары, пожары!
Взрывы на рельсах.
Не проходило дня, чтобы где-то возле Петрограда или в самом Петрограде, в Пскове, Ревеле не багровело небо пожарищем.
Мстислав Леопольдович торопился, очень торопился. У дома, где он жил с ординарцем и начальником штаба Мотовиловым, его ждали две кошевы. Кони сытые, холеные, только бы скорее рвануть на них!..
Мстислав Леопольдович с ординарцем в поте лица, запалившись, таскали добро из дома в кошеву. Скорее, скорее, скорее бежать санным путем из Гатчины. А Мотовилова нету!.. Где же он?..
Кто это? Что это значит?
Два мотроса с маузерами…
Мстислав Леопольдович поднял руки…
VДуня спряталась под два одеяла и не могла согреться – округлые колени подтянула к подбородку. Уснуть бы! А сна нету. Страшно что-то. Пожар потух, и стало темно. Свеча догорела. Ни председателя, ни ординарца. Поможет ли Дуне Мстислав Леопольдович, как обещал, или выкинет вон из памяти и сердца? Да и кто она полковнику? Он и там, в Красноярске, знал Дуню, по красненькой платил за ночь.
Вспомнила, как в батальоне барышни похвалялись прежними богатствами, удобствами, квартирами, мебелью, женихами, любовными приключениями, и Дуня в свою очередь рассказывала про миллионы папаши, жаловалась на судьбу-злодейку, да никто, ей не сочувствовал: сама дура, если не сумела обжать папашу. Когда проснулась, бледный свет утра разлился по всей комнате. Никого не было. Она не знала, который час. Не вставая с постели, увидела на стуле развешанные женские платья, наряды, наряды – на двух стульях! Боженька – шерстяные платья, шелковые, тончайшие заграничные рубашки, чулки, разные лифчики! Все это так ошеломило Дуню, что она мигом слетела с кровати, схватила в охапку неожиданное богатство. Боженька! Не забыл Мстислав Леопольдович!
– Век буду благодорить вас, Мстислав Леопольдович! Век буду благодарить, – захлебывалась Дуня от радости. И что еще поразило – поверх одеяла была накинута меховая желтая дошка из заморских шкур обезьян, пушистая дошка! В самый раз.
– Ах, Мстислав Леопольдович!
Примеряла, улыбалась и все никак не могла нарадоваться нарядам. И про ночные страхи забыла, про пожар, про Коня Рыжего – этакий мужлан! Нужен он ей, рыжий! Как же ей опротивела фронтовая амуниция! Надела на голое тело рубашку и, довольная, замурлыкала песню.
Нарядилась в бархатное черное платье, перетянулась пояском, прибрала волосы и – к зеркальцу на столе:
– Боженька! Себя не узнать!
На столе записочка:
«Завтракайте. Консервы и хлеб с картошкой завернуты в полотенце под хлебальной чашкой. Чай подогрейте. Серянки на печке. Дрова наложены».
Умора! «Под хлебальной чашкой!» Ну и Конь Рыжий! И чтоб с ним…
Застилая постель, подняла встряхнуть грязную подушечку, и бесики запрыгали: под подушечкой лежали золотые дутые серьги с каменьями, браслетик с инкрустациями и – часики! Золотые наручные часики! С золотой браслеткой!
– Мстислав Леопольдович! Какой вы благородный, боженька! – Дуня заплакала от признательности к Мстиславу Леопольдовичу.
Разжигая печку, невзначай взглянула под кровать – женские фетровые сапожки!
– Ай! Да што это?!
А вот и ординарец Санька Круглов в белой бекеше, местами заляпанной сажею на ночном пожарище, чуб из-под папахи.
– Экая! Не признал даже!
– Я и сама себя не узнаю. Откуда это все?
– Откель? От председателя.
– Что?! От председателя?!
– Тайник я открыл в подвале. Хламу там – не провернуть. Ну, таскал оттуда дрова. Вижу – хламом почему-то закрыта одна стена, кирпичная. Вроде не такая, как другие. Поновее. Трахнул обухом – дыра. А там – ишшо подполье. Головастый буржуй проживал. Ну, лежало бы чужое добро, да председатель опосля пожара разворотил тайник, наряды тебе достал. Чаво ж – носи, – зло бормотал Санька, косясь на Дуню. Не для нее припасены наряды-то; экое богатство, ежлив бы домой утащить. «С Конем Рыжим, не иначе, как голышкой заявишься в Таштып. Ишь, вырядилась, курва. К ногтю бы паскуду», – наматывалось у Саньки.
Дуня притихла…
– А полковник… знает про тайник?
– Экое! С чего бы мы открыли полковнику про тайник? У него, небось, свово добра напихано было на две кошевы. Цапнули иво вместе с добром.
– «Цапнули»?!
– Да ты все проспала! Полковника заарестовали сразу, когда хорунжего Мотовилова схватили. Мотовилов склады с продовольствием поджег и сено. Он верховодил заговором в полку. Вчистую оголил Гатчину. Сам Ной Васильевич сказал, что полковник здесь был. Кабы тебя можно было бы в свидетели выставить, Дальчевского с Мотовиловым шлепнули бы у одной стенки, – умилостивил Санька, липуче приглядываясь к Дуне. – Да вот Ной Васильевич скрыл тебя.
– Я ничего не знаю! – растерянно лопотала Дуня, присев на краешек кровати. И нарядам не возрадовалась – живой бы из пекла выскочить. – Может, не они подожгли склады?
– Кто жа? Мотовилов самолично подкрался к часовому, выстрелил в него. Потом, стерва, поджег сено. А казак ишшо живой был. Выполз из огня – обгорелый, назвал Мотовилова и – помер. Мотовилова арестовали, а Дальчевского схватили, когда он барахло свое с ординарцем таскал в кошевы, чтоб бежать из Гатчины. В Петроград повезут.
Распахнулась дверь – и на пороге казак. Глянул на Дуню, а потом на Саньку.
– Слышь, председатель послал. Какая-то Дуня у вас. Эта, што ль? Собери все ее шмутки и беги с ней на фатеру телефонистки. Кто-то сказал Бушлатной Революции, будто она пулеметчица, которая по матросам с водокачки стреляла в Суйде.
У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями.
– Боженька! – только и выдавила из себя Дуня.
– Ну, теперь крышка! – ахнул Санька. – Не иначе, как сам полковник выдал.
– Поторапливаться надо, – напомнил казак.
– Куда поторапливаться?! – огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую папаху. – Тут надо подумать, скажу. Ежли матросы навалятся и востребуют, не спасешься, гли! Моментом перестреляют.
Казак у порога пожал плечами:
– Гляди! Председатель дал приказ.
– Приказ! Не председатель держит на себе большевиков, а матросы да пролетарьи питерские. Али мне свою голову подставить? И куда бежать? Телефонистка, небось, не примет ее в этаком наряде. Скажет – буржуйка! Как же быть, а? – тянул время хитрый Санька Круглов и надумал-таки: – Вот што, Евдокея. Ты, это самое, переоблачись, да живее. Сунь буржуйское барахло под кровать, чтоб духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя, и спросу не будет: кто такая? Откеда? Я подожду за дверью.
VIДуню отчаянно лихорадило – тряслись руки и ноги, зубом на зуб не попадала. Одно уразумела: «облагодетельствовал» Мстислав Леопольдович! Только он мог назвать ее, чтоб очистить от грязи собственный хвост!
Едва успела надеть солдатские штаны, но еще не затянулась ремнем, не обулась, как влетел Санька!
– Комиссар идет, с матросами! Не поспели. Ты это…
Сгреб буржуйское барахло в охапку и затолкал под свою кровать. А вот и Ной на пороге в рыжей бекеше, перекрещенной ремнями, при шашке, а за ним, в размах его плеч, комиссар полка Свиридов с двумя матросами в шапках-ушанках и в своих неизменных черных бушлатах.
Комиссар взглянул на Дуню и круто повернулся лицом к председателю:
– Она?! Что ж вы говорили, что знать не знаете пулеметчицы?
– Нету здесь пулеметчицы, а вот землячка моя, Евдокией звать, гостюет.
– А ну, позволь взглянуть, – Свиридов хотел обойти Ноя, да тот взмахнул правой рукой и в ладонь из рукава бекеши сам собою влип револьвер. – Ты эти штучки брось, председатель! – напружинился комиссар и – руку на деревянную кобуру маузера, а за ним, как по команде, матросы выхватили маузеры.
– Не балуйте! – осадил Ной. – Слышите топот? Сейчас будет здесь сотня енисейцев. Гляди в окно – прискакали уже. Я не ваше высокоблагородие – у меня за спиной казаки, на позиции вместе пластались. За мою голову ни едной головы матросов не останется во всей Гатчине.
Скулы Свиридова отвердели, как из бронзы литые. Санька меж тем, отступив к своей кровати, ошалело таращился на всех.
– Ной Васильевич! Ни к чему эдак-то. За какую-то пулеметчицу, господи прости, голову терять? Сколько она казаков перестреляла! Миловать ее, што ль?!
Ной коротко и люто оглянулся на Саньку и опять уставился на комиссара.
– Да ведь я ее знаю! Точно! – пригляделся Свиридов. – Как у меня вылетело из головы. Это же питерская проститутка Дуня!.. Известно вам, председатель, что это за штучка? В моем отряде есть матрос первой статьи Нестеров, он ее хорошо знает. Она была казначейшей в нашем матросском клубе в Кронштадте, а потом подхватил ее какой-то офицерик, и она умелась из Кронштадта в женский батальон смерти. Точно!
Председатель ничего не сказал на эти слова комиссара – стоял как каменный.
– А ну, собирайся! Ответ держать будешь за расстрел матросов.
– Не я, не я, не я! – пятилась Дуня за спину Ноя. – Леонова стреляла из пулемета с водокачки. Не я, не я!..
– Врешь, штучка! Собирайся!
– А я грю, не возьмешь ее, комиссар. Не она была заглавной фигурой – не ей ответ держать. Кабы я вчера был в штабе, не дал бы под распыл, пятерых батальонщиц!
У Свиридова желваки играли на выпяченных скулах.
За окном кони, кони, всадники, всадники – всю улицу запрудили. Кто-то зычно подал команду:
– Спе-ешиться! Окружить! Матросов с комиссарами не пускать из дома!
Ной спокойно спрятал револьвер в кобуру:
– Слышал, комиссар, как твоя башка взыграла? Не пулеметчицу тебе брать надо под арест, а тех серых, которые закружили бабий батальон. Да и наш полк окончательно развалили!
Свиридов укоризненно покачал головой:
– Не думал, что за какую-то потаскуху бузу поднимешь. Не думал! Дело не в том, что она не заглавная фигура, как ты говоришь, но она контрреволюционерка! Это уж совершенно точно. А ты ее покрываешь. Это как понимать?!
– Так и понимай, комиссар: лежачих не убиваю. В этаком круговращенье, какое происходит по всей России, не одна Евдокия Юскова закружилась. А может, и мы с тобой закружились, если друг друга не понимаем?
– Ты бы узнал у матроса Нестерова, кто она такая. Мы ее подобрали в Петрограде, доверие оказали в Кронштадте, а что вышло? Как была она… Пусть сама скажет. Спроси, кто она такая?
– Ни к чему спрос, – отмахнулся Ной. – Если вы ее таскали – не вам хвалиться. Всякого можно истаскать и затаскать, а после к стенке поставить. Или она не в женском облике? Или с оружием против тебя стоит? Была драка – бились, после драки – думать надо, милосердными быть к поверженным и побежденным. Такоже!
– Ладно, председатель. Нам нужно ехать в Смольный, – трудно провернул комиссар, когда распахнулась дверь и в комнату ввалились казаки.
Карабины. Шашки. Револьверы.
– Если не дашь слово, что матросы твои не тронут без меня Евдокию, в Смольный не поеду. И комитетчики с места не тронутся.
– На кой черт мне твоя Евдокия! Держи ее при себе, если она тебе так понравилась, – раздраженно ответил Свиридов.
– Не те слова говоришь, комиссар, – урезонил Ной. – Про то, понравилась или не понравилась – разговора нет. Я за всю войну ни единой жизни не погубил зазря. В бою – лоб в лоб, зуб в зуб. А если без боя – не шашками лязгать, не револьверами тыкать в морду.
Свиридов еще раз напомнил, что надо ехать в Смольный, поезд на Петроград подойдет через полчаса.
– Пулеметчицу никто из матросов не тронет. Можешь не беспокоиться.
– Ладно, – согласно прогудел Ной. – А теперь ступай на станцию, и вы тоже идите, – кивнул Крыслову, Сазонову и Павлову. – Проводите, казаки, комиссара. И чтоб никакого шума. Честь по чести. А ты, Мамалыгин, снаряди людей выкопать братскую могилу для павших в бою.
Подхорунжий Мамалыгин спросил:
– Где копать?
– На кладбище. Или убитые нехристи?
Как только последний из уходящих закрыл за собою дверь, Ной, облегченно переводя дух, вытер рукою пот со лба, уставился на ординарца.
– Экая ты падаль, Александра! А ну пойдем, поговорим.
У Саньки округлились глаза, как луковицы, и рот открылся.
– Разве я, Ной Васильевич? Разве я? За ради Христа…
– Пойдем, говорю! – люто прицыкнул Ной и, распахнув дверь, пропустил вперед ординарца.