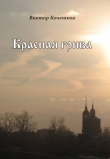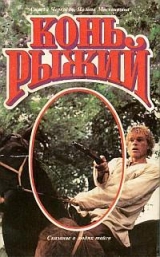
Текст книги "Конь Рыжий"
Автор книги: Алексей Черкасов
Соавторы: Полина Москвитина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Не удалось Сотникову выставить Головню на суд казачьего круга: атаманы подвели. Дважды посылал казаков за атаманами, а те что-то мешкали, потом явились чинно так, один за другим: Каратузской станицы – Платон Шошин, Монской – Андрей Крупняк, Саянской – Михайла Спирин и Таштыпской – атаман Василий Васильевич Лебедь, а с ним, нежданно встреченный в Белой Елани, сын Ной Васильевич – хорунжий.
В ревкоме набилось офицеров, казаков, штатских, но атаманы протиснулись вперед. Так, мол, и так достославный атаман Енисейского казачьего войска, заявил Платон Шошин, мы, казаки, промеж себя порешили до лета свары с красными не начинать. Март греет, а за ним апрель подоспеет – с посевами надо управиться, к хозяйствам руки потянулись.
– Супротив мира не попрешь, – говорил Платон Шошин. – Как все наши станичники, так и мы. Так что извиняйте, атаман, а так и ваши офицеры, какие пришли к нам в войско в Красноярске. Мои одностаничники, каратузцы, на постой не пошли: кони передохнули, потопаем далее, домой.
Сотник прикусил пшеничный ус, сдержался от взрыва. Бородачи хитрят, в кусты ныряют. А что он с ними может поделать? В Красноярске отвалились эскадроны из нижнеенисейских станиц, остались Минусинского уезда, и эти разбредутся. Не вышло у атамана «славного присоединения к доблестным донским казакам», как о том телеграфировал он генералу Каледину в Ново-Черкасск; не получилось «сибирского правительства», и атаман покуда не военный министр, хоть и вписан министром в секретные бумаги томской «Сибоблдумой».
– Что же вы думаете, атаманы, помилуют вас большевики за восстание? – сдержанно спросил Сотников, оглядываясь на офицеров. – Сейчас, когда мы все сжались в тугой кулак, и у нас – пулеметы, две трехдюймовки, триста семьдесят пять конных, сотня отчаянных орлов на подводах – красногвардейский Минусинский гарнизон, нам не страшен. С ходу возьмем город.
Атаманы переглянулись. Ответил за всех Платон Шошин:
– Оно так, господин атаман, да ни к чему то. Вот хорунжий Ной Лебедь, полный георгиевский кавалер, сын атамана Лебедя, приехал из Петрограда. Сказывает: наш полк, какой стоял в Гатчине под Петроградом, принял сторону новой власти. Это как понимать?
– Это провокация! – выкрикнул Сотников. – Где он, хорунжий?
Вместо хорунжего выступил на шаг вперед атаман Лебедь – бородища рыжая, окладистая, могутный, в черненом полушубке и в черных катанках, предупредил атамана:
– Хорунжий – сын мой, атаман. Кость от кости мой и бровь от брови мой! Один сын сгил на позиции, а другой возвернулся из Петрограда. Вот он, сын мой, хорунжий, герой, спасший от немцев первый Енисейский полк еще в августе четырнадцатого года.
Атаман зверовато взглядывал то на отца – рыжая бородища, то на сына – хорунжего – рыжая подкова, каракулевая белая папаха, и на голову выше отца. Так вот в чем причина развала войска!..
– Теперь, атаман, скажу так: красные отпустили мово сына из Петрограда живым-здоровым; дак и мы, казаки, не из воды в воду, не из грязи в грязь, а из воды и грязи на сухое место вылезем. Ни к чему нам кровь цедить из совдеповцев, а они будут цедить из нас.
Монский атаман поддержал:
– Раззудим красных, соберут силу и растреплют в пух-прах. Вот и отсеемся и отпашемся, а к осени – зубы на полку. Перемежаться надо. Хитрость на хитрость метать. Мы их не тронем, и они нас, глядишь, оставят на нашем хрестьянстве.
– Тэкс! – Сотников подумал. Не свяжешь большевика хорунжего – атаманы вот они, а за ними – лбы казачьи! Будь они все прокляты, дуболомы! – Тэкс! Хорунжий, значит, при Георгиях? Большевик?
Хорунжий Лебедь подтянулся – бороду чуть вверх, пятки сапогов сдвинул, грудь выпятил:
– Не большевик, – ответил басом.
– Документы!
Хорунжий отвернул полу бекеши, достал из кармана кителя демобилизационные и наградные документы.
– Ну-с, – мычал Сотников, проверяя документы. – Председатель полкового комитета?
– Так точно. С апреля 1917 года.
– Что за полк?
– Был первый Енисейский, а с октября, после нового формирования, Сибирский сводный.
– И весь он перешел на сторону большевиков?
– Полковой митинг принял такую резолюцию.
– Тэкс! Резолюцию? И ты подсказал казакам, что надо голосовать за резолюцию большевиков?
– Не я, сила красных подсказала.
– Вранье! – опять вспылил атаман. – Вас всех специально разослали, чтоб вы агитировали за большевиков. Удачный маневр! За такие дела расстреливают на месте! Что же вы смотрите, атаманы?
Атаманы теснее стали друг к другу, и Платон Шошин сказал за всех:
– Стрелять хорунжего Лебедя не будем, а так и банду покрывать. Вот налетела на Белую Елань банда, а хто был в ней? Есаул Потылицын! Такого есаула близ войска не подпустим! Потому – казаки – праведное войско, а не бандиты!
– Не бандиты! – гаркнули атаманы.
– А в Каратузе, атаман, – продолжал Шошин, – созовем казачий круг – и вас, само собой, милости просим. А теперь двигаться надо. Кони отдохнули – токмо в седлы, и в Каратузе будем.
Такого ультиматума Сотников не ждал.
– Ну, что ж. Давайте по коням. Я еду с вами. Казаки других станиц останутся пока здесь, – сдался он, сдерживаясь от ярости. Они его предали, предали, бородатые дьяволы. Поспешают к бабам в пуховые постели, к мирским штанам со втоками до колена; будут гнать самогонку, отъедаться шаньгами и мясом, отсыпаться, и чхать им на всю Россию-матушку.
Сотников уехал с каратузцами, а на другой день, по утренней сизости с морозцем, атаман Лебедь вместе с сыном Ноем увел своих таштыпских казаков. В Белой Елани остались монские, саянские и десятка три из станицы Арбаты, беглые офицеры с ними, несколько семинаристов с пророком Моисеем, и пятеро эсеров с Яковом Штибеном. Пировали в богатых домах, отъедались, покуда из Минусинска не подошел красногвардейский отряд. Казаки, не приняв боя, удрали, оставив красногвардейцам семинаристов и беглых офицеров.
В доме Юсковых, до того, как Белую Елань заняли красногвардейцы, отвели поминки по убиенным рабам божьим Елизару и его младшему брату Игнатию. Похоронили их по федосеевскому обряду с песнопением на староверческом кладбище. Иванушка Валявин – детинушка родимой матушки, не мешкая, перебрался в осиротевший дом и поторапливал овдовевшую Александру Панкратьевну со свадьбой – чего, мол, время терять! Евдокея-то, чего доброго, вернется и залезет в дом хозяйкой!
Сразу после похорон, чуя неладное, пророк Моисей заложил пару юсковских коней в хозяйскую кошеву, навьючил на пялы богатые пожитки обращенной в его осиновую веру Алевтины Карловны и умчался дорогою на Красноярск. Рыжего Вельзевула увел на поводу за кошевой: норовистый жеребец не объезжен был ходить в упряжи.
Немало пророк отправил на тот свет большевиков по пути из Красноярска в Минусинский уезд. Губернское ЧК разыскивало его, но пророк был не из тех, кого берут голыми руками. Сменил разбойничье одеяние на крестьянское, пристроил Алевтину Карповну в городе, а сам на некоторое время скрылся в ожидании «большой свары красных с белыми».
Войско атамана Сотникова расползлось по станицам. Сам Сотников с верными офицерами и десятком казаков, уклоняясь от боя с красными, отступил тайгою в Кузнецкий уезд…
XI…В ту памятную ночь, когда Дуня бежала из Белой Елани от мятежного войска атамана Сотникова с Тимофеем Прокопьевичем, и золото Елизара Елизаровича – два слитка – прихватили с собой, еще никто понятия не имел, что произойдет в Сибири спустя каких-то три месяца!..
Тимофей Прокопьевич сказал в Минусинске, что золото придется сдать Евдокии Елизаровне в Государственный банк в Красноярске: «Прииски еще не национализированы, и произвола быть не может. Там оформят, как полагается». И Дуня охотно согласилась поехать в Красноярск. На две недели они задержались в Минусинске, и тут нежданно привалило счастье: инженер Грива передал Дуне имущество утопшей сестры и деньгами семь тысяч – кругленькая сумма, тем паче для Дуни с ее пустым кошельком! Она ничего подобного не ожидала от Гривы и не слышала, что у Дарьюшки имелись деньги, хоть не миллион, а деньги же, да еще золотом – чистейшими империалами! Хоть на зуб возьми, хоть царскою водкой испытывай!..
Дуня сперва растерялась:
– Про вещи Дарьюшки и про золото, Гавриил Иванович, никто не знает, а вы отдаете мне. Дарьюшка была вашей женой, и золото ваше, значит. И вещи. С чего мне-то отдаете?
Инженер Грива ответил:
– Как вы помните, Евдокия Елизаровна, я вам сказал: ваша покойная сестра не была моею женой. Если уточнить – ее действительным мужем был комиссар Боровиков, с коим я не имел, не имею, и не собираюсь иметь никаких отношений. А посему – ни вещей, вплоть до пуговиц, гребней и прочего, ни ее личного капитала, полученного, надо полагать, от Елизара Елизаровича, я не намерен присваивать. Своего достаточно. Да-с! И вам советую не говорить про эти деньги – незамедлительно отберут и в кутузку посадят: подумают, что у вас еще миллион! Мы с братом Арсением уезжаем навсегда из России. Эмигрируем в Южную Америку, в Монтевидео.
Грива сам сложил и увязал вещи Дарьюшки: две зимних шубы, пальто демисезонное и два летних, накидка японская и еще одна накидка бельгийская, новехонькая, ни разу не одеванная, перина пуховая, три подушки, два одеяла, ящик с бельем, платьями и всякими безделушками вплоть до пустых флаконов из-под французских духов, три пары галош, две пары ботинок, две шали и полушалки еще, шляпка, множество книг, от которых Дуня Христом-богом отмахивалась, но Грива все-таки упаковал их, а потом вызвал управляющего заведением доктора Гривы, Антона Цыса, приказал заложить пару лошадей, и лично сам отвез Дуню к Василию Кирилловичу Юскову, где она остановилась на квартире.
– Ну, прощайте, Евдокия Елизаровна! – поклонился Дуне и не подал руки. Как деревянный будто. Сел в кошеву, гикнул на гнедых и умчался.
Дуня осталась с узлами и чемоданами у ворот, глядя вслед кошеве.
«Боженька! Какие же бывают дураки на белом свете! – подумала она и расхохоталась. – Надо же, а! Индюк! Чистый индюк. Из России уедет, подумаешь, велика потеря! «Эмигрируем»! Катись колбаской, инженер пригожий».
Вскоре Дуня выехала с Тимофеем Прокопьевичем из Минусинска. За деревней Быстрой их обогнали на тройке братья Гривы – Гавриил Иванович и Арсений Иванович, он же профессор Арзур Палло.
Санный путь был проложен Енисеем по льду среди торосов. Случилось так, что кошевы зацепились. Пока их растаскивали, Дуня с Тимофеем стояли у дороги. Младший Грива даже не поклонился в их сторону, будто знать не знал. А старший, чуть кивнув, обратился к Боровикову:
– Вы все еще хлеб давите из крестьян, Тимофей Прокопьевич? Вот чем закончились наши прошлогодние споры о диктатуре партии большевиков!
– Не партии большевиков, а пролетариата, – напружинясь ответил Тимофей.
– Оставьте, господин Боровиков! Моя сестра назначена работать в УЧК. Что же, вы ее тоже причисляете к так называемому пролетариату? И комиссаром в полку она была по назначению такого же пролетария – господина Дзержинского, – язвил Арзур Палло, раскуривая папиросу. – Впрочем, мне все ясно: Россия скатилась к разрухе, какой не переживала даже Мексика за долгие годы гражданской войны. Там у нас, к счастью, не было ни ВЧК, ни партии большевиков.
– И потому революцию в Мексике раздавила буржуазия, – отпарировал Тимофей Прокопьевич.
– Уж лучше пусть будет буржуазное правительство и относительная свобода, господин Боровиков, чем единовластие и диктатура большевиков с ВЧК! Впрочем, мне теперь все равно… – Бросив недокуренную папиросу и не попрощавшись, Арзур Палло направился к кошеве, на пялах которой были уложены вместительные корзины и тюки.
Ненависть захлестнула горло Тимофею. Разрядить бы маузер в этих сволочей, которым там и родина, где хорошо.
– Пусть катятся колбаской, господа образованные! – поддакнула Дуня. – Подумаешь! Монтевидео!
На подъезде к городу Тимофей спросил Дуню: куда она думает устроиться на работу? Но Дуня уже успела забыть про работу: при ней же баульчик с золотом покойной Дарьюшки! И слитки, слитки!
– Мне бы сперва в гостиницу устроиться, Тимофей Прокопьевич, – уклончиво ответила она.
Тимофей помог ей занять отдельный номер в гостинице «Метрополь».
В реестре Красноярского Государственного банка появилась запись:
«Принято от гражданки Евдокии Елизаровны Юсковой, дочери Е. Е. Юскова, золотопромышленника и сопайщика акционерного общества пароходства и торговли, сопайщика приисков и рудников Ухоздвигов и К°, на текущий счет компании два нестандартных слитка золота с печаткою «ЕЕЮ». В одном вес 39 фун. 5 золотников и 2 доли, в другом – 40 фун. 3 зол. и 7 долей. Общий вес 79 фунтов 8 золотников и 9 долей. Казначей Румянцев».
Папашино золото Евдокия Елизаровна сдала в присутствии чрезвычайного комиссара Боровикова, но записано-то было на счет компании! А разве она не наследница Е. Е. Юскова?..
У Дуни за плечами будто золотые крылья выросли – она же миллионщица!..
XIIПосле сдачи золота Дуня распрощалась с Тимофеем.
Разошлись, как будто и не ехали вместе – случайные попутчики…
Дуня шла деревянным тротуаром по Большой улице, разглядывая знакомый до мельчайших подробностей Красноярск, как вдруг остановил ее человек в поношенном пальто, узколицый, ничем не примечательный.
Приподняв шапку над головой, незнакомец учтиво сказал:
– Прошу прощения, мадемуазель. Не сочтите за дерзость…
У Дуни хищно сузились ноздри – кто-то из ее бывших клиентов! Еще чего не хватало в такой день, когда за ее плечами только что начали отрастать золотые крылышки.
– Вы меня не узнаете?
Дуня зло фыркнула:
– Представьте, мил-сдарь, не узнаю. И не имела чести знать!
Незнакомец посутулился, но робко дополнил:
– А я вас готовил, простите, в подготовительный класс гимназии. Поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов, сын покойного Иннокентия Евменыча, сокомпанейца вашего папаши. Горный инженер и, к великому сожалению, никому теперь не нужный, – представился Ухоздвигов.
Дуня моментально сообразила: этот человек – горный инженер. Значит, он нужен ей, как хлеб насущный!
– Простите, пожалуйста, Гавриил Иннокентьевич, – извинилась. – Я очень рада встрече!
– Неужели?
– Конечно рада! Хочу спросить: прииски и рудники не национализированы?
– Ни в коем случае! – взбодрился горный инженер. – Местные власти учинили некоторый произвол, и добыча золота скатилась к нулю. Но получен строжайший нагоняй Совнаркома. Советам нужно золото, золото! А его можно взять при действующих приисках и рудниках. А действовать они могут только при умелом руководстве! Иначе золото останется в недрах. Драги бездействуют, гидравлика парализована. Рудничные комитеты разогнали мастеров и техников, бойкотируя бывших владельцев, и полностью парализовали добычу золота. Вернее, приток золота в Государственный банк! Я именно этим вопросом занимаюсь при специальной комиссии губернского Совета у товарища Дубровинского. Ну, а поскольку я в некотором роде наследник погибшего папаши, меня назначили главным администратором компании. Послан от губернского Совета вызов вашему отцу – без него нельзя начать работы. Он же сокомпанеец. Главный!
У Дуни сердце екнуло от такой новости. Надо же! А в глазах – бесики, бесики. Выпалила, как из ружья:
– Нету главного, в могиле черти жрут! И третьего сокомпанейца Кондратия Урвана уже, наверно, доедают.
– Н-не п-понимаю, – запнулся ошарашенный Ухоздвигов.
– Чего тут не понять? Папашу шлепнули, как бандита, а того Урвана… еще двумя пулями прошили, как он того заслужил!
– Это все меняет! Решительно все меняет! – пробормотал поручик.
– Что меняет! – вцепилась Дуня. – Я наследница капиталов папаши и Урвана.
У инженера рот распахнулся от столь ошеломляющей вести: перед ним наследница капиталов Елизара Елизаровича – «жми-дави Юскова» и Урвана.
– Прошу прощения…
– Какое «прощение»! Спасибо за радостное известие! – У Дуни, казалось, крылья подросли на три аршина каждый. – Вот уж не чаяла, боженька! Аж в зобу дыханье сперло!
Горный инженер только хлопал глазами.
– Вы где остановились?
– В частной гостинице, на Узенькой.
– К лешему Узенькую! – разошлась Дуня. – Переходите ко мне в номер «Метрополя» – не раздеремся, может. Мы же, получается, сокомпанейцы!
– Но я… видите ли… вы же помните… незаконнорожденный.
– Вот еще мне! Есть о чем печалиться! – выпалила Дуня. – Возьмите меня под руку, кавалер, проводите к гостинице. – И, чтоб враз разрешить все существенные вопросы, спросила: – Вы женаты?
– Н-не успел. Я же взят был… вернее, добровольцем ушел на фронт после университета. Взыграл дурацкий патриотизм.
– С дуростью пора кончать. А братья ваши где?
– Старший, Иннокентий Иннокентьевич, полковник, арестован в Омске, сидит в тюрьме за участие в мятеже атамана Анненкова. Сотник Андрей Иннокентьевич сейчас неизвестно, где скрывается.
– А этот, которого я встречала в Гатчине…
– Вы о ком, собственно?
– О вашем третьем брате, о ком же! Законном.
– Что-то я… извините… не совсем понимаю, Евдокия Елизаровна, простите.
– Вот еще! Брат своих братьев не помнит. А Кирилл Иннокентьевич Ухоздвигов?
– Ах, вот вы о ком! – промямлил поручик Ухоздвигов. – Тут, извините, что-то темное. Сейчас он сидит здесь в тюрьме – нелегально приезжал к красноярскому подпольному союзу, и на тайном совещании арестован с офицерами. Я его лично не встречал. Слышал от отца, что он родился от первого брака. Но Кириллу в четырехлетнем возрасте усыновил какой-то барон фон Таубе, женатый на сестре его умершей матери. Кажется, этот немец имел завод в Златоусте. Ну, вскоре они уехали в Берлин, и на том связь оборвалась. Старший брат бывал в этом семействе, рассказывал, что Кирилл закончил какую-то академию, работал во Франции, а потом вернулся в Россию, был в Белой Елани. Но отец его выгнал и в завещании особо оговорил, что он лишает его прав наследства.
– Интересно! – раздумчиво проговорила Дуня. – А он мне сказал, что с марта по май прошлого года находился в Красноярске и женился на какой-то дочери капитана. Врал?
– Не врал. Он действительно женат на дочери капитана Шубина, учительнице. Но с братьями не встречался. Я вам говорю: тут что-то не совсем ясное!
– Ну и лешак с ним! – с маху покончила Дуня с туманным прошлым Кириллы Иннокентьевича. Главное – начать дело, не допустить к наследству ни маменьку, ни убогую горбунью – сестру с ее мужем Иваном Валявиным.
На другой день в гостиницу к Дуне пожаловал офицер, знающий ее как члена «тайного союза» по Северо-Западному фронту. Пригласил вместе с Ухоздвиговым на тайную явку. И кого же встретила там Дуня? Полковника Мстислава Леопольдовича Дальчевского!
Золотые сказки отодвинулись в туманную даль: Дуня должна срочно выехать с господами офицерами по особо важному делу в Челябинск…
Минуло всего полтора месяца после разминки Дуни с Ноем. А сколько разного наслоилось. Дуня и думать забыла о нем: со злом вырвала из памяти, как пуговку от платья. И вдруг он напомнил о себе. Да так, что Дуню в холодный пот кинуло: не появилось того, чего она ждала, женского. Высчитала по дням: Конь Рыжий облагодетельствовал! А ведь она давно забыла про эти самые «женские дела». Думала, никогда уже не способна стать матерью. Вот еще не было печали!.. А перед глазами Ной, Ной, Ной! Его прищурый добрый взгляд осуждает, прохватывает до печенки!..
ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ
IНой отдыхал – отсыпался и отъедался после Гатчины и поездки в Белую Елань, где он сумел убедить атаманов казачьих станиц тихо и мирно разъехаться по станицам, чтоб не сполоснуть уезд кровушкой.
Казаков пошерстили-таки красногвардейцы Минусинского военного гарнизона под командованием хорунжего Мариева. Отряд Мариева занял Таштып; сперва арестовали поголовно всех мятежников, разоружили, большинство отпустили с миром, а пятнадцать особо злющих, как Никиту Никулина, его брата урядника Синяева вместе с атаманом Василием Васильевичем Лебедем, спровадили в минусинскую тюрьму.
Пришлось Ною сесть в седло и лететь в город. Встретился лично с председателем уездного Совета неким Тарелкиным, эсером, скользким и хитрым, который наговорил ему с три короба про мировую революцию, а потом как бы мимоходом обмолвился:
– Арест полезен казакам, товарищ Лебедь, – и так-то хитро сощурился. – Если уж они шли на уезд, с чего же вдруг разбежались по станицам, как зайцы по кустам? Это же не казаки, а, извините, сволочи. Держать бы их в тюрьме до нового светопреставления. Впрочем, коль вы ходатайствуете, все будут освобождены.
Ной не забыл о поручении Ленина передать благодарность крестьянам и казакам, сдающим добровольно хлебные излишки для голодающих губерний России. Тарелкина понесло по кабинету:
– До-обровольно?! Ха, ха, ха! Вы шутите, господин хорунжий! Если вы считаете, что крестьянин сдал хлеб под стволом маузера такого комиссара, как Боровиков, добровольно, то – помилуйте! Тогда что же вы назовете насилием над личностью и попранием свободы?! Впрочем, благодарность Ленина мною будет передана. Но я, извините, из тех деятелей, которые еще со времен школы помнят некоторые места закона божьего: «Не сотворите себе кумира и кумир не сожрет вас».
– Такого нет в евангелии, – отверг Ной. – Есть просто: «Да не сотворите себе кумира». А эсеров, товарищ Тарелкин, казаки свободного Сибирского полка называли «серыми баламутами» за их вихляние: на словах за власть Советов, а на деле – против.
Тарелкин больше ничего не сказал, учтиво распрощался с хорунжим и дал распоряжение немедленно освободить из тюрьмы Василия Васильевича Лебедя и с ним всех арестованных казаков.
Ной без подсказки уяснил: шкура этот Тарелкин!..
Между тем, после возвращения в станицу ординарна Саньки Круглова с невесть откуда взятыми товарами и тугой мошной, по станице шумнуло прозвище Ноя – Конь Рыжий, и что он-де в чести был у большевиков и у самого Ленина в Смольном! Ездил туда на какие-то тайные переговоры, и пошло, пошло. Даже в станице Арбаты узнали – специально наведывались оттуда казаки, чтоб поглядеть на Коня Рыжего. Да и местные станичники, что ни день, то собирались в доме атамана Лебедя, выспрашивая у Ноя, какая она есть в натуральности Советская власть с большевиками, и чего надо ждать от этой власти казакам, и есть ли сила у большевиков, чтоб усидеть в седле? Ной отвечал сдержанно, скуповато. Батюшка Лебедь особо предупредил сына, чтоб он запамятовал про свое большевистство. Было и – сплыло, или тебе башки не сносить – казаки в одной упряжи с большевиками ходить не будут.
Чугунолитые пашни на солнцепеках, пригретые солнцем, до пасхи позвали к себе с боронами и сеялками.
Жарким было солнце, перепадали вешние дожди, земля парила струистым маревом; ранняя и угревная удалась весна на юге Сибири, как будто сама природа расщедрилась, чтоб умилостивить благодатью умыканных войною и разрухою хлебопашцев.
В станицу потянулись отощалые люди из города и поселенческих деревень; на пашне у Лебедей работало четверо пришлых мужиков с бабами – за хлебушко старались.
Холодными ночами, бывало, отдыхая возле стана у огня, батюшка Лебедь затягивал единственную полюбившуюся ему песню:
Бывало вспашешь пашенку,
Лошадок распряжешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом пойдешь…
Идешь, уж дожидается
Красавица моя,
Коса полураспущена,
Как лебедь грудь бела…
И самым паскудным, по соображению Ноя, было то, что батюшка Лебедь не только пел про красавицу с полураспущенной косой и лебяжье-белой грудью, но еще тайком пробирался из своего стана в не столь отдаленный стан казачки-вдовушки и миловался там до утра, а возвращаясь из таких прогулок, сердито фыркал: лошадей, дескать, распустили! Всю ночь гонялся за мерином – с ног валится от усталости. И потом храпел до полудня.