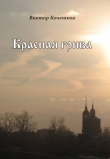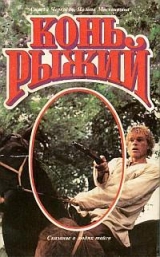
Текст книги "Конь Рыжий"
Автор книги: Алексей Черкасов
Соавторы: Полина Москвитина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Смертница готова была втиснуться в ствол дерева, уставившись на рыжебородого казака немигающими черными глазами.
Взгляды их встретились, словно накрепко затянули узел, – не развязать.
Один миг – всего один миг охватного, объемного взгляда. Белое лицо, словно из него выцедили всю кровь, чуть открытый рот с белеющими плотными зубами, трясущиеся губы и подбородок с ямочкой, маленький чуть вздернутый нос, большие, страхом насыщенные глаза, пряди волос по плечам до маленьких опавших грудей и напряженное дыхание.
Она вдруг сползла вниз, и руки ее безжизненно упали на снег. Но где же ее одежда? Ной глянул туда, сюда, побежал к плотному кустарнику – нашел! Схватил в охапку все, что валялось разбросанным, примчался, а пулеметчица ревет, ревет в голос, сотрясаясь всем телом. Бьется, бессвязно выкрикивая: «Не я! не я! не я! Убейте меня, убейте!..»
Снег таял на ее голом теле, оседая крупными каплями, волосы в снегу, спутались комом. Попытался надеть байковую рубаху, но батальонщица вцепилась ему в бороду, булькая невнятными словами, а глаза дикие, ошалелые. «Вот оно как после смертной казни отходят, господи! Хоть бы умом не тронулась. Беда! Не бросать же ее в таком положении».
– Да охолонись ты, дура! Охолонись! Или те не морозно кататься по снегу? Сгинешь, язва! Дуры вы, дуры! Из благородных барышень, должно. В Сибири такой дуры отродясь не сыщешь!
– Из Сибири я. Из Сибири! Только убейте поскорее!
– Ври! Ты Сибирь-то, поди, не нюхала, – миролюбиво оказал Ной, натягивая шинель на пулеметчицу, и потом затянул армейским ремнем – крючки все были вырваны. Из шапки вытряхнул снег, надел ей на голову, не заправив волосы. Сапоги настыли – холоднющие. Взялся оттирать ноги пулеметчицы – не сопротивляется, хлюпает носом. – Где ты бывала в Сибири? – спросил, чтобы пришла в себя поскорее. – В книгах, однако, читала про Сибирь?
– Я в Сибири родилась! Ах, да не все ли вам равно?!
– Где? – дрогнул Ной.
– В Минусинском уезде, на Амыле.
– Деревня какая?
– Белая Елань на Амыле. Там у нас тоже казаки. Каратузской станицы, Монской, Арбаты, Таштыпа… – совсем как малый ребенок лепетала бравая воительница.
– Господи прости. Я со станицы Таштып. Лебедь моя фамилия.
– Я в Таштып не раз ездила. У отца там кожевенный завод был.
– Экое! Один у нас завод – Юскова, миллионщика. Ты, стал быть, самого Юскова?
Ной слышал про миллионщика Юскова: «Чужое сожрет, свое сожрет, из-под себя сожрет и не поморщится».
Сказал:
– Ах ты, якри тя! Чего ж ты, дура, сразу не сказала, что ты сибирская, а не питерская? Экое! Знать, мильены папаши погнали тебя в батальон смерти?
– «Мильены»! Нету у меня мильенов, нету у меня папаши! – вздыбилась пулеметчица. – Есть душегуб, который терзал меня, как вот вы, казаки рыжие, зверь зверем. Если бы всех вас вместе с папашей под пулемет – узнали бы, какая я миллионщица. Боженька! Что ты меня не пристрелил?
– Ладно, ладно, не сопливься, – бурчал Ной. – Моли бога, что подоспел вовремя. Ну, чего? Вставай!
– Нога у меня подвернулась.
Батальонщица, поднявшись, зацепилась за какую-то корягу и сунулась лицом в снег. Ной подхватил ее на руки и вынес из леса.
– Сейчас на коне домчу тя, дуреха. Сейчас!
У старого вяза топтался юдин конь на привязи – рыжий конь хорунжего. Девица как глянула на коня, забилась на руках Ноя, вскрикивая:
– Конь рыжий! Конь рыжий! Пусти, пусти, пусти!
– Экое! Что тебе мой конь рыжий?
Девица выскользнула из рук, как щука, лопочет:
– Боженька! Боженька!
– Экая, господи прости! Я за войну на всех мастях поездил, язви ее в душу. Сколько коней хануло подо мной, а я…
Батальонщица пятилась, пятилась, запнулась о мертвое тело, отупело взглянула на отрубленную голову подруженьки и, ойкнув, раскинув руки, упала навзничь – лицом к небу. Ной подскочил к ней – глаза зажмурены, зубы стиснуты и – ни звука. Присев на колени, подсунул руку под спину, глядит в лицо, и как будто чем прожгло душу – понять не может.
– «Экое, а?! Ах ты, язва сибирская!
Стянул зубами шерстяную перчатку с руки, зачерпнул горсть снега и давай тереть лицо, чтоб очнулась. Нет, не приходит в себя. Не умерла ли? Давай потряхивать на левой руке, и девица протяжно охнула. Ну, слава Христе, живая! Конь остервенело бил копытами и, мотая головой, всхрапывал, тараща карие глаза на рыжебородого Ноя с ношей в руках.
IIIНой не сумел бы ответить даже на страшном суде: почему он, бывалый казак, повидавший тысячи смертей, жестоко рубивший врагов на позиции, вдруг размягчился, подобрал батальонщицу, и мало того, поехал с нею на коне не полем недавнего сражения, где еще были казаки, солдаты и матросы, подбиравшие оружие, раненых и убитых, ошкуривающие не остывших лошадей; он мчался с нею бездорожьем, чтоб никто не встретился, и, когда она пришла в себя от тряски, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал к Гатчине.
– Куда ты меня?
– Домой везу.
– Боженька!
– То-то, боженька!
– Командирша наша… Юлия Михайловна… Мы были с нею у вас в понедельник. Помните? Она так уверилась, что ваш полк начнет восстание! И мы все верили ей. А вышло так страшно, жутко!.. Разгром!.. Полный разгром!.. – И, прижимаясь к Ною, пулеметчица взмолилась: – Не отдавайте меня матросам, ради бога!
– Тиха! Людностью едем. И так сколько кружил.
– Мне страшно! Страшно!
– Как не страшно, коль смерть на плечах сидит. Может, проскочим.
Батальонщица притихла, жмется к Ною. А вот и каменная ограда вокруг белого дома. Заехал в ворота, спешился, снял землячку, посадил на крыльцо, завел коня в пустующий гараж, привязал там и повел пленницу в каменный белый дом под железным укрытием с тремя трубами, из которых давно не пахло дымом.
– Как тебя звать, землячка? – спросил Ной, когда провел батальонщицу в свою комнату. – Дуня? Ладно. Меня Ноем зовут, Васильевичем кличут. Сейчас подшурую печку – тепло будет. Куда запропастился ординарец, якри его?.. Болят ноги-то? Три! Пальцы-то побелели – сам видел. Разуйся и три. Без стесненьев.
– «Без стесненьев»! – вздула покусанные губы пленница. – Сколько девчат порубили, и «без стесненьев»!
– Само собой. Рубили, – поддакнул Ной, разжигая печку. – Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон.
– Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так не бились, как мы. Отсиживались в Гатчине. Казаки еще!
– А чего нам? Как на отдыхе и формировании. Кроме того, время, якри его, щекотливое. Вроде у большевиков на харчах проживаем.
– То-то и откормили вас!
– Неужто на голодуху держать полк? Само собой. А вот ваш батальон. Седне с красными, а завтра с белыми?
– Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные!
Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой.
– Экое у те соображенье. Ежели бы Ленин был немецкий шпион, чего ж тогда немцы не в Петрограде?
Чугунная «буржуйка», поставленная на кирпичи, зардела румянцем – тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуня сбросила шинель и, разувшись, подсела к печке. Болели прихваченные морозом ноги и руки, но она терпела, зло поглядывая на Коня Рыжего: что он с ней сотворит, неизвестно.
– Экое! запамятовал! – спохватился Ной. – Сейчас подлечу тебе ноги, землячка. У самого не раз прихватывало на позиции. Дак натирал гусиным салом.
Отыскал банку, подсел на корточки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колено. Дуня глубоко вздохнула и, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы – слеза за слезой, как из родничка. Не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе: она такая разнесчастная! Били – не убили, стреляли – не расстреляли!.. Сколько мучений пережила, сколько горюшка и позора изведала! И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утехи… И не оттого ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них?
– Больно?
– Н-нет.
– Ври! Запухли пальцы-то. Надо бы мне там еще оттереть снегом, да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету, не пьющие мы с ординарцем.
Взялся оттирать другую ногу.
– Экое! Плачешь! Эту ногу, что ль, подвернула? Больно?
– Не в ногах боль, не в ногах! – сквозь зубы процедила Дуня.
– А! – уразумел Ной и тоже вздохнул. – Понимаю, Дуня. Война, одно слово. И пораженья бывают, и победы, а все едино – кровью кровь смывают. У печки-то не надо держать ноги – шибче болеть будут. Дам шерстяные носки, надень да сунь в рукава моей бекеши – так лучше будет.
– Не надо!
– Пошто?
– А что мне ноги, если голову потеряла?
– Как так? Покуда человек живой – голова завсегда на своем месте. И соображенье имеет при этом. Обиды и горе отходчивы.
Поставил на «буржуйку» чайник, подкинул в огонь дубовых паркетных квадратиков и взялся за уборку комнаты. Утащил на улицу постели с обеих кроватей, вытряхнул на морозе, вернулся, застлал кровати, чтоб все было чин чином. Подмел пол, предварительно спрыснув пыль водою.
Пили вдвоем густо заваренный байховый чай с сахаром. Дуня все так же растерянно и подозрительно взглядывала на Ноя, трудно соображая. Страх жестокого пленения казаками, обида и боль за разгром батальона отошли в глубь сердца, и она, сводя черные, круто выписанные брови, думала: и чего он с ней возится, этот рыжий? Уж лучше бы к одному концу…
– Куда запропастился ординарец, язви его? – бормотнул Ной, когда Дуня отблагодарила за чай с сахаром с ржаным ломтем хлеба, испеченного напополам с охвостьями. – Может, в штабе что происходит?
Дуня села на кровать.
А Ной притащил беремя дров – остатки буржуйской мебели и паркетных полов.
– Ты замужем, Дуня?
Дуня зло усмехнулась. Они все так начинают: замужем ли! А если замужем – счастливый ли брак? Хорош ли муж?
– Н-нет. Не замужем.
– Училась, поди, в Питере?
У Дуни запрыгало веко левого глаза – нервный тик. Училась! Это она-то, Дуня Юскова, содержанка дома терпимости мадам Тарабайкиной-Маньчжурской!
– В Красноярске прошла все науки.
– В гимназии?
– В заведении и в домах миллионщиков.
– А! – кивнул Ной. Он, конечно, понял, в каких заведениях побывала пулемтчица Дуня, слышал, что батальонщицы охотно обслуживали женскими любезностями господ офицеров, но для Ноя это было отвратно, и он не стал дальше расспрашивать.
– А у вас какое военное звание?
– Председатель полкового комитета. А как войсковое – хорунжий.
– Большевик?
– Никак нет!
– Что же вы за большевиков поднялись? Или они вас купили?
– Мы не продажны, – весомо ответил Ной. – А поднялись пошто? Чтоб малой кровью сохранить большую кровь.
– Не понимаю!
– Да ведь если бы наш полк с артбригадой и ваш батальон прорвались в Петроград – большая бы лилась кровь. А там и без того люди изголодались, легко ли им? Из таких соображений.
– Боженька! Да ведь вы спасли большевиков! Наше командование рассчитало удар. В Петрограде нас поджидали два полка. Если бы еще ваш полк…
– Не можно то! – решительно отверг Ной. – Кабы Временное правительство было не буржуйским – миллионщиков разных, тогда бы в Петрограде не произошло в октябре восстания. А к чему теперь свергать большевиков, ежели они от большинства власть взяли?
И, помолчав, еще раз напомнил:
– Из этих соображений.
Дуня призадумалась. Куда же ее занесло? С кем она? С теми, кто ее мучил и покупал в заведении за трешку или красненькую? Бывало, «катеринки» перепадали, но от кого? И какой ценою!..
– Все так запутано, запутано! – бормотала Дуня, настороженно взглядывая на рыжего Ноя.
– Бывал и я в Белой Елани, – вспомнил Ной, – на полевых учениях. И дом Юскова помню. На середине улицы, кажись, большущий, на каменном фундаменте.
– На углу переулка? Наш.
– Богатый.
– Будь он проклят!
– Вот те и на! – ахнул Ной. – Как можно проклинать родительский дом?
– Нет у меня родительского дома. Нету! Есть дом душегуба-отца! Ох, как я их всех ненавижу! И цыгана-папашу, и дядей с тетками, и всех, всех!
– Господи прости!
– И господа – ко всем чертям! Ненавижу! Нету ни бога, ни черта, а есть только сволочи, сволочи всякие!
Ной еле промигался. Вот так землячка-миллионщица! С чего в ней лютость к людям и к господу богу даже? Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в апокалипсисе перед боем:
«И ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НАЙТИ ЕЕ, ТО ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ОН РАДУЕТСЯ О НЕЙ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ О ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИ НЕЗАБЛУДИВШИХСЯ».
А разве можно сыскать БОЛЕЕ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ, ЧЕМ ВОТ ЭТА ПОТЕРЯННАЯ и жалкая Дуня Юскова?
Нежели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже девяносто девяти незаблудившихся?
– Что на меня так смотрите? – спросила Дуня.
– Отчего в тебе экое озлобление к людям?
– Вот еще! Меня таскали, таскали, топтали, топтали, и я бы еще любила мучителей своих?
– Не все же таскали тебя и топтали. Ужли не встречала добрых людей?
– Не встречала таких! – зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. – Вот хотя бы вы! Заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет, и – полк не восстал!
– Не давал такого заверенья! Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал. И все тут. А потом Бологову от всего комитета заявили: полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня: отдыхивайся. Не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь ни за грош, ни за копейку.
Пришел ординарец Санька – усы черные, завинченные вверх, чернущий чуб, шельмоватые глаза, губастый, подобранный, узел картошки притащил и в карманах белой бекеши – консервные банки. Куча новостей к тому же.
– Седне нажрутся казаки конины от пуза. Тащут по казармам, кому сколь угодно. По полконю, ей-бо! Может, и нам взять?
– Бери, да вари на улице.
– А чаво? Чище коня животного нету.
– Потому и жрать нельзя его.
– Ох, и было в штабе! – перескочил Санька, посмотрев на Дуню. – Карпова с артбригадой спешно направили в Псков. Всех ваших батальонщиц матросы допросили. Всех бы пустили в расход, если бы не подъехал Подвойский. Увезут остатных в Петроград. Одна писарша, штабистка ихняя, хлипкая такая, на допросе выдала, какой сговор имела командирша Леонова с другими полками, и самых злющих из пулеметчиц назвала. По матросам в Суйде строчила будто отчаянная георгиевка Евдокия Юскова.
– Не я! Не я! – вскрикнула Дуня. Юлия Михайловна сама вела огонь.
Санька оглянулся:
– Эвва! Юлия Михайловна?!
– Она всех в кулаке держала. Вы же ее знаете!.. С красными комиссарами была красная, в Смольный не раз ездила.
Санька переглянулся с Ноем, сказал вполголоса:
– Ищут ее. Сам комиссар Свиридов и наши казачьи командиры. Гляди, Ной Васильевич, как бы греха не было.
Ной предупредил:
– Ты вот что, Александра, что она батальонщица – никому ни слова. Тем паче – Бушлатной Революции, комиссару, стал быть. Из Петрограда, мол. Землячка наша, слышь? Был в Белой Елани на полевых ученьях? Ну вот. Из Белой Елани. Звать Дуней… – И к Дуне: – По отчеству как?
– Елизаровна, – ответила Дуня и тут же поправилась: – В документах Ивановной записана. Не хотела носить отчества папаши.
Ной понимающе кивнул:
– Ивановна. Слышал, Александра? Не она была командиршей, которая ходила в двух шкурах, сверху натянула красную, а под красной – бело-серая, гадючья.
– А мне што? – хлопал глазами Санька, разумея слова командира на свой лад: «Язви те, втезенился, знать-то. Четыре года воевал – коленей не замарал, а тут приспел. А меня штырит за баб».
Ной догадался, что на уме у Саньки:
– Не вихляй глазами – нутро вижу. О чем думаешь – выкинь из башки.
– А про што думаю?
– Про мою шашку, потому как она не ржавая.
Санька на дюйм стал ниже ростом, посутулился.
– Евдокии отдам свою кровать, нам хватит одной. Перемнемся.
– Еще поставить можно.
– Ни к чему. Под боком сподобнее котелок поганый держать.
Санька уразумел, о чем речь! Ох уж до чего настырный дьявол!
– Смыслишь?
– Не бестолочь.
– Ладно. Теперь ступай, коней давно пора обиходить. А я загляну в штаб: какие разговоры, про что? Где Подвойский?
– Должно, уехал обратно в Петроград. Бушлатная Революция увел его на вокзал. А вечером, Сазонов грит, митинг будет.
– Зайду в казарму к оренбуржцам. Как они? Какие разговоры про арестованных?
– Все они верченые. Доверять нельзя.
– Иди! Погодь! У кого взял консервы?
– Каптенармус дал.
– Опять власть употребил?
– Никакой власти. Сам Захар Платоныч дал. Бери, говорит, как положено председателю комитета. А што? Полковник-то со штабными на каких харчах?
– Я не полковник! – рыкнул Ной. – Ступай.
Санька ногой за дверь, а Ной остановил:
– Погодь!
– Ну?
– Не через порог.
Санька закрыл двери.
– Тайник, что отыскали в подвале, цел?
– Как лежало, так и лежит все, – а глазом покосился на Дуню, в ноздрях завертело: конец, знать-то, тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке! Для женушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад! Ему и пользоваться. Да вот командир!
– Ладно. Иди.
Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы Булатной Революции, что самая злющая из окаянных пулеметчиц спрятана у председателя…
Оренбуржцы встретили Ноя настороженным молчанием: Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом! Варили конину на трех кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет…
– Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батарейцам! – приказал Ной.
И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб.
Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной цигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. Пятеро матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова.
– О! Хорунжий! – приветствовал Свиридов Ноя. – Наконец-то! И куда запропастились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают сволочи от решения назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич! За разгром батальона полку объявлена благодарность Военного Комиссариата Совнаркома. Приезжал сам Подвойский. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит?! Это же событие! Красную Армию организуем, браток! И я рекомендовал вас на должность командира как достойного…
– Не можно то! Как есть уже выборный командир полка.
– Дальчевский – фигура неподходящая. Подвойский оставил нам пропуск на весь комитет полка. Завтра нас ждут в Смольном.
– Не можно то! – отверг Ной. – Как не большевик я.
– Большевик или не большевик, а приказано явиться. И точка. Комитетчики твои предлагают вон митинг опять созвать. Мало мы горло драли. К тому же семь часов вечера и казаки устали после боя. Я против!
– Как можно против? Пускай солдаты и казаки решают, остаться им в красноармейском полку или просить распустить его. По-хорошему, так должно.
– Ну, валяйте, созывайте. Время не ждет. А за что ты Терехова под арест посадил?
– За изгальство над пленными. И за невыполнение приказа.
– Правильно! Советская власть за такие дела карать должна. Одним горлодером на митинге меньше будет.
Вернулся домой Ной в двенадцатом часу ночи. Саньки еще не было. «Уж не к крале ли своей утезенил, шельма? Ведь только что видел его на митинге».
Дуня угрелась на кровати, сидя уснула.
Семилинейная лампа коптила: керосин кончается. Ной покрутил фитилек и стал быстро мыть картошку в солдатском котелке. Поставил вариться.
Дуня проснулась и пересела к столу, уставившись на Ноя. Большие черные глаза на исхудалом девичьем лице наблюдали за ним со странным нарастающим интересом. Задумалась, почему этот кудрявобородый казачина прозван Конем Рыжим?
– В бога верите?
– Не верить – душу погубить. А к чему мне губить душу, коль и без моей – тьма-тьмущая погибших?
Помолчав, признался:
– Да не всегда по-божьи поступаю. И все война проклятущая. Доколе же будет так?
Горестно покачал головой.
Дуня в комок сжалась на резном господском стуле с высокой спинкой.
– А почему… почему… прозвали вас… Конем Рыжим?
– А! Помнишь. Да просто так, шутейно, – уклонился Ной.
– Боженька! Бели бы вы знали, как я боюсь коня рыжего! Если бы вы знали!.. Еще девчушкой меня раз нес наш рыжий конь – чуть не убилась. Да дед с матерью еще постарались, чуть что, так и стращают: «Мотряй, не запамятуй знамение господне. Бойся!.. Господь явит рыжего коня, и он задавит тебя копытами».
– Не мучайся, Дуня. Не всем нам дано понять. Забудь свои страхи.
Вернулся Санька, разделся, повесил бекешу на вбитый в стену гвоздь, туда же папаху.
– Изморился за день. Сколь всего нахватал – в башку не помещается.
В комнате заметно темнело. Санька сказал, что керосина больше нет, лампа скоро потухнет, и принялся щепать лучину.
Из пустующих недр каменного дома раздался голос:
– Эй! Где тут председатель?
Ной вышел и вскоре вернулся с комполка Дальчевским.
Дальчевокий, увидев Дуню Юскову, выпрямился, пронзил взглядом.
В ее глазах метался испуг: ради всего святого не признавайте меня, я ни в чем не виновата, ни в чем! Она никому не выдала про сговор полковника с Юлией Михайловной.