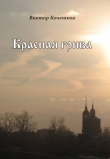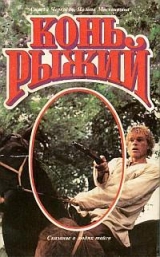
Текст книги "Конь Рыжий"
Автор книги: Алексей Черкасов
Соавторы: Полина Москвитина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Ной тем временем ждал Дуню в доме ее двоюродного дяди, Василия Кирилловича Юскова, известного книголюба, владельца винного и пивоваренного заводов. Он был единственным сыном Кириллы Михайловича, который вопреки матери, Ефимии Аввакумовны, избрал для себя военную карьеру, дослужился до звания казачьего полковника и трагически погиб во время Японской войны под Мукденом.
Как и отец, Василий Кириллович тоже закончил высшую школу казачьих офицеров, был командиром Минусинского дивизиона, но при подавлении восстания красноярских рабочих в 1905 году подал рапорт об отставке, мотивируя действия наказного атамана Енисейского войска Меллер-Закомельского как непозволительные для казачьей чести.
В его двухэтажном доме в Минусинске частенько снимали комнаты политссыльные, и до прошлого года проживали здесь Ада Павловна Лебедева и Григорий Спиридонович Вейнбаум. Будучи человеком начитанным, Василий Кириллович иногда вступал в споры с политиками, цитируя Гегеля, Шопенгауэра, Фейербаха и Плеханова, книги которых он доставал, что называется, «из-под земли». Кроме книг Василий Кириллович собрал знатную коллекцию ртутных и механических барометров, которыми завешал всю свою просторную спальню. Погоду же он предугадывал не по ста барометрам, а по собственному ревматизму.
Дом, в котором жил Василий Кириллович с бездетною супругою Марией Власовной, из рода мещан Ковригиных, был построен Михаилом Даниловичем Юсковым – мужем Ефимии Аввакумовны, и здесь один раз побывал беглый каторжник, Мокей Филаретыч Боровиков, перед тем, как уйти на «поиски золотого фарта» в Урянхай, где опознан был урядником пограничного казачьего взвода.
Сама бабка Ефимия, переезжая от внука к внуку или от правнучки к правнучке, часто наезжала к Василию Кирилловичу.
Дунюшка, не успев обопнуться у дяди, убежала к доктору Гриве на Тагарский остров, оставив Ноя в просторной гостиной, даже путем не представив его Василию Кирилловичу – «сами познакомитесь».
Гостиная, с тремя полукруглыми окнами в улицу и двумя в ограду, заставлена была тяжелой старинной мебелью: резной буфет из черного дерева, массивный стол, такие же массивные черные стулья с высокими спинками, широченный диван с плюшевыми подушечками, на котором отдыхал Ной, поставив свою шашку в угол на диван вместе с фронтовым карабином. В простенке между окон в ограду стояли большие часы с эмалевым циферблатом и тремя медными гирями. Рядом с Ноем лениво развалился рыжий ангорский кот. Ной попробовал погладить его и тут же был поцарапан.
– Не трожьте разбойника, – сказал Василий Кириллович, сидя в глубоком кресле у двери в соседнюю комнату. – Вот ведь животное, скажите на милость! Живет у нас полгода, и чтоб потерпеть чужую руку, спаси бог! Привезла его племянница из Красноярска. Учительствует здесь в школе. У, зверь ангорский!
«Зверь ангорский», будто понял, что речь шла о нем, уставился на старика горящими злыми глазами.
– Ну, а как теперь в армии с довольствием? Скудно? Ну, ну! Отощала Россия. Неслыханно отощала и обнищала, господи прости. Так, значит, послужили в Петрограде? В толк не возьму: что у вас за сводный Сибирский полк был?
Ной рассказал.
– Неслыханно! – покачал головою Василий Кириллович. – Как же могло командование формировать казачий полк в совокупности со стрелковыми батальонами?
В тот момент кот, навострив уши, вдруг прыгнул через подлокотник дивана на пушистый ковер, подбежал к двери в прихожую, толкнул ее лапами, был таков.
– Видели? – кивнул Василий Кириллович. – Почуял приближение своей хозяйки.
– Чего она в воскресенье-то учит? – вздохнула Мария Власовна. – Или будней мало? На пять классов одна! Ты бы, Вася, поговорил с кем из учителей-забастовщиков, может, вышли бы учить.
– Хм, поговорил бы! – фыркнул лобастый Василий Кириллович. – С кем говорить? И во имя чего вести переговоры? Денег у совдепа нету ни на школы, ни на учебные пособия и пайков нету для учителей. Все и вся расползается по швам, прости господи. Такого бедствия еще не переживала матушка Россия. Вот к чему привели нас всевозможные теории социалистов. Много партий и никакого толку. Все пошло вкривь и вкось. Ну, а как в Петрограде? Существуют школы?
Ной ничего определенного сказать не мог про школы в Петрограде.
– А вот в Гатчине, как знаю, – закрыты. Учителей нету, да и школы вымерзают без дров. Ну, и голод к тому же.
– Ох, хо, хо! – постанывал Василий Кириллович. – Куда же мы идем, служивый, хотел бы я знать на старости лет? – Подумав, заверил: – Монархия, понятно, канула в небытие. Отжила свое. Но должно же что-то определенное установиться с твердыми порядками и законами?
– Должно бы, – эхом отозвался Ной. – Без порядка круговерть запеленает.
– «Круговерть»? – Василий Кириллович внимательно посмотрел на рыжебородого гостя, кивнул: – Это вы хорошо определили – «круговерть».
Часы отбили четверть пятого.
– Дунюшка-то, наверное, надолго задержится у доктора Гривы. Может, накрыть на стол? – спросила Мария Власовна.
– Если с Дарьюшкой встретятся – разговоров им хватит на три дня. Скажи Татьяне Михайловне, пусть накрывает. К тому же у доктора Гривы сегодня юбилей – шестидесятилетие; будет пир горой. А как вам понравился Терентий Гаврилович Курбатов?
– Хозяйственный мужик. Обстоятельный.
– Именно – обстоятельный. А ведь он из народовольцев восьмидесятых годов. Не говорил вам?
Ной понятия не имел ни о каких народовольцах.
– Да, да! В школах тому не учили, а зря! Народ-то наш, служивый, фактически к революции пришел малограмотным и наполовину совершенно безграмотным. Цари-самодержцы с первого Рюрика и до свергнутого с престола Николая Романова не баловали народ образованием. И вот, пожалуйста, революция! Сам по себе факт потрясающий. Не пугачевщина, про которую помнит по некоему Филарету-раскольнику моя здравствующая бабушка, а – революция.
«Умнющий старик», – подумал Ной.
В прихожей послышались чьи-то шаги – Ной выпрямился подумав, что пришла Дуня. Василий Кириллович успокоил:
– Не Дуня. Родственница наша, учительница.
В гостиную вошла миловидная девушка, тоненькая, белолицая, а по груди – толстая белокурая коса с красною лентою. Ной поднялся, поправил китель. Необычайная синева глаз плеснула ему в лицо, а Василий Кириллович чинно представил:
– Познакомься, Анечка. Хорунжий Енисейского казачьего войска, Ной Васильевич Лебедь из станицы Таштып. Прибыл из Петрограда, где служил со своим сводным Сибирским полком.
Лицо девушки просияло:
– Правда, из Петрограда? – спросила она, подав маленькую настывшую ладонь. – Анна Дмитриевна.
Ной слегка поклонился – не горазд он был на знакомства с девицами, тем паче – учительницами.
В руке у Анечки был тяжелый портфель с учебниками и грифельными досками, и она, положив его на диван, все с тем же удивлением разглядывала хорунжего, как бы не веря, что он и в самом деле приехал из революционного Петрограда.
– Я ведь и представления не имею о Петрограде, – призналась Анечка. – Когда еще училась в гимназии, мечтала быть курсистскою, да вот не пришлось. Это ж, наверное, огромный город!
– Огромный, Анечка, – подтвердил Василий Кириллович и, заметив, что «зверь ангорский» пробрался в гостиную, пошел на него: – А ну, брысь, сатана!
– Он вас поцарапал?
– Не шибко.
– Сейчас же уходи, Ангорец! – И, оглянувшись на Ноя, разъяснила: – Я его дрессирую. Видели, как он послушался?
– Мало тебе твоих ребятишек, – заметил Василий Кириллович. – Но по воскресеньям не надо бы заниматься в школе. Достаточно будних дней. И, кроме того, одна за четырех не вытянешь всех отстающих и ленивых к тому же.
В лучах угасающего солнца отсвечивали на столе хрустальные рюмки, сияла фарфоровая посуда. Татьяна Михайловна принесла на большом блюде зажаренного с гречневой кашей поросенка, Анечка – солонину в двух тарелках – знаменитые минусинские помидоры и разрезанный соленый арбуз. Хозяйка, Мария Власовна, поставила на стол в сплетенной из тонких прутьев корзиночке груду подрумяненных наливных шанег. Ноя радовало, что в Минусинске люди живут сытно, и тут же вспомнились голодные люди Питера, скуднейшее полковое харчеванье.
– Мы еще живем, как видите, – показал рукою на стол Василий Кириллович. – Ну, а там, где вы были, – слезы и грезы.
Хозяйка пригласила к столу, хозяин достал из буфета две бутылки, сообщив:
– Ради такого дня не пожалею Шустовский коньячок и любимый моей супругою апельсиновый ликерчик. Давно не пробовали настоящего Шустовского?
Ной простовато улыбнулся:
– Понятия не имею ни о каких винах и ликерах. Непьющий.
Василий Кириллович не поверил:
– Ну, ну, не скромничайте, господин хорунжий. Я ведь тоже из казачьей косточки – подъесаульские погонушки нашивал. Ну, а у казаков, как помню по службе, не пьющими вин бывают только лошади.
– Должно, и я из лошадиной породы, – запросто признался Ной, сообщив: – Меня так и прозвали в полку – Конь Рыжий.
Старушка-хозяйка тоненько хихикнула, Татьяна Михайловна рассыпалась смехом, покачиваясь мощным телом, Анечка, недоумевая, забавно помигивала, словно ей соринка попала в глаза.
– Что? Конь Рыжий? То есть как – Конь Рыжий? – хлопал глазами Василий Кириллович.
Ной и сам не рад был, что некстати проговорился.
– Дунюшка вам потом расскажет.
Василий Кириллович налил в рюмки для женщин ликер, а себе и гостю – превосходный Шустовский коньяк.
– За наше знакомство, Ной Васильевич. Это же для нас большая радость встреча с вами – вестником из самого Петрограда! Так что прошу уважить.
Ной взял в пальцы веретенце рюмки, сказал:
– Нельзя пить-то мне – зарок такой дал. Когда еще жил парнем на Дону в курене деда, конфуз произошел со мной, а так и с другими парнями. Собрались мы в престольный праздник – еще безусые, ну и переложили дюже. Драка произошла, и один парень утонул в Дону. После того собрали нас, да на казачий круг. Как и что? До сей поры в памяти.
– Не вино, а самогонку пили, наверное. Ну, в малой мере вино пить можно, господин хорунжий, – успокоил Василий Кириллович. – И сам Христос вино пил на свадьбе в Канне Галлилейской.
– Читал про Канну Галлилейскую, но не сказано, что спаситель вино пил. Воду обратил в вино – правда, а чтоб пить – про то не сказано.
– Не пил! Не пил! – подхватила супруга Василия Кирилловича. – Это пьяницы придумали, чтоб на Христа ссылаться.
– Но если Христос воду превратил в вино, для кого же он совершил подобное превращение? Для людей же, чтоб потребляли в малой мере. Одно беда: никто не знает, где кончается малая мера и начинается большая, после которой человек не только в свинью превращается, но и хуже того, в зверя. Ну, а за сим, за ваше здоровье и благополучное возвращение в отчие края, Ной Васильевич!
Ной поморщился, будто хватанул ложку уксуса.
– Господи прости, до чего же горючее снадобье. И как только пьют его в большом количестве?
– Пьют, пьют да похваливают. Мой винный завод, например, не успевает напоить один наш маленький город. А ведь по деревням и селам самогонку гонят. Это же чистейший яд!
Закусив, Василий Кириллович вспомнил:
– Так какую же карательную службу вы должны были править своим полком в Петрограде? Когда вы туда прибыли?
Ной рассказал о всех злоключениях сводного Сибирского полка со дня его формирования в Пскове и до демобилизации в Гатчине, умолчав о разгроме мятежного женского батальона. Солдаты бегут со всех фронтов, в Самаре – светопреставление в некотором роде, и эшелоны с чехословацкими войсками при боевом укладе, а в Смольном – Ленин – Владимир Ильич Ульянов заглавный большевик, да вот сама Россия, как поглядел Ной, вроде с копылков слетела.
– Неслыханно! Неслыханно! – поддакивал Василий Кириллович, успев выпить вторую рюмку коньяка. – Никто не думал о большевиках, а вот, пожалуйста: любите и жалуйте – Совнарком и с Лениным во главе! Я вот читал книжицу господина Троцкого про «перманентную революцию». И если вникнуть в ее суть, то революция, которую начали мы в России, будет продолжаться вечно – до полной победы так называемого «мирового пролетариата». Экая чушь, господи прости! Такой ереси не писали даже во Франции, искушенной тремя революциями. Ну, а народ как, русский и прочий, населяющий Россию? Сдюжит эту самую «перманентную революцию» Троцкого!..
Анечка с присущим ей темпераментом горячо заступилась за мировую революцию, чтоб на земном шаре восторжествовали социализм, свобода, равенство всех наций без буржуазии и проклятого капитализма.
– Чушь, Анечка! Чушь! – отмахивался Василий Кириллович. – Ты даже мысленно себе не можешь представить, что это такое. – И, обращаясь к Ною, поинтересовался: – Ну, а Ленин как, за эту «перманентную революцию» Троцкого или за какую другую?
Ной затруднялся ответить.
– Про «перманентную» не слыхивал. А вот как были мы в Смольном и Ленин разговаривал с нами, то я так понял своим малым умом: он за то, чтоб мир установить в России. Про то и декрет есть Совнаркома.
Анечка удивилась:
– Но как же вы так, Ной Васильевич! Ленин – вождь мировой революции. Об этом пишут во всех большевистских газетах.
– Газет не читал, извиняйте, Анна Дмитриевна. – И, чтобы враз определить границы неприятного разговора, Ной сообщил: Кроме евангелия, ничего не читаю.
– Евангелия? – еле промигалась Анечка.
– Вот славно-то! Вот славно-то! – похвалила хозяйка.
– Вы это, конечно, в шутку про евангелие? – обиженно спросила Анечка.
– Почему в шутку? Я с ним по всей позиции прошел, и худого в том ничего не вижу для себя.
– Странн-но! Для революционера это очень даже странно!
– Для революционера – само собой, а я из казаков. В партию не вступал.
– Слышала, Анечка? Туда ли ты заехала, головушка! – сокрушалась тетушка. – Вот рассудите, Ной Васильевич. Она для нас – красное солнышко в окошке. Любим-то мы ее с Васей – души не чаем. А вот закружилась головушка, закружилась. И все от политики проклятущей! Отец мой, Влас Поликарпович, еще сорок лет назад сослан, был в Минусинск за «Народную волю». Ну, прижился в городе, поднялся на ноги. Брат мой, Дмитрий Власович Ковригин, извозом промышлял, а потом купил дом в Красноярске и переехал туда на жительство. С того и начался распад его семьи. Сперва сына в депо арестовали за политику, а потом подросла дочь Прасковея, фельдшерицей теперь, и тоже отведала ссылки. Вся семья брата погрязла в безбожестве и политике. А к чему то девицам, господи! Ты бы, Анечка, подумала о себе и как жить дальше. Вот приехала учительствовать к нам в город, а все наши учителя забастовали – ни денег им не платят, ни пайков не дают. А она, – кивнула на племянницу, – одна школу тянет. И мало того, в партию большевиков записалась. К чему то девице, господи!..
Ной вспомнил комиссара Селестину Ивановну Гриву и ничего не сказал.
– Смутные, смутные времена настали! – поддакнул супруге Василий Кириллович. – Ни власти истинно сущей, ни державы твердой, а так, бог весть кто и что верховодит тарантасом России. И то, что вы, Ной Васильевич, обсказали нам про Смольный, Совнарком и Ленина, весьма печально, служивый. Ленин не та личность, чтобы вытащить Россию из бедствия. Твердая рука нужна. А что у нас происходит? Одно упразднили, другое – не утвердили, и мы располземся кто куда. К социалистам-революционерам, а их у нас в Минусинске полным-полна коробочка!.. Есть еще меньшевики.
– От эсеров туман да пакости, – вспомнил Ной заговорщиков в Гатчине. – Ленин призывает к миру, и чтоб от разрухи живыми вылезти. Не воевать меж собою, а жизнь налаживать.
– Будем еще воевать! – упрямо ответил Василий Кириллович. – Будем! Большевики, служивый, развалили государственный строй. А к чему то привело, смею вас спросить?
– Строй этот был тюремный, самодержавный! – вмешалась Анечка.
– Те-те-те! Поехали!.. Нет, Анечка, не в ту сторону крен держишь. Расползется Россия по всем швам. Нужен военный кулак, чтоб одним ударом поставить все на свои места. И не Ленину то свершать! Не Ленину! Не пойдет за ним народ.
– Так ежели судить по Гатчине и Петрограду, за Лениным вся бушлатная революция, то есть матросы, а так и рабочий люд, – возразил Ной. – Потому как Ленин за мир, чтоб из разрухи живьем вылезти. Куда далее воевать?
– Будем еще воевать! – упрямо напомнил старик. – Да-с! А вам я присоветую по старшинству: умалчивайте о своем собеседовании с Лениным в том Смольном. – Ни к чему то, как вы есть казачий хорунжий. С Дуни, например, какой спрос? Она с охотностью махнет к большевикам, а завтра – к их противникам. Не спросил, как вы с ней в Питере повстречались?
– Не в Питере, а в бою. Евдокия Ивановна…
– Елизаровна.
– Евдокия Елизаровна была пулеметчицей восставшего женского батальона и дралась отчаянно…
– Те-те-те! – ожил старил. – Гляди ты, мать, какова Дунька-то у Елизаровича! Ай-я-яй! Во тебе и Дунька! Пулеметчица. А? Такую бы я, будь на позиции, к Георгию представил!
Ной сказал, что у Дуни есть солдатский Георгий четвертой степени.
– Гляди ты, мать! А? Какова? И ни слова! Ну и ну! Ай, да Дуня! Гляди ты! – радостно кудахтал старик и еще выпил рюмочку. – Ну, а вашим сводным полком кто командовал? Комиссар от большевиков?
Ной не сподобился лукавить:
– Был комиссар, да он командовал матросским отрядом. А казачьим полком командовал я, как председатель полкового комитета.
Юсков поперхнулся на слове, закашлялся:
– Звон ка-ак! Свой свояка бьет наверняка. Те-те-те! Печально то, служивый. Такого, чтобы казачий хорунжий мог командовать полком от какого-то неслыханного комитета, да еще принять большевиков за мое поживаешь, такого в голову не вместишь. М-да-а! Времена и лета нынешнего света! Да-а! Ну, а в каком же отношении вы с Евдокией Елизаровной, прошу прощения?
Ной изрядно взмок под напором престарелого подъесаула.
– Как в один край ехали.
– Угу, – кивнул старик и, не попрощавшись, ушел к себе на второй этаж.
Покуда разговаривал старик с хорунжим Ноем, Анечка пожирала рыжечубого казака распахнутым взглядом синих глаз, жадно впитывая каждое его слово.
Ной поблагодарил хозяйку за хлеб-соль, та отвела ему комнату – отдыхайте после дальней дороги.
Да разве отдохнешь? Ждал Дуню до позднего вечера, походил по городу, а Дуни все нет и нет. С тем и спать лег. И вдруг среди ночи проснулся от ее рева. Наспех оделся и вышел в гостиную. Дуня сидела за столом, растрепанная, взмокшая, с красными глазами.
– Да не плачь ты, Дунюшка, не плачь, – утешала старушка Юскова. – Живая она, живая!
– А я, тетечка, над своей судьбой слезы лью. Тошно-то мне как, если бы вы знали! Вот приехала, а куда мне сунуться? Чем жить, тетя?
– Что приключилось, Евдокия Елизаровна? – неловко топчась возле стола, спросил Ной.
– А! Это ты? Спаситель мой… непрошеный! Боженька, сколько раз спасать меня будут, а я все тону и утопиться не могу?!
– Что ты, Дунюшка! – всплеснула руками старуха Юскова. – Да разве можно так говорить? На себя-то!
– Ах, тетечка! Такое ли я могу сказать! Тошно мне, тошно! И ты, Ной Васильевич, иди спать. Уезжаю я завтра в деревню, сестра моя утопилась…
На другой день Дуня собралась в Белую Елань. Ной не отпускал ее одну – но разве есть такая сила, чтоб урезонить своенравную Дуню? Она не хотела, чтобы Ной присутствовал при ее встрече с родными. Пусть Ной Васильевич едет к себе в Таштып – там его ждут, а у Дуни свои горечи и печали…
– Доехали, и слава богу! Пора и разъехаться, Ной Васильевич.
И – разъехались…
ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ
IВ доме Юсковых справлялись поминки по утопшим. Потчевались на одиннадцати столах родичи, единоверцы-федосеевцы, работники со своими бабами и чадами; для всех пшеничной кутьи хватило.
Каждый, кто уходил с поминок, с некоторым страхом заглядывал в малую горенку. На круглом столе, крытом черным бархатом, лежали вещи утопшей: дошка, шаль, платье, часики, и горели толстые восковые свечи в позолоченных подсвечниках. В большой гостиной, где отводили поминки, в переднем углу под старообрядческими иконами мотали свои желтые язычки восковые свечи, хотя и без них было светло от двух ламп-молний, свисающих с потолка.
Во всем доме держался приторно сладкий запах тлена, как будто всюду лежали покойники.
Поминальную службу по федосеевскому обряду справил старший из братьев Юсковых, Феоктист Елизарович, и тут же ушел со старухой – расхворался.
На час после поминального бдения остались свои: Михайла Елизарович с супругой Галиной Евсеевной; женишок горбатой Клавдеюшки прыщеватый детина Иванушка Валявин, покорный сын своей родимой матушки Харитиньи Пудеевны; чуть в сторонке супились золовки – Фекла Андриановна и Марья Никаноровна, жены братьев Потылицыных, арестованных ревкомом.
– Вот оно как привалила беда-то, – кряхтел Михайла Елизарович.
Говорили вполголоса, неторопко, чтоб не потревожить витающие над миром души утопших.
Александра Панкратьевна, как и дочь Клавдеюшка с домоводительницей Алевтиной Карповной, во всем черном, вспоминали, какая была Дарьюшка в живых: умница, писаная красавица, и сколько же было достойных женихов! Хоть бы тот же есаул, Григорий Андреевич.
– Н-не судьба, в-ид-но, – начала, заикаясь, Любовь Гордеевна, женушка Игната Елизаровича; слова ее были пухлые, надутые, как мыльные пузыри, да и сама она была сдобная, точно подоспевшее пасхальное тесто. – В-вот м-маменьк-ка по-пок-койница г-говаривала: от судьбы н-не от-творачивайся, в-везде найдет.
– Судьба, – она завсегда, начал было и тут же кончил Иванушка, поглядывая на горбатую невесту Клавдеюшку: приданое-то обещано не горбатое. Да вот как теперь будет? Сам Елизар Елизарович в банде, а тут еще утопленники. Как бы приданое мимо рыла не проехало. – Вот тебе и судьба!..
– Не судьба, а муть земная закружила Дарью, сказала престарелая Галина Евсеевна; глаза ее уперлись – один в передний угол, второй косил к двери. – А всему причиною – ведьма Ефимия.
– Оно так! – поддакнул Михайла Елизарович. Он сидел под двумя чеканными лампадками – на лысину его падала тень от божницы; по жилетке – золотая цепь.
Стряпуха Аннушка с дочерью Гланькой, тоненькой, как веретено, с льняной косой через плечо по цветастому ситцевому платью, собирали со столов грязную посуду, а работницы Мавра и Акулина уносили ее на кухню.
Слышно было сквозь двойные рамы, как кто-то подъехал к дому; Иванушка заглянул в окно, отвернув штору, но матушка Харитинья торкнула его локтем в бок, и он сразу принял прежнее почтительное положение.
Алевтина Карповна угощала вином и закусками.
На час бдения для близких стряпуха Аннушка с Гланькой собрали два стола со всевозможными закусками и винами в толстых бутылках и даже французским коньяком.
– Хоть бы Дунюшка сыскалась, – покручинилась Александра Панкратьевна. – Может, тоже в живых нету?
– Жива, должно, – буркнул Михайла Елизарович.
– Не про Дуню вспоминать в такой час, – пропела Алевтина Карповна. – Если бы вы знали, как она собой распорядилась в городе. Лучше бы такой дочери на свете не было. Стыд и срам.
Как раз в этот момент из прихожей вошла женщина в пестрой собачьей дохе. Воротник дохи поднят и завязан на сыромятные ремешки – лица не разглядеть.
– Про Дуньку што толковать, – поддакнул Михайла Елизарович. – Не приведи бог, до чего верченая была. Не я ли отвез ее в скит, чтоб образумилась! Што она там наделала? Игуменью поленом умилостивила, и – бежать.
– Гланька, спроси-ка! – кивнула Алевтина Карповна на гостью в дохе, будто примерзшую к половицам у порога.
Шустрая Гланька, игривая и веселая, как молочная телка, заглянула в чернущие глаза гостьи, спросила: чья, откуда? Та ни слова.
– Глухая, што ль?
Гостья развязала тесемки, сбросила доху прямо себе под ноги, стянула суконную шаль с меховой шапочки, и тогда уже, расстегнув крючки, не торопясь сняла желтую шубу, и тут у всех перехватило дыхание.
Дарьюшка!
Истинная Дарьюшка. Это ее углисто-черные брови, черные влажно-блестящие глаза, румяное впалощекое лицо с ямочкой на подбородке, вздернутый носик, рост и перехват талии…
Дарьюшка!
Знакомыми движениями рук сняла шапочку, поправила пышный узел кудрявившихся волос, взяла лакированную сумочку с блестящим замком, перекинула ремень на сгиб левой руки и ни слова. Ни здравствуй, ни прощай. Стоит и смотрит, как будто вяжет всех в кучу одной веревкой.
– Свят! Свят! – испугались золовки Потылицыны.
– Господи помилуй! – перекрестился Михайла Елизарович.
– Чего испугались? – спросила гостья, тиская ладонь ладонью. На ней была расклешенная кашемировая юбка до носков поярковых сапожек, бордовая кофта в талию, с пышными плечиками, длинными рукавами, в мочках ушей золотые дутые серьги, как у цыганки. – Дуню судите, слышу, – тягуче проговорила она. – А за судью-то кто у вас?
– Спаси Христе! – ахнула Галина Евсеевна, втискиваясь в мягкое кресло.
Александра Панкратьевна вскрикнула и повалилась на лавке; Клавдея успела поддержать маменьку. Гостья подскочила к ним, обняла мать и попросила воды. Никто не сдвинулся с места.
– Дайте же воды! Оглохли?!
Прислуга Гланька подала стакан воды, а у самой глазенки, как два бесика – туда-сюда, туда-сюда.
Клавдеюшка нежданно опознала:
– Дуня же это! Дуня! Маменька! Дуня приехала.
Дуня спрыснула лицо матери, та очнулась, и руки ее сами собой потянулись к дочери:
– Дунюшка!..
– Маменька!..
– Как ты меня испужала, господи. Слава Христе, возвернулась. А у нас-то горюшко какое! О-ох!..
Дуня выпрямилась, хрустнула тонкими пальцами и опять быстро взглянула на всех родичей, передернула губы, а мать ей, помяни, мол, деданьку Елизара и сестрицу Дашеньку; ни слова в ответ, только вздох на полную грудь.
– Помяни, помяни!..
Дуня с омерзением уставилась в белые тускловатые глаза Алевтины Карповны, и та отпятилась в тень резного буфета.
Клавдеюшка молвила, что инженер Грина, супруг Дарьюшки, по наущению-де ревкомовцев проклял Дарью.
– Не Грива, а Боровик-злодей измытарил, – ловко повернула оглобли Галина Евсеевна.
Дуня щурилась и молчала; пухлые губы кривились в злой усмешке. На столах печенье, варенье, кутья в хрустальной вазе, золотые ложечки, серебряные приборы, причудливые рюмки в потеках красного вина, рябчики, тетерки, остатки зажаренных в собственном соку молочных поросят, бутылки с вином и марочным коньяком.
Жирно.
Дуня взяла со стола бутылку коньяка, вынула пробку и налила не в рюмку, а в тонкий стакан. Все узрились, как текло улыбчатое золото до кромок стакана. Тонкие пальцы обняли резной стакан; на пальцах кольца, суперики; браслет с инкрустациями на запястье.
Встряхнула головою – кудряшки волос затрепыхались на всю грудь.
Подумала секунду, стакан мелко вздрагивал в смуглой руке. И так, ничего не сказав, выпила до дна и стакан об пол: звон раздался.
– Спаси, Христе! – ахнули родичи.
Мать привычно запричитала; Клавдеюшка тонюсенько вторила, как подголосок в церковном хоре.
Галина Евсеевна, ворочаясь в кресле, сказала, что варначье отродье, Тимофей Боровиков, большевик, а вместе с ним всякая рвань и шваль поселенческая превратили землю в камень, и что от Боровиковых только и мог выползти такой лютый волк, как душегуб Тимофей. Говоря так, она испытующе поглядывала на Дуню: истая Дарья! Говорят, клиентов любовью одаривала, с рук на руки шла; а как себя держит?! Будто из заморского променада пожаловала в чине генеральши.
– Оно так, под немцами и жидами ходить будем, – ввернул Михайла Елизарович.
Тут и посыпалось. И немцы, и большевики, и поселенцы с ревкомовцами, всех свалили в одну яму – лопаты бы только в руки.
– Всех, всех передушат!..
– Врете! – вдруг оборвала Дуня разноголосую сумятицу голосов. И топнула – стекло под ногою хрустнуло. – И на Боровикова врете. На всех врете и не краснеете.
– Вот так гостьюшка!
– Не успела ноги перенести через порог…
А Дуня свое вяжет:
– Да не шипите вы, как змеи. Не шипите! Видела я этого «злодея» – знаю. Не злодей он вовсе, а добрый человек. Душевный. И глаза у него светлые, открытые, добрые, понимаете? Добрые! Это вы злодеи! Всю мою и Дарьюшкину жизнь искалечили. Не папаша ли измывался надо мной? И выкинул из дома, а ты, дядя Миша, благостный, увез меня, связанную, в скит, чтоб я там сдохла в монашках?! А, чтоб вам всем провалиться!
Тишина. Сопение. Вздохи.
Маятник настенных бельгийских часов откачивает медное время. И в этом медном времени бьется голос:
– Ну, што же вы молчите, как сычи, на похоронах? Судите? Ненавидете? Судите, рядите, а Дарьюшки-то больше нет! Ах, если бы я застала Дарьюшку!.. Я как будто чуяла, погибнет она с вами.
Дуня быстро ходила от стола к двери в горенку, тиская в руках лакированную сумочку. Лицо ее раскраснелось, будто щеки натерли суконкой.
– Он звал ее белой птицей!.. А што вы, благодетели, сделали с этой птицей? Вы у нее крылья вырвали с кровью, и душу ей захаркали. Асмодеи!
Часы начали бить медью, как в похоронный колокол. Семь раз ударили.
Прыщеватый Иванушка – сын родимой матушки Харитиньи, разинув рот, усердно лицезрел воинственную сестру горбатенькой Клавдии: до чего же она писаная красавица?! Ну, как принцесса из бабушкиной сказки. Экая, а! Больно тонкая в перехвате и шея высокая, но зато!..
Харитинья торкнула Иванушку в бок и молча кивнула на дверь: пора, мол, выметаться вон, от греха подальше. Иванушка нехотя поплелся за нею.