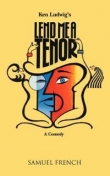Текст книги "Pollice verso"
Автор книги: Алексей Тихонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Та-ак! – произнес доктор, и бросил письмо на стол.
Заложив руки в карманы, он начал ходить по кабинету. В правом кармане ему попалась в руку бумажка. Это та, что он сейчас получил за визит. Он достал ее и развернул. Три рубля.
Остановившись среди кабинета, он несколько раз перевернул бумажку в руках, усмехнулся и опять сунул ее в карман.
"Да, умная барыня. И говорит, как пишет. Все взвесила, а выгоду свою не хуже того малограмотного купчины соблюла", – думал доктор, продолжая ходить по кабинету.
Не деньги были дороги – он готов был лучше вовсе отказаться от гонорара – но это были плевки, да, плевки. "Не понравится, что убавили гонорар – не езди, наплевать на тебя, другого найдем". И они правы! К тому же Лойоле обратятся! О, какое унижение, какое унижение!.. Не ездить к ним? Ждать теперь пока сами приедут или пришлют за тобой и тогда потребовать сперва недоплаченный гонорар и потом уже ехать?.. А если не пришлют?.. И не пришлют. Значит, нужно ездить и брать с благодарностью то, что дают. "Показнят и помилуют", – вспомнились ему слова барыни. Но ведь в этом виде это уже не гонорар, а подачка, на чай, на водку.
"Когда мне дает пациент рубль, два, три – кто сколько может, – продолжал он думать, – я не смотрю на сумму, не думаю о ней. Кто сколько может. Это орудие обмена услуг. Но это убавление гонорара, как результат моей неудачи, это некоторым образом негласное штрафование меня – не за вину, – за неудачу – как это позорно, как это унизительно и несправедливо... Каждый теперь думает про себя, что можно воспользоваться этим удобным случаем и выгадать рублишко-другой. Еще хорошо, если они это сделают втихомолку, каждый про себя. А если станут передавать по секрету друг другу: "мы ему убавили гонорар". Господи, как это гадко, противно! Нет, лучше совсем бросить практику, чем уступить! "Вера в непогрешимость поколеблена". Потерян авторитетный голос, и из солистов можешь перейти в хористы".
Вошла жена.
– Что, ты уже написал письмо в редакцию? – сказала она, увидя на столе письмо, лежавшее на номере газеты.
Он ничего не ответил и только косо посмотрел на жену.
– Голубчик, Анатолий! – почти вскрикнула жена, пробежав взятое со стола письмо ректора. – Что это, неужели и в самом деле, милый, тебя судить будут?
И она устремила на мужа испуганный, жалобный, недоумевающий взгляд.
– Будут, – отрезал муж.
– Ах как это все так случилось! Господи, какое несчастие! –воскликнула жена. – Но ты, конечно, оправдаешься? – чрез минуту добавила она.
Ему почему-то захотелось побесить ее.
– Может быть, и нет, – едко ответил он.
– Ах Анатолий! Ты говоришь об этом так, как будто тебе все равно. Вот ты всегда такой. Вот у тебя из-за этого и выходят неприятности...
– Из-за чего "из-за этого?" Когда "выходят?"
– Да вот... хоть бы теперь... операция...
– Ну, что ж операция?
– Да ты вот так относишься, как будто тебе все равно, вот и вышло...
– Значит, я виноват?
– Я не говорю этого...
– Нет, говоришь. Ты хочешь, чтобы они меня оправдали, а ты сама меня уже обвиняешь.
– Вовсе не обвиняю. А ты меня вот обижаешь. Я пришла к тебе, потому что, как жена, беспокоюсь о тебе... Хотела при таком случае сказать тебе слово утешения...
– Ну, мне утешение излишне.
– Ну, ты хоть бы обо мне подумал. Ведь я волнуюсь. Ты бы меня успокоил.
– А это вот другое дело. Только я знаю, что никакими рассуждениями я тебя не успокою. Ты беспокоишься о том, что будет дальше. Это вполне понятно. А успокоят тебя только факты, то есть последующий, благоприятный ход дела и окончание его и забвение происшедшего. В случае же неблагоприятного оборота, тебя никакие рассуждения не успокоят. Ну, и будем ждать фактов.
– Только, пожалуйста, не относись ты в этому с твоим обыкновенным пренебрежением. Подумай.
– Хорошо, хорошо, это уж мое дело. Вот ты и оставь меня одного, дай мне обдумать.
– Хорошо, милый, я ведь верю, что ты все устроишь. Садись и пиши свое оправдание. Я тебе больше мешать не буду.
И она обняла его, поцеловала и вышла.
Он долго, как-то бессознательно смотрел ей вслед, пока она проходила чрез залу и столовую. Он смотрел и как-то ни о чем не думал. Ему как-то не хотелось ни о чем думать. Он нравственно устал за эти дни.
Когда жена его, спустя несколько времени, опять вошла в кабинет, он спал, сидя на оттоманке.
– Я думала, ты писал, – улыбаясь сказала она, когда он проснулся при ее приближении, – а ты заснул.
Эти слова были сказаны мягко, почти ласково, но ему они не понравились.
"Ей только и заботы, чтобы поскорее все уладить, а до меня, до моего душевного состояния – какое ей дело. Она даже и не поймет его", – подумал доктор.
Он промолчал почти все время за обедом, обменявшись лишь несколькими незначащими фразами с своими домашними.
После обеда он опять ушел в кабинет и просил жену не мешать ему.
– Чай ужо вечером вели подать мне в кабинет, – сказал он, уходя.
Сначала он долго ходил в сумерках по кабинету. Потом достал несколько листов бумаги, вставил в ручку новое перо, зажег лампу на столе, опустил шторы – и опять стал шагать из угла в угол.
Наконец, он сел к столу, взял перо, обмакнул его в чернильницу – и задумался.
Мысли его никак не хотели сосредоточиться на том, что было нужно написать, а уклонялись в сторону всякий раз, как только он хотел приступить к изложению научных доводов в защиту сделанной им операции. Тяжело придумывались первые фразы, а, вместо них, как-то вдруг, незваный-непрошеный, сам собой возникал вопрос: зачем? Ряд мыслей пестрой вереницей выдвигался вслед за этим вопросом, и в конце этой вереницы, замыкавшейся в хоровод, опять, как одна из точек круга, являлось то же неизбежное: зачем? Зачем это, да и это, и это зачем?
Зачем оправдываться, доказывать, когда он совершенно согласен с этой барыней, которая сказала, что для публики это лишь пикантное, интересное чтение. Да, толпе нужно развлечение. Сенсационные новости! Почему люди остаются сплошь и рядом равнодушными к своим самым животрепещущим, насущным, но обыденным вопросам, и почему они набрасываются с жадностью на всякие известия о скандале, об убийстве, несчастном случае и тому подобном? С какой жадностью изучает толпа мельчайшие подробности какого-нибудь убийства, как будто каждый из читателей или слушателей намерен сам проделать все то же самое. О, если бы они только так же внимательно изучали все то, что могло бы служить к их нравственному совершенствованию или даже только к улучшению их благосостояния. Но нет, эти ненужные детали убийств интересуют их гораздо более. Сенсация – вот рычаг для возбуждения их внимания.
"Да, оправдываться перед ними не стоит", – решительно произнес он про себя и положил перо. Это только давать лишнюю пищу для разговоров. То мнение, которое у них сложилось под влиянием первых впечатлений, останется неизменным, по крайней мере, надолго. А каково оно, я уже испытал по его результатам. Может быть, позднее все это уляжется само собой. "Показнят и помилуют". И "показнят" развлечение, и "помилуют" развлечение. Что может быть приятнее – два развлечения! И совершенно бесполезно доказывать им мою правоту. Если б все были всегда правы, это показалось бы человечеству на столько скучным, что оно выдумало бы неправых, чтоб иметь возможность и "показнить" их, и "помиловать". Чем оправдываться, не лучше ли доставить им высшее для них наслаждение: самому прийти и покаяться, и бить себя в грудь. Да, толпе покаяние приятнее правоты. Ведь она может соболезновать кающемуся и помиловать его. Кающийся грешник – пусть это будет любой из толпы – обращается с мольбой о прощении греха к Богу. Покаяние же пред толпой возвышает ее в ее глазах как будто до божества. Вот почему хорошо кающийся злодей всегда найдет в толпе большее или меньшее сочувствие, если только желание видеть зрелище его казни не возьмет перевес. Милуя кающегося, толпа присваивает себе одну из прерогатив божеской власти и инстинктивно чувствует наслаждение. Грешнику, который доставляет ей это наслаждение, она охотно прощает многое, что он совершил злого в отношении других, себе подобных. Есть за что простить – он доставил зрелище!.. Если же он отстаивает свою правоту или указывает толпе ее надлежащее место, низводит ее с пьедестала божества, она кричит: "распни его!"
Лакей подал чай.
"На что им мое оправдание, на что им моя правота! Что стану я писать? Толпа – мои пациенты, мои работодатели не поймут моих научных доказательств. Этому почтенному подлецу коллеге, который выступил против меня – что ему доказывать, когда ему это совсем не нужно, а нужно не это. Ну, вот завтра явлюсь некоторым образом на суд в наш совет, и там будем рассуждать".
И доктору живо представилась сцена, как завтрашний день состоится заседание совета. Лица всех профессоров, ректора, самого Лойолы, все рисовались ему в воображении, как живые.
Он вскочил и стал быстро ходить по комнате.
...Да, и никого вокруг, не на кого опереться. Если у него есть друзья – вернее приятели – то в других факультетах. Они не компетентны в разрешении вопроса о правильности операции. Здесь же, свои факультетские, все будут против него. Он слишком долго стоял на высоте, над ними... Впрочем, все пустяки. Он сознает свою правоту и уверен, что совет признает и диагноз его, и оперирование правильным. Это ведь не публика, не толпа. Тут данные, факты, симптомы...
...Все это так, если б не плюха! Лойола виноват, что переложил инструмент. Его не похвалят, но оправдают... наконец, найдут что это вовсе не важно... умышленность не докажешь. Лойола, конечно, виноват, что довел его до раздражения, но за последствия своего раздражения отвечает только он сам и никто другой. И все восстанут против него; приличия ради восстанут!.. Они уже восстали. Никто даже из любопытства не заглянул к нему за эти дни. Вот и сегодня: уж полночь, и, конечно, никто не придет. Все ждут, что скажет завтрашний день... Да... эта плюха... потом этот сорвавшийся нож – все это нельзя назвать правильным ведением операции.
И доктор остановился с мрачным выражением лица. В эту минуту в нем как будто поколебалась уверенность в своей безусловной правоте.
"Да, а им-то что! Что я для них? Освистанный актер... сраженный гладиатор!.."
При этой мысли он невольно повел глазами в сторону, где висела на стене большая гравюра с картины Жерома "Pollice verso".
Он подошел к гравюре. Было темно. Он взял со стола лампу и поднес ее к картине.
"Да, и мы гладиаторы! Мы так же забавляем своей борьбой такую же точно толпу", – думал он, разглядывая фигуры бойцов и зрителей.
Всматриваясь ближе, доктор во многих лицах на картине находит сходство со своими знакомыми. Вот этот цезарь, что так спокойно кушает какие-то плоды, сидя в своей ложе, не обращая внимания ни на pollice verso толпы, ни на гладиаторов на арене, – как он похож на попечителя округа. И тот, вероятно, так же сидел, выслушивая доклад ректора о событии в клинике, а мысли его в это время были заняты каким-нибудь лакомым блюдом. А эта матрона? О, он узнает ее! Это она произнесла ему сегодня приговор: "показнят и помилуют". Это она сказала, что публика смотрит только на них, забыв про умершую больную... Да, да – они гладиаторы, они зрелище!..
"Вот и эта, и этот – знакомые лица, – почти вслух произносит доктор. – Да, вся эта толпа, только в других костюмах, быть может, с иными чертами лица, но с теми же душами, с тем же духом – она вся здесь, у нас; я чувствую, что она стоит у меня за спиной и pollice verso уже осудила меня, осудила всю мою будущность на измор!"
Лакей с подносом в руках показался в дверях. Доктор отошел от картины, поставил лампу на стол и выпил стоявший на столе стакан остывшего чая.
– Прикажете еще? – спросил лакей, принимая пустой стакан.
– Да, принеси.
"Почему же, за что же? – продолжал он думать, когда лакей вышел. – Ведь неправ все-таки Лойола... Да, но он является победителем. Как? Почему? Надо разобраться..."
Доктор взялся рукой за лоб, как бы желая удержать там какие-то мысли, водворить какой-то порядок. Он чувствовал, что за эти дни у него в голове все перепуталось. Осторожно начал он ставить посылки для силлогизмов, надеясь поймать заключение.
"Мы боролись с ним на арене жизни. Мы боролись за существование... Да, да. У римлян были цирки, были гладиаторы. Мы выдумали, взамен их, борьбу за существование... У римлян настоящих, тех, что были cives romani, ее не было. На то у них были рабы, провинциальные подати, у плебса panis et circenses... [Хлеба и зрелищ (лат.).] Теперь, когда борьба за существование на арене жизни заменила борьбу гладиаторов на арене цирка, мы в одно и то же время и зрители, и борцы. Оружие и приемы борьбы другие, другая и форма смерти, умирания... В борьбе с Лойолой я преступил известные правила борьбы, и я считаюсь побежденным. Если бы и не было этой несчастной плюхи – все равно. Я или он, каждый из нас мог бы рано или поздно выкинуть какую-нибудь другую гладиаторскую штуку, и тот, кому она в конце концов не удалась побежден. И толпа делает над побежденным то же римское pollice verso, только в другой форме. Дух римского цирка передался нам. Мы взяли от римлян их римское право, оно легло краеугольным камнем для создания нашего строя жизни, всего нашего нравственного кодекса. Мы воспитались из поколения в поколение в духе этого римского права!"
Лакей принес стакан чаю.
– Теперь мне больше ничего не нужно, – сказал ему доктор, взяв стакан. – Я позову, если понадобится.
Лакей вышел.
"Гладиаторы ли мы? – опять возвратился доктор к прерванным размышлениям. – Да, мы гладиаторы... Мы худшие из них – мы гладиаторы-добровольцы. Разве я в самом деле не был гладиатором всю жизнь?.."
Он стал подыскивать примеры из своего прошлого и невольно вернулся к тем воспоминаниям, которые уже прошли перед ним за эти дни. Разве он не был гладиатором, – думалось ему, – когда он защищал диссертацию и на глазах толпы осмеивал авторитет своего бывшего учителя? Разве он не был гладиатором, когда, давая ему прозвище Лойолы, унижал его, а сам выдвигался вперед? Разве он не был таким же и в отношении других?
"Пусть он заслужил мое отношение к нему, – думал доктор про своего противника, – пусть я был совершенно прав, потому что ведь и он боролся со мной, хотел сразить меня, пусть он тоже гладиатор – но гладиатор и я! И нечего удивляться, если теперь я осужден толпой зрителей. Что я им, что они мне?! Разве есть прочная связь между мой и людьми, между каждым человеком в отдельности и массой человечества вообще?! Все это инстинктивно понимают, тяготятся этим и все – давно и тщетно – ищут какой-то любви друг к другу. Зная, что даром и любовь, как ничто другое, не дается, покупают ее. Но любви, купленной в обмен на какие бы то ни было ценности, не верят, и все хотят найти любовь настоящую, неподкупную. Думают, что ее можно приобрести только в обмен на любовь же, и потому начинают притворяться, что любят других... Альтруизм!.. Фальшивой монетой платят за поддельный товар и иногда стараются обмануть себя, что товар этот не подделка – вот, что такое их альтруизм!.. В этом отношении Лойола, пожалуй, даже счастливее меня: он хоть притворяется, что любит людей, может быть, ему и верит кто-нибудь, а, пожалуй, и он, по старческому легкомыслию, кому-нибудь поверит, что и его любят. В особенности теперь... после моей плюхи и при встреченном им сочувствии в обществе. У него получается хоть иллюзия любви. А у меня даже и этого нет".
"...Нет, мое положение все-таки лучше, – думал он чрез минуту. – Я не фальшивлю, не делаю иллюзий, не ищу их. Я правдив, я хоть около истины. И за это я могу искренно любить, по крайней мере, хоть самого себя-то. По крайней мере, мне не нужно, как всем этим фальшивым монетчикам любви бояться общественного суда, дрожать за каждую выпущенную в обращение монетку".
"...Да, но, так или иначе, приходится жить между ними, делать разные условности, говорить их языком, иначе ведь не поймут тебя, не захотят слушать, а следовательно нельзя будет существовать, нечего будет есть, нечем поддерживать жизнь... А все они гадки. И вечно пребывая с этими гадами, вечно говоря их языком или даже прислушиваясь к нему, приобретешь их манеру выражаться, неизбежно усвоишь их произношение, акцент...
...Да я уже и усвоил его! Разве не с акцентом этих подлых фальшивых монетчиков я сказал давеча этой барыне, будто меня угнетает сознание, что я невольная причина смерти оперированной больной. Нисколько это меня не угнетает по отношению к умершей; а если и угнетает, то по отношению к самому себе, по всем тем последствиям, какими это отразится на мне, на моем будущем, и ближайшем, и отдаленном. Если я буду уверять себя в том, что мне жаль эту барыню, ведь это будет ложь. А при всем желании, не могу я солгать, пред самим собой, потому что вижу все тайники моей души. Разве я когда-нибудь радовался за моих больных, выздоровевших от удачно сделанных операций? Разве я перевоплощался в них и жил их радостью? Нет. Меня радовало это по отношению к самому себе: удача, выгода, слава ergo опять выгода, удовольствие сознания удачи, поклонение тебе, удовольствие твоей семьи от этих выгод... Наконец, удовольствие сознания, что больной доволен мной за сделанное ему благо... Вот это последнее удовольствие, пожалуй, по ошибке можно бы принять за радость за больного. Но ведь мне никогда не рисовалась в воображении картина, что вот, де, этот выздоровевший теперь счастлив, его семья счастлива... А может быть, и наоборот умри он – семья будет осчастливлена?.. Этих соображений у меня не являлось. Если же не было чувства искренней, чистой радости за больного, выздоровевшего, откуда же возьмется у меня чувство угнетения за больного, умершего. Всякая натяжка такого чувства останется натяжкой, а всякая радость и горе в подобном случае будут только по отношению к самому себе, к своим личным интересам".
Анализируя таким образом свои чувства, доктор стал рассматривать в своем лице уже как бы постороннего человека, и настроение его становилось спокойнее. Но вдруг нить этих мыслей оборвалась и почему-то опять вспомнилось, что завтра ему предстоит неприятное объяснение с ректором.
"Почему это мы гораздо больше боимся чужого суда, чем суда собственной совести? – подумал он. – Разве не потому ли, что в конце концов свой суд всегда на своей стороне?.. А если сделать его беспощадным, жестоким?.. Настолько жестоким, чтобы и чужой был не страшен..."
И доктор опять принялся копаться в тайниках своей души и перебирать в памяти все им сделанное.
...Что такое его жизнь? В чем прошлое, где будущее? Где цель жизни?.. Стремление кончить курс, усердное изучение медицины, завоевание репутации искусного хирурга, борьба с соперником, – зачем это все, во имя чего? Для себя или для других? Или и для себя, и для других? Последний вопрос едва ли уместен. Если он или другие, которая-нибудь из двух величин – отрицательная, то ведь плюс на минус даст минус, а жить надо во имя плюса. Следовательно при отрицательности одной из величин вопрос о жизни для себя и для других упраздняется и остается вопрос: я или другие? Которая из двух величин положительная?.. Но так как я есть часть других, то я упраздняется из вопроса. Если же он убеждается, что другие дрянь, то стало быть и жить не стоит, не стоит жить для минуса.
...В чем его прошлое?.. В стремлении к будущему, то есть к созданию себе известного положения в обществе, или, по устарелому выражению, "в карьере". С тех пор, как он сознательно стал думать о себе самом, все его стремления были направлены к тому, чтоб выдаваться над толпой. Само усиленное занятие наукой было лишь средством к достижению одной цели: первенствовать. Тогда этого, быть может, и не сознавалось; но теперь, оглядываясь на все прошлое, он не может не видеть в нем, что подкладкой всякого действия было стремление первенствовать. Даже так называемые благородные побуждения, все замешаны на тех же дрожжах. Еще будучи студентом, он, как, впрочем, и многие другие, лечил бесплатно мужиков и баб. Сколько превосходнейших операций в клинике сделал он потом бескорыстно же над мужиками и бабами. И ухаживал он за ними с такой внимательностью, заботливостью, почти нежностью, как будто это были его ближайшие родные, друзья. Но вдумываясь хорошенько, он не мог не сознаться теперь, что все это была ложь, хотя бы и бессознательная. Никакого особенного расположения к этому "народу" он не чувствовал, да и чувствовать не мог: не за что. Рассмотри бесстрастно и всесторонне нравственную личность мужика, и она так же мало привлекательна, как и нашего брата, интеллигента, да еще в грязной оболочке. Исключения везде редки. Его "нянченье" с больными мужиками и бабами была – хотя бы и бессознательно – реклама. Ведь не будь в перспективе возможности наверстать свое с тех, кто прямо намечен для охоты, как дичь, будь кругом его всю жизнь исключительно только эти мужики и бабы – не стал бы он так бескорыстничать. Невозможно это, физически невозможно... Да, это была реклама. Смотрите-де, вы все, товарищи и публика, какой я хороший, бескорыстный человек, а вы нет. Это то же самое явление, как то, что в иных дорогих магазинах выставлены на окнах безделушки с означением низких цен вне всякой конкуренции. Быть может, на этих вещах магазин и в убытке, зато на других он ограбит попавшегося на удочку покупателя. Тоже и в нашей нравственной лавочке. Все наши нравственные деяния – реклама, безнравственные – открытый грабеж. Одна неожиданная, хотя и строго логическая случайность, и вор пойман.
"Так и со мной теперь, – подумал доктор. – Цена спала. По всему, что делалось до сих пор для создания себе выдающегося общественного положения, прошла огромная трещина".
"Посмотрим однако, нельзя ли ее замазать, залечить?.."
"Нет, не залечить! Если и забудется в обществе этот случай, все равно не срастется порванная связка между мной и обществом, не заживет та трещина, которая образовалась внутри меня самого. До сих пор я шел в это общество, как в завоеванную страну, брал крепость за крепостью и не терпел ни одного поражения. Теперь – первая неудача, и это общество уже оскорбило меня, превратив завоеванную мною дань в добровольную подачку – размер по его усмотрению. Это гадко, мелко ничтожно, но это унизительно. А если за первой неудачей последуют вторая, третья? Если мелкие враги поползут из всех щелей, если откроется гверилья? Каково мне теперь, смотревшему до сих пор на всех с высоты и снисходительно, самому искать снисхождения и, чего доброго, заискивать. Я тем и гордился, за то и побил себя, что шел прямо, открыто к цели, и даже то, что мне теперь представляется рекламой, обманом, делалось мною искренно: победоносное шествие вперед делало меня действительно великодушным. Теперь надо оглядываться, бояться, даже лгать, выносить неудачу, словом я сам себе буду гадок и противен. При встрече с кем бы то ни было из знакомых я буду засматривать ему в глаза и стараться уловить в выражении их или оправдание, или осуждение мне. Ведь это своего рода рабство".
Одна мысль об этом возбудила в нем чувство отвращения и заставила его нервно вздрогнуть.
"И куда бежать от этого? В другой город? Это значит, начинать там сначала, завоевывать себе положение, практику. Допустим, что я был бы способен на это. Но ведь и там начнут обсуждать причины моего переселения. Да начнут еще гораздо раньше, чем я появлюсь там. То, что теперь напечатано в наших газетах, перепечатают сейчас же в столичных, потом в провинциальных, и весть об удивительном событии – о мировом событии! – о плюхе, которую я дал негодяю, и об умершей от слабости организма женщине разнесется по всей России, все читатели газет с жадностью накинутся на это известие, будут передавать его друг другу, комментировать его с таким азартом, как будто дело идет об их собственной жизни. Я вижу их всех отсюда. Pollice verso они все приговаривают меня к убиению... по крайней мере, к убиению сознания моей правоты и права заявлять об этой правоте. Толпа жадно подхватывает всякое известие о неудаче, о падении, и подолгу останавливается на них. На то она и толпа, на то она – люди, человечество. И чем выше падение, темы оно интереснее, как зрелище. Сколько славных имен славны только своими необычайными падениями. Толпа смотрит на акробата, идущего по канату. Зачем? Непременно с тайной надеждой увидать, как он полетит оттуда. Если б знали наверное, что он упасть не может, и всякий может пройти там точно также, то и смотреть бы не стали – не интересно. И 30 копеек за вход платить не за что. Весь интерес в падении. О, римляне! О, цирк! О, гладиаторы!.. И хотят, чтоб сброд этих низких тварей называли разумным человечеством, чтоб их любили! Нет, раз поймешь их, захочешь убежать от них куда-нибудь подальше!..
...Но куда ни беги – везде одно и то же. Где найти других людей, где найти близких? Их нет, я их не видал!.. Разве моя жена близка мне?.. Я ее, что называется, люблю. Но вот в такую минуту, как теперь, я произношу это слово так же равнодушно, как если б я сказал: она глупа. Разберись-ка хорошенько в этом чувстве, так окажется, что сейчас я ее даже и не люблю. Вернувшись в то настроение, какое было до этой несчастной операции, я ее буду любить по-старому. Но теперь, нет, я ее не люблю. Я не ненавижу ее, но я не думаю о ней с любовью, меня не влечет к ней. Напротив, самое напоминание о ней скорее раздражает женя".
Пред ним проносятся в воспоминании все обстоятельства их женитьбы.
Женился он на ней под давлением идей все того же порядка, которые вели его до тех пор в жизни. В окружавшем его обществе она была красивее других; она была там даже умнее других и имела свое место и значение, несмотря на скудность средств для поддержания требовавшегося обществом декорума. У нее было много поклонников, она, – как и он – стремилась первенствовать в обществе. Это было в них общее, и это их сблизило. Она не хотела выйти замуж за богача. "Это ведь всякая смазливенькая девочка так может выйти", – говорила она. Такой выход казался ей недостаточным, он мог уронить ее даже в глазах ее поклонников. А она хотела, чтоб ей поклонялись. Но богатство, роскошь она любила. Для нее они являлись одной из неизбежных причин поклонения... Он, молодой хирург и женский доктор, шел в это время в гору. Репутация его росла. Около него тоже образовалась атмосфера поклонения. И он тоже не хотел жениться на богатой. Это, казалось ему, унизило бы его в глазах общества. А такая вот жена, как его Маня, дополняла ему тогда его атмосферу поклонения и самообожания. И они поженились... А теперь?.. Что видел он от нее за эти дни? Испуг, как бы не рассеялась эта их одуряющая атмосфера, как бы не распалось то внешнее, что их когда-то сблизило. А сами-то по себе интересны ли они друг для друга?
Он долго задумывается над этим вопросом и, наконец, медленно покачав головой, произносит: нет!
Нить мыслей опять временно прерывается. Но он снова овладевает ею.
"Да, так, я призвал себя ныне на собственный суд, – думает он, стараясь восстановить связь с предыдущими мыслями. – Почему же я раньше никогда не ставил себе вопроса: зачем я живу так, а не иначе, зачем я вообще живу? Должно быть некогда было думать об этом, не было времени оглянуться на себя. Надо было следить за медицинской наукой, за ее развитием, за всеми новейшими успехами хирургии. Я сам искал в ней новых открытий и сделался узким специалистом. Это, ведь, говорят, так и следует... Только за собой, за душой своей следить было некогда... Читал я от времени до времени философские книги. Но ведь мое отношение к излагаемым в них идеям было абстрактное. Помнится, я читал их так же, как изучал чужие болезни – у меня не болело. Интерес был внешний – душа не переживала страданий, плодом которых мог бы явиться тот или другой вывод философии или морали. А теперь вот, когда дан толчок душе, дано страдание, – вот теперь я, пожалуй, чувствую, что все мои знания, все развитие способности мышления является страшным орудием против меня самого – и навсегда. До сих пор я был как будто глух и слеп, обладая в то же время всеми способностями души. Жизнь сделала надо мной операцию – я прозрел и стал слышать. И все способности моей души нашли теперь применение, и я с ужасом вижу, что все кругом или, по крайней мере, большинство – слепы и глухи, и все живут лишь чувством осязания, ощупью. Мой ужас пред этим положением возрастает, когда я убеждаюсь еще, что нет и врачей, могущих произвести операцию над этими глухими и слепыми. Единственный хирург – какая-нибудь случайность. Но и толчок, который жизнь может дать слепому, не сделает его зрячим, если у него нет предварительной подготовки. Вот, жена останется такой же, как была. Что бы я ни говорил ей теперь, она не подготовлена к тому, чтоб понимать меня и прозреть. Она будет видеть лишь одно – неудачу, потускнение прежнего ореола...
...А тут со всех сторон начнут давить... Ведь эта несчастная роскошная обстановка, служившая рекламой моему, хотя бы и действительному, искусству – эта обстановка еще не вполне оплачена. Обстоятельства могут сложиться так, что все долги, которые при удаче и при всех наших больших расходах – были бы уплачены в год, теперь могут поставить меня в затруднительное положение. А сокращение гонорара... практики... пожалуй, придется еще отказаться и от профессуры... все, все... Одна беда не живет!..
...Еще хорошо, что нет детей!.. Когда сознал всю тяжесть положения человека в человечестве, страшно подумать, к чему пришлось бы готовить своих детей. Сам шел путем гладиатора, и их вести по тому же пути!..
...Начать новую жизнь?.. Какую?.. Самоотречения, альтруизма, простоты, любви к ближнему? А разве старое не даст отрыжку? Если во мне не было этих начал прежде, если вся жизнь моя прошла в развитии других, противоположных качеств моего духа, почему же я теперь должен отрешиться от всего прошлого, отрешиться от самого себя, от своего я? И во имя чего? Во имя какого-то ближнего, такого же, как и я, всю мерзость и все ничтожество которого я постиг в своем собственном лице. Если б те начала были во мне, они должны бы проявиться и сами собой, и гораздо раньше. Но нет, всегда у меня на первом плане было стремление к проявлению моей личности, моей воли. И теперь измениться я мог бы только по своей же воле. Иначе это была бы трусость, бегство перед первым же нанесенным жизнью ударом. Да, сделайся я теперь другим, альтруистом, во мне бы невольно явилось, рано или поздно, презрение к самому себе – презрение, что меня заставили сделаться таким, потому что, вместо пяти рублей за визит, дали мне три...