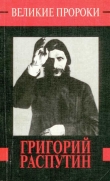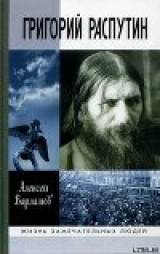
Текст книги "Григорий Распутин"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 61 страниц)
Впервые за мою службу три ловких политических интригана подошли к Царице Александре Федоровне не как к Императрице, а как к простой честолюбивой женщине, падкой на лесть и не чуждой послушать сплетни. Подошли смело, отбросив всякие придворные этикеты, и ловко обошли ее, использовав в полной мере ее скромную по уму, но очень ревнивую к своему положению подругу А. А. Вырубову.
То, что нам, служившим около Их Величеств, по своей смелости и цинизму не могло прийти и в голову, то было проделано артистически тремя друзьями: Хвостовым, Белецким и Андрониковым, использовавшими ловко отсутствие Государя, все внимание которого, все помыслы были заняты войной».
«Белецкий мне понравился. Вот тоже энергичный человек!» – писала Александра Федоровна.
«Хвостов… производил впечатление очень энергичного человека на меня и моих друзей», – показывала на следствии Вырубова.
«Энергичные люди» назовет свою пьесу о русских проходимцах, хотя и иного времени, Василий Шукшин.
Распутин пока что – в августе – сентябре 1915 года– был к этим планам причастен постольку-поскольку, и заговорщики лишь пользовались его именем. Но вот в конце сентября – почти сразу же после удаления Щербатова и Самарина из правительства – он триумфально вернулся в Петроград.
«Как только приехал Распутин, на другой же день в квартире кн. Андроникова был устроен обед, и состоялось наше с ним свидание, – показывал Белецкий. – <…> в нем было гораздо больше, чем ранее, апломба и уверенности в себе. Из первых же слов Распутин дал нам понять, что он несколько недоволен тем, что наши назначения состоялись в его отсутствие, и это он подчеркнул князю, считая его в том виновным <…> Из разговоров за столом мне стало ясно, что наши назначения Распутину известны и что он против нас ничего теперь не имеет, но что он, видимо, хотел, чтобы мы получили назначение как бы из его рук».
Однако большого труда обмануть Распутина профессионалу не составляло, и тот довольно легко стал орудием в руках людей для себя сообразительных, но лишенных государственного мышления.
«В людях Распутин разбираться не умел. Он делил всех на две категории: „наш и не наш“ – это значит: друзья и враги. В первую категорию очень легко было попасть – нужно было только получить рекомендацию от одного из друзей Распутина. Благодаря этому в число „наших“ попадало много людей, к нему совсем не расположенных, даже провокаторов, которые, пользуясь его расположением, извлекали свои выгоды и в то же время всюду его оговаривали и готовы были всегда сделать ему какую-либо пакость», – писал о распутинском принципе подбора кадров генерал Глобачев. Но беда была в том, что вслед за опытным странником не умела разбираться в людях и Государыня, которая в письмах в Ставку, перебирая те или иные возможные кандидатуры министров, в первую очередь указывала на степень их лояльности Распутину: «Арсеньев из М. вопил против нашего Друга. Рогозин ненавидит нашего Друга. Кн. Урусов (я его не знаю) – знаком с нашим Другом, – о нем очень хорошо отзываются. У меня голова болит от охоты за людьми»; «Он (Николай Константинович Шведов. – А. В.) <…> – очень верующий и безгранично предан (называет нашего Друга – отец Григорий) и хорошо о Нем отзывался, когда видел Его»; «Я написала тебе про Татищева, как шефа жандармов, только забыла сказать Хвостову, что он сильно настроен против нашего Друга – так что я думаю, что Хвостов должен с ним сперва поговорить на эту тему»; через несколько недель о нем же: «Кн. Татищев, которого я принимала – знающий человек, знает и глубоко уважает нашего Друга и в отличных отношениях с Хвостовым – даже в родстве с ним – человек очень преданный…» – и эта роковая взаимосвязь мало способствовала государственному строительству.
Однако и сам Государь, похоже, не слишком преуспел в кадровых вопросах. Это признавала даже «верная Богу, Царю и Отечеству» Анна Александровна Вырубова, когда писала о царском выборе одного из государевых министров: «…как всегда – под впечатлением минуты, что характеризовало все его назначения». Впрочем, не в ком было особенно разбираться и не из кого выбирать: положение с кадрами в последние годы империи стало катастрофическим.
«Но где же найти людей? <…> Где у нас люди, я всегда спрашиваю, и прямо не могу понять, как в такой огромной стране, за небольшим исключением, совсем нет подходящих людей?» – восклицала Царица в отчаянии 7 сентября 1915 года.
«Дорогой мой, как не везет! Нет настоящих „джентельменов“, – вот в чем беда – ни у кого нет приличного воспитания, внутреннего развития и принципов, – на которые можно было бы положиться», – заключала она в английском стиле полгода спустя.
Позднее это состояние дел очень точно охарактеризовал М. О. Меньшиков в дневниковой записи, сделанной несколько дней спустя после известия о расстреле Николая Александровича: «Ничтожный был человек в смысле хозяина. Но все-таки жаль несчастного человека: более трагической фигуры „человека не на месте“ я не знаю. Он был плох, но посмотрите, какой человеческой дрянью его окружил родной народ! От Победоносцева до Гришки Распутина все были внушителями безумных, пустых идей. Все царю завязывали глаза, каждый своим платком, и не мудрено, что на виду живой действительности он дошел до края пропасти и рухнул в нее».
А Розанов, тот самый Василий Васильевич Розанов, который таким соловьем пел про сибирского странника в 1913 году, в 1918-м написал: «И вот рушилось все, разом, царство и Церковь. Попам лишь непонятно, что Церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь выше духовенства. Он не ломался, не лгал. Но видя, что народ и солдатчина так ужасно отреклись от него, так предали (ради гнусной распутинской истории), и тоже – дворянство (Родзянко), как и всегда фальшивое „представительство“, и тоже – и „господа купцы“, – написал просто, что, в сущности, он отрекается от такого подлого народа. И стал (в Царском) колоть лед. Это разумно, прекрасно и полномочно».
Брал под защиту Государя и Солоневич.
«…Николаю Второму пришлось действовать в тот период, когда правящий слой догнивал окончательно. Цифры – бесспорные и беспощадные цифры дворянского земельного оскудения – это только, так сказать, ртутный столбик общественного термометра: температура упала ниже тридцати трех: смерть. Слой, который не мог организовать даже своих поместий, – как мог он организовать государство, – писал он. – Я, конечно, не говорю об исключениях – типа Столыпина. Я говорю о слое. Николай Второй попал в то же положение, о котором говорил Ключевский: „Московский государь, которого ход истории вел к демократическому полновластию, должен был действовать посредством очень аристократической администрации“. На низах эта администрация была сильно разбавлена оппозиционными разночинцами. На верхах она была аристократической сплошь. Слой умирал: полуторавековое паразитарное существование не могло пройти даром: не трудящийся да не живет.
Без войны смена слоя прошла бы, конечно, не безболезненно, но, во всяком случае, бескровно. Однако на Николая Второго свалилось две войны – и ни одной правящий слой не сумел ни предотвратить, ни организовать. Слою оставалось или взять вину на себя, или переложить ее на плечи Монархии.
Левая часть правящего слоя перекладывает вину без всякого зазрения совести: «проклятый царский режим». Правой части – такой образ действия все-таки несколько неудобен – и вот тут-то и подвертывается Распутин. Дело же, конечно, вовсе не в Распутине. Дело в том, что война свалилась на нас в момент окончательной смены правящего слоя.
Один слой уже уходил, другой еще не пришел. Вот отсюда-то, а вовсе не от Распутина, и произошло безлюдье, «министерская чехарда», «отсутствие власти» и – также трагическая безвыходность положения Царской Семьи. Отсюда же «кругом трусость и измена». Смертный приговор Царской Семье был вынесен в «августейших салонах», большевики только привели его в исполнение».
Свою и очень точную характеристику дал высшим чинам Российской империи, окружавшим Государя, и Солженицын. Он писал о них в связи с оправданием Государственным Советом Курлова, но слова автора «Красного колеса» имеют и более широкое значение:
«Как ночная нежить, они узнавали своих по запаху и по уголькам глаз. Они выгораживали и вытягивали по-человечески такого же, как сами, попавшего, как и они могли попасть. Они бы дико откинулись, если б им сказали, что голосование было не о Курлове, но о том, как скоро будут потрошить их собственные дома, расстреливать их самих и резать домочадцев.
Да куда ж им было соревноваться с революционерами? Те жертвовали своими жизнями в 18—25 лет, шли на безусловную смерть, только бы выполнить задуманное. Эти – в 40, 50 и даже 70 лет почти поголовно думали об одной карьере, а значит – о своем непременном сохранении для нее. Думать о России – среди них было почти исключение, думать о кресле – почти правило. Они не давали себе напряжения соображать, медлили в действиях, нежились, наслаждались досугом, умеренно сияли в своих обществах, интриговали и сплетничали. Что же парило над ними? Показное православие (чтобы как у всех, они все регулярно отстаивали церковные литургии) да преданность Государю как лицу, от которого зависит служба.
Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряженное слеженье за системой перемещений, возвышений и наград – разве это не паралич власти?»
В полной мере это относится и к тем, кто пришел к управлению страной осенью 1915-го. Россия, проделавшая за четыре года эволюцию от Столыпина до Хвостова (того самого Хвостова, которым еще в 1911-м Николай хотел Столыпина заменить), сама шла навстречу гибели.
По иронии судьбы это впоследствии, а может быть, и раньше понял умный Спиридович, тот самый Спиридович, который, как и Курлов, имел отношение к охране Столыпина в августе – сентябре 1911-го и который в декабре 1912-го был фактически оправдан. Оказавшись в эмиграции, он писал:
«…с приездом Распутина случилось то, чего еще не случалось на верхах русской бюрократии. Хвостов и Белецкий цинично откровенно вошли с Распутиным в совершенно определенные договорные отношения о совместной работе. Он должен был поддерживать надуманные ими планы, внушать их во дворце, Вырубова же и Андроников должны были содействовать этой работе. Впервые два члена правительства, как бы фактически, официозно, признали персону Распутина и его влияние. Сейчас же, после возвращения Распутина, у Андроникова состоялся обед, на котором были: Хвостов, Белецкий, Распутин и сам Андроников. Распутину был предложен следующий план. Его обещали, прежде всего, охранять. Ему обещали поддерживать его перед Их Величествами, как человека полезного, богобоязненного, любящего беззаветно Царя и Родину и думающего только о том, как бы принести им пользу, помочь им.
Ему обещали регулярную денежную поддержку и исполнение его просьб. Ему обещали провести на пост Обер-прокурора Синода человека, который бы хорошо относился к нему и исполнял его пожелания относительно духовенства. Уже подготовленный отчасти письмами Вырубовой в Покровское, Распутин понял всю выгоду нового положения. Он пошел на соглашение.
Но в нем сразу же явилась та солидная, серьезная самоуверенность, которая дается важностью занимаемого места и положения. Его союза искали министры и ничего за это не требовали, кроме поддержки там, на высоком месте, о чем даже не говорилось, настолько это было понятно само по себе. И началась работа».
Так, осенью 1915 года значение Распутина, и без того немалое, возросло до такой степени, что дальше, казалось, уже некуда, и в этой истории все явственнее стали проступать элементы абсурда, предвосхищавшие ее скорый конец.
«Влияние Распутина на государственные дела становилось все сильнее, – писал Шавельский. – Назначение члена Государственной Думы Алексея Николаевича Хвостова на должность министра внутренних дел совершилось таким образом (этот факт, как и следующий разговор Распутина по телефону, передаю со слов ген. В. П. Никольского, бывшего в то время начальником штаба Корпуса жандармов и очень осведомленного на счет деяний старца, как и похождений „знаменитого“ министра Хвостова). Хвостов был приглашен к Императрице Александре Федоровне.
– Его величество согласен назначить вас министром внутренних дел, но вы сначала съездите к отцу Григорию, поговорите с ним, – сказала Хвостову Императрица.
И Хвостов поехал к Распутину, милостью которого скоро состоялось назначение. Распутин, которому, таким образом, Хвостов был обязан своим возвышением, потом не стеснялся с ним.
– Кто у телефона? – спрашивает подошедший к телефону министра внутренних дел чиновник последнего Граве.
– Позови Алешку! – отвечает незнакомый голос.
– Какого Алешку? – спрашивает удивленный Граве.
– Алешку – тваво министра, говорят тебе, – продолжает тот же голос.
– Нет здесь никакого Алешки, – вспылил Граве.
– Ну, ты мотри-потише, а не то не будет ни тебя, ни тваво Алешки. Поди скажи ему: Григорий Ефимович вас спрашивает…
Граве только теперь узнал голос Распутина».
Опять же дело не столько в истинности этого происшествия (Шавельский ссылался на генерала Никольского, но примечательно, что очень похожая сцена описана в показаниях Белецкого), сколько в его правдоподобности в глазах наших предков. Сегодня, информированные о размахе распутинской легенды, мы можем сомневаться, так ли уж кричаще грубо все было на самом деле и не привирал ли либо секретарь министра Граве, либо генерал Никольский, либо сам Шавельский, либо Белецкий, но тогда сомнений не возникало. Поверившая письмам Императрицы и Великих Княжон к Распутину, Россия верила и всем прочим слухам.
«…вокруг хлыстовского ядра происходит нарастание всевозможных льстецов, предателей и продажных людей без совести, преследующих исключительно своекорыстные цели и пролезающих за взятки через всесильного Распутина на разные ответственные и прибыльные места. Какая вакханалия, разнузданность, а главное, какой позор!..» – весьма эмоционально писала княгиня Тенишева. Но основания для дамских всплесков были: влияние Распутина было несомненно, и с каждым днем его миссия становилась все более значительной.
Вот классический пример: петербургский градоначальник в 1914—1916 годах А. Н. Оболенский, которым Императрица была недовольна и решила его сместить, о чем сообщила Государю в письме от 14 сентября 1916 года («все настроены против него»). Что стал делать сей государственный муж, когда почва стала уходить из-под его ног? Он бросился за помощью к единственному человеку, который мог его защитить.
«Милый, подумай только: Оболенский выразил желание повидать нашего Друга, послал за Ним великолепный автомобиль (Он уже много лет знаком с Мией, женой Оболенского). Вначале он очень нервно Его принял, затем стал говорить все больше и больше, пока, в конце концов, не ударился в слезы – тогда Гр. уехал, так как он увидел, что наступил момент, когда душа совершенно смягчилась. – Говорил обо всем откровенно, что он изо всех сил старался, хоть и не сумел добиться успеха, что он слыхал, будто его хотят заставить красить крыши дворцов (вероятно, кто-то придумал нечто вроде того, что мы думали), но что ему подобного места не хотелось бы – он хочет делать привычное дело, – его задушевная мечта стать финляндским генерал-губернатором, – он во всем станет слушаться советов нашего Друга. Высказался против Ани и был поражен, когда наш Друг ответил ему, что она от Бога и что она очень много выстрадала. Затем он показал аккуратно перевязанную пачку всех 20 писем с прошениями, которые наш Друг ему за эти годы прислал, и сказал, что он постоянно делал все, что было в его власти. На вопрос Гр. относительно взяток он решительно ответил, что не брал, но что его помощник брал много. – Я не могу представить себе, как это он, этот гордый человек, мог сдаться, – это потому, что в своем несчастье он почувствовал, что лишь Он один может поддержать его».
Эту картину нетрудно представить. Петербургский аристократ, кающийся перед «грязным мужиком», пачка исполненных им прошений (должно быть, берег на черный день – и кто станет после этого отрицать, что ходатайства Распутина не выполнялись, хотя бы частично?) и, наконец, Императрица, готовая простить неугодного чиновника только за то, что он смирился перед ее другом, и на этом основании ходатайствовать за него перед Государем. Пикантность этой ситуации состояла в том, что еще совсем недавно князь был ярым антираспутинцем и, по свидетельству Белецкого, «подверг суровому административному наказанию несколько первоклассных ресторанов, оркестры и хоры коих пользовались симпатиями Распутина; когда же последний обратился к нему с просьбой снять эти взыскания, то градоначальник ему в этом отказал».
И вот все в одночасье переменилось. «Я узнал впоследствии от Распутина, – показывал Белецкий, – что он с кн.
Оболенским примирился, был у него, пил чай и что тот исполнил его просьбы».
«Наш Друг усматривает великий духовный смысл в том, что человек такой души, как Обол., всецело обратился к Нему».
«Как обстоит дело с Оболенским и Финляндией?»
«Так как Оболенский сейчас себя хорошо ведет и слушает Его, Он думает, что было бы хорошо, если бы Протоп. взял его к себе в товарищи: он прекрасно мог бы здесь работать, и таким образом можно было бы не выгонять его со службы».
«Затем опять Оболенский – оказывается, наш Друг чрезвычайно им доволен, он очень изменился к лучшему, а потому Он думает, что Прот. следовало бы взять его к себе в помощники».
«Я рада, что ты нашел место для Оболенского».
Это хорошо было историку Ольденбургу писать после драки: «…в это трудное время свой долг до конца исполнили те министры, которые нашли в себе нравственную силу игнорировать не столько самого Распутина – это было сравнительно легко – сколько распутинскую легенду; которые своему Государю служили так, как будто никакого Распутина не было. К чести русского служивого сословия, таких министров оказалось большинство. Это, впрочем, не мешало кругам, враждебным власти, приклеивать кличку „распутинцев“ чуть ли не ко всем неугодным для них государственным деятелям».
Дело даже не в том, что сей красноречивый абзац не сопровождается конкретным перечнем имен честных представителей служивого сословия при Государе, а в том, что, к несчастью, в русском служивом сословии было их меньшинство, и чем ближе к революции, тем меньше оставалось. Хотя, конечно, такие люди были.
«Есть еще один министр, который, по-моему, не на месте (в разговоре он приятен), это – Щегловитов: он не слушает твоих приказаний, и каждый раз, когда думает, что прошение исходит от нашего Друга, не желает его исполнять, и недавно разорвал одно, обращенное к тебе. Это рассказал Веревкин, его помощник (друг Гр.)», – писала Государыня.
Сменивший Щегловитова на этом посту А. А. Хвостов (дядя А. Н. Хвостова) рассказывал на следствии:
«Хвостов. … Вероятно, в начале, может быть, через месяц или два после моего назначения <…> приходит курьер и говорит, что звонит по телефону господин Григорий Распутин и спрашивает, когда я смогу его принять. Я приказал ответить, что приемный день у министра юстиции четверг от такого-то до такого-то часа. Тогда меня спросили: могу ли я дать особый прием вечером. Я сказал, что лиц мне незнакомых я вечером не принимаю, а в четверг он может ко мне явиться как всякий другой человек. Он был поставлен об этом в известность тем же курьером, и в следующий четверг он явился ко мне с просьбой о переводе какого-то нотариуса, по фамилии, кажется Копошинского, из Барнаула в более доходный город. Я сказал, что это не зависит от министра юстиции. Потом он начал говорить об общем положении дел, на что я сказал, что не призван рассуждать с ним на такие высокие темы, встал, и он от меня ушел <…>
Председатель. После этого к вам была обращена просьба императрицы устроить того же нотариуса?
Хвостов. Как же! Не могу только сказать, была просьба до или после этого. Относительно Распутина могу еще сказать, что мое отношение к нему было заведомо отрицательное. Я несколько подчеркивал это не потому, чтобы хотел приобрести какую-либо популярность, но единственно, чтобы показать, что влияние Распутина в высших сферах не так сильно, как об этом говорили. Некоторым лицам, говорившим, что он заведует всем управлением, я приводил мой пример, потому что, раз я состою в должности министра и так к нему отношусь, то это является доказательством обратного. Делал я это сознательно, потому что считал распутинский вопрос – прескверным, могущим проникнуть в толщу населения и тем подорвать авторитет верховной власти, с которой я связывал благополучие России».
Впрочем, дальнейшие события – отставка А. А. Хвостова в связи его с действиями, направленными против близких к Распутину лиц, – косвенно опровергают уверенный тон министра, но аналогичные рассуждения приводились в мемуарах и другого чиновника.
«Взволнованным и чуть внятным голосом секретарь пробормотал: „В приемную пришел Григорий Ефимович и требует, чтобы ваше превосходительство его приняли тотчас“.
– Пойдите и передайте Распутину, – сказал я, – что раз он пришел, пусть сидит, но в кабинет к себе я его не пущу!
Многолюдный прием затянулся. Пришло время отправляться на заседание Совета министров. Выйдя в приемную, я в ней застал еще человек 10—12, которых я решил наскоро обойти и опросить. Обведя глазами ожидавших в приемной лиц, которые при моем появлении все вежливо привстали, я сразу заметил единственную, оставшуюся сидеть, одетую в долгополую поддевку, мужскую бородатую фигуру, всеми своими приметами походившую на известный по иллюстрированным изображениям облик знаменитого «тобольского старца»…
При моем приближении к Распутину последний все же встал и пристально уставился на меня своими воспаленными, слегка растаращенными и, надо сказать правду, отвратительными глазами, обычно именуемыми среди простонародья «бесстыжими зенками»…
– Что нужно? – спросил я его.
Трясущимися руками Распутин достал из-за пазухи своей поддевки лоскуток бумаги, который я поручил своему секретарю взять и прочесть. На бумажке была изложена просьба. Ответ получился отрицательный. Тогда я показал ему рукой на выходную дверь и, уже не имея сил больше себя сдерживать, крикнул:
– Идите вон!»
Так писал в мемуарах министр земледелия А. Н. Наумов, а далее, скромно похвалив себя за мужество – так поступил бы на его месте каждый («Отказ принять и впустить к себе в кабинет вредного и мерзкого „старца“ казался мне делом вполне естественным, даже обязательным»), поведал о реакции на его подвиг окружающих:
«Я был немало озадачен, когда во все последующие после распутинского инцидента дни ко мне являлись не только отдельные лица, но целые депутации от общественных организаций, даже и от некоторых думских партийных группировок. Все они приветствовали меня по поводу открыто высказанного мной определенного отрицательного отношения к заслуживающей всеобщего презрения личности „тобольского старца“… С утра до вечера раздавались нескончаемые телефонные восхваления, как будто я совершил героический подвиг, проявил необычайное гражданское мужество. Остались у меня в памяти по телефону сказанные мне на другой день слова всероссийского полицейского сыщика и всезнайки – товарища министра Белецкого:
– Жаловался и во Дворце, и нам всем старец на неприветливый ваш прием, а в конце добавил: «Все-таки видно, что Наумов барин»».
Виктор Кобылин, автор книги «Анатомия измены», помещая этот фрагмент наумовских воспоминаний, прокомментировал его следующим образом: «Барин? Нет, совсем не барин. Настоящий барин так не поступает… Собственно говоря, почему министр выгоняет просителя после подачи прошения? Было ли это вызвано поведением Распутина во время подачи прошения Распутиным? Нет. Распутин, которого так подробно, пожалуй, даже с талантом беллетриста описывает Наумов, вызывает в нем отвращение. Но такое же отвращение вызывал Распутин и у тех, кто его принимали, скажу даже, что я сам, когда пишу о Распутине, чувствую к нему такое же отвращение, как и к каждому хаму, несмотря на любое его происхождение и занимаемое им положение. Но Наумов, конечно, понимал, так как был человеком умным, что его поведение в отношении Распутина вызовет тот восторг и „думских партийных группировок“, и „общественных организаций“, и отдельных лиц. Наумов прекрасно понимал, что в конечном результате это шло на пользу врагов Верховной Власти и увеличивало скорбь Венценосца. Окруженный в Ставке безличными и сухими генералами, находящийся в постоянной тревоге за жизнь своего сына, за все ухудшавшееся здоровье своей жены, которая свято верила в человека, несущего все большие осложнения в жизнь страны, передовое общество которой с каким-то чисто дьявольским садизмом разрушало все веками сложившиеся моральные устои, Государь был потрясен всем этим, и только его необыкновенная выдержка не позволяла ему терять спокойствия духа».
О личности Наумова можно и поспорить, но самое интересное даже не это, а то, что его смелые мемуары – это классический пример некоторой, так скажем, беллетризации исторических событий. Их любопытно сопоставить с показаниями министра перед следственной комиссией Временного правительства в апреле 1917 года. На допросе Наумов изложил тот же самый сюжет, – как к нему приходил Распутин, – только:
а) Наумов не отказал Распутину, а передал его просьбу князю Масальскому;
б) Наумов отнюдь не кричал на просителя и не прогонял его прочь, а просто сказал «Так можете идти»;
в) руки у Распутина не тряслись от страха, а трясся кулак, которым он в адрес министра грозил.
Наконец, и сам Распутин, по свидетельству С. П. Белецкого, на вопрос, какое он вынес впечатление от Наумова, ответил, что тот… «обходительный, но „гордый“».
Ответ забавный, и барином министр земледелия здесь не выглядит. А записывал он себя в герои и играл он не столько на общественных настроениях тех лет, сколько искал эмигрантской славы. Несчастье же того, доэмигрантского, времени состояло в том, что друзья Распутина спекулировали на нем похлеще его врагов. Только на иных настроениях. К концу своего великого пути сибирский странник превратился в совершенный по степени манипуляции объект, открытый со всех сторон. Полигон, который надо было строго охранять.
«Около Распутина была усилена охрана его. Хвостов и Белецкий цинично льстили Распутину и Вырубовой. Они расхваливали Распутина Анне Александровне во всех отношениях. Хвостов доложил Государю, что познакомился с Распутиным и находит его человеком религиозным, умным и крепкой нравственности. Все то нехорошее, что делает Распутин, является результатом нехорошего влияния дурных людей. И от этих-то дурных людей Хвостов и Белецкий теперь и будут оберегать его. Не будет скандалов, не будет пищи для газет. Так докладывал министр внутренних дел Государю, так рассказывала Царице А. А. Вырубова. Наконец-то нашелся министр, который понял Григория Ефимовича и знает, как надо вести его. Так казалось», – писал Спиридович.
Одновременно с этим распутинская квартира на Гороховой, бывшая прежде чем-то вроде общественной организации или благотворительного фонда с помесью бардака, стала приобретать черты государственного учреждения, или, точнее, зловещей пародии на него. Теперь уже не сам Распутин бегал по министрам, сколько к нему приходили как к очень важной персоне.
«…тут были и сановники, и банкиры, и спекулянты, и офицеры, и духовенство, и великосветские дамы, и проститутки, и проч. и проч. Весь этот люд толкался к Распутину, искал с ним близости, главным образом из-за личных выгод, зная его влияние на императрицу и государя. Сановники упрочивали свое положение, спекулянты и банкиры набивали карманы, проводя через Распутина крупные правительственные подряды и сделки, военные домогались высших назначений в армии, дамы хлопотали за своих мужей, лица духовные добивались лучших приходов и епархий <…> своими назначениями исключительно были обязаны Распутину: министр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов, товарищ его Степан Петрович Белецкий…» – писал в мемуарах Глобачев.
«Между князем Андрониковым, А. Н. Хвостовым и мною состоялась выработка плана наших отношений в связи с Распутиным, – показывал на следствии Степан Петрович. – Нами было предложено, что эти сношения с Распутиным, охраняя наше официальное положение и семейную жизнь, должен был взять на себя князь Андроников, который будет передавать нам для исполнения все те ходатайства, которые будут исходить от Распутина, и будет принимать просителей, имеющих дело по Министерству внутренних дел и обращающихся к Распутину, чтобы избежать появления этих лиц с письмами в наших приемных или в квартирах наших. Затем, чтобы избавить Распутина от необходимости брать с просителей, в чем нас кн. Андроников уверил, и чего Распутин впоследствии не отрицал, князь Андроников должен был выдавать ему определенную сумму в 1500 рублей, которые мы (решено, что я) будем давать ему, князю Андроникову, а он будет частями передавать Распутину при свиданиях с целью этим путем заставить Распутина иметь более частые с ним свидания, на предмет влияния на него. Кроме того, было предложено приставить своего человека на квартиру к Распутину, чтобы знать в подробностях внутреннюю жизнь его и понемногу отдалять от него нежелательный элемент».
Получал Распутин деньги и от Глобачева: «…Хвостов пригласил меня и предложил мне исполнить предложение председателя Совета министров Штюрмера о выдаче Григорию Распутину 500 рублей. Помню, что Распутин не хотел дать расписки в получении указанной суммы, и по совету Хвостова я вручил ее ему без расписки при постороннем свидетеле. Деньги тогда выдавались Распутину на поездку на родину в Тобольскую губернию».
«Белецкий придумал держать „Старца“ в руках двумя начатыми против него дознаниями. Дознаниями, которые, при их естественном ходе, могли совершенно скомпрометировать, если не потопить Распутина».
Первым из этих дел было вышеописанное происшествие на борту парохода «Товарпар», вторым – оскорбление, которое Распутин в пьяном виде якобы нанес в адрес Императрицы и одной из Великих Княжон; история весьма темная и недоказанная, хотя на следствии 1917 года председатель комиссии Муравьев очень настойчиво добивался от Хвостова, почему министр, имея такие козыри, как публичное поношение Государыни и ее дочерей, не пошел к Императору. Хвостов отвечал на это, что он не собирался докладывать Государю о том, что произошло до его назначения министром, и готовил свой собственный компромат («Те факты, которые были при мне, я записывал. Они собирались в особую тетрадь, и их я мог докладывать Государю»). Муравьев заподозрил его в элементарном шантаже, а также в намерении показать Вырубовой, как Хвостов бережет Распутина путем замалчивания его неблаговидных поступков.