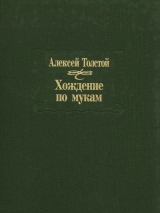
Текст книги "Хождение по мукам"
Автор книги: Алексей Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Слушайте, Лиза, – сказал Телегин, морща губы и нос, – вы врете. Ничего этого не было, я знаю.
Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь.
Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчика – старичка на старой лошадке, занесенной снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Там, у стола, все так же – лицом в руки – сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась:
– Лиза.
Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову, взглянула прямо в глаза.
– Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно?
– Влюбился, – негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными, глазами, – сразу вижу. Вот скука!
– Это совершенная неправда! Мне очень неприятен этот разговор.
– Ну, виновата, – она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль.
Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся:
– Чепуха! Вот ерунда-то!
Для Даши эта встреча была, как одна из многих, – встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, – будь даже это человеческое лицо, – видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродства поражают фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет.
Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и гордым детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец!
Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, – в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице, в 4 часа; но Марусе Хвоевой было не до шуток, Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног».
Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать какой-то лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку.
Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свиданье в анатомический театр, но, как-то само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство.
Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния, модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, – прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств.
Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом, появлялась худенькая и бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк.
Там, в парке на Петербургской стороне, Иван Ильич и разговорился с ней, – и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали.
Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала – кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях, и даже о том, что иногда рассчитывает, – вдруг он полюбит ее, сойдется, увезет в Крым.
Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, – какой он эгоист, сластолюбец, грубый и плохой человек.
Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровлю, вы женитесь на мне?» «Честное слово, женюсь», – ответил Иван Ильич.
Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую, в облако.
К Даше было какое-то особое, незнакомое ему чувство, притом мало понятное, потому что и причин-то к нему было мало – несколько минут разговора, да стул в углу комнаты.
Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать другим, тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор, как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. В общем – нечистоплотность. Надо подтянуться, пока не поздно».
В конце марта, в один из тех передовых, весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь – а уж какой-то мужчина, с острой бородкой, идет в одном пиджачке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову – небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, – в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском[34]34
...вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском... – «Сименс и Гальске» – берлинский торговый дом, специализировавшийся на продаже телеграфных аппаратов и других электротехнических товаров; имел филиалы в России. В Петербурге контора филиала располагалась не на Невском проспекте, а на Васильевском острове (1-я линия Васильевского острова, 34; см.: С.-Петербург: Энциклопедия. М.; СПб., 2006. С. 802).
[Закрыть], расстегнул хорьковую шубу и прищурился от солнца, подумав: «На свете жить все-таки недурно».
И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки[35]35
Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки... — Ср. с записью в дневнике Толстого 1911—1914 гг.: «Не забыть. Дама в синем в трамвае. Сидит очень прямо, вздернутый немного нос, высокая шея, шляпа с цветами» (Материалы и исследования. С. 291).
[Закрыть]; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спицы и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью.
Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно, точно кулак, било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.
Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров»[36]36
«Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров». — Джек Потрошитель животов, Джек Потрошитель – маньяк-убийца, терроризировавший Лондон в течение трех месяцев 1888 г. Своим жертвам, девушкам легкого поведения, вырезал сердца, почки, кромсал скальпелем лица. Под псевдонимом «Джек Потрошитель» живописал собственные преступления в газетах.
[Закрыть], – прочел он раз шесть и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало.
А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась, все так же – с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу и сказал:
– Дарья Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь?
Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески.
– Вот, как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас... Правда, правда, думала. – Даша кивнула головкой, и на шапочке закивали ромашки.
– У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный... И день какой-то такой... – Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку.
Даша спросила:
– Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?
– Конечно... да...
Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени.
– Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Говорите, не раздумывая, а прямо, – как спрошу, так и ответьте.
Лицо ее было озабочено, и брови сдвинуты.
– Раньше мне казалось так, – она провела рукой по воздуху, – есть воры, лгунишки, убийцы и уличные женщины. Но они существуют так же, как змеи, пауки и мыши, – я боюсь мышей, – а люди, все люди – немного смешные, со слабостями и чудачествами, но все – добрые и ясные... Вон, видите – идет барышня – ну, вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня?
– Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна...
– Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту... Я вижу, – человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешит, грешит ужасно при этом. Вы не подумайте, – не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь, – Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул, – человек этот прелюбодей. Женщина – замужняя. Значит, грешить можно? Я спрашиваю, Иван Ильич.
– Нет, нет, нельзя.
– Почему нельзя?
– Этого сейчас сказать не могу Но чувствую, что нельзя.
– А вы думаете – я сама этого не чувствую? С двух часов брожу по городу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне все представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные, черные люди. И я должна быть с ними, вы понимаете?
– Нет, не понимаю, – быстро ответил он.
– Нет, должна. И пойду. Потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ах, какая тоска у меня! Значит, просто-напросто я – девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых.
Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту кем-то брошенную коробку от папирос, с картинкой – зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более, как добрый, славный Иван Ильич.
– Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. – Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.
VI
Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении: пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные.
Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала. Вот только бант – совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала: «Хоть и беспокойная, но не плохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались – она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? – Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят».
В банте оказалась засунутой записка на толстой бумаге, два слова незнакомым, крупным почерком: «Любите любовь»[37]37
...записка на толстой бумаге, два слова... «Любите любовь». – Одним из источников выражения «Любите любовь» могло быть поэтическое творчество К.Д. Бальмонта с его устойчивым мотивом поклонения любви. См., напр., в стихотворении «Восхваление луны» из книги «Будем как солнце» (1902; цикл «Четверогласие стихий»):
2.О, души бледные, внемлите,Я стройный гимн пою Луне,Со мной душой своей сплетите,Непогасающие нити,Мечты влюбленные храните,Любовь любите в сладком сне......................................7.Восславим, сестры, глубину,Любовь к любви, любовь-волну,Восхвалим ласки и – Луну.(Бальмонт К.Д. Полн. собр. стихов. М., 1908. Т.3. С. 15; 19) Е.Д. Толстая, в свою очередь, связывает происхождение строк из романа Толстого со статьей Блока «О реалистах» (1907), а именно с характеристикой рассказа А.П. Каменского «Леда»: «А вот и проповедь – в рассказе “Леда”: надо “любить любовь”, а не только процесс раздевания» (Деготь или мед. С. 378).
[Закрыть]. С обратной стороны напечатано: «Цветоводство Ницца»[38]38
«Цветоводство Ницца» – фирма по разведению и продаже цветов в Санкт-Петербурге.
[Закрыть]. Значит, там, в магазине, кто-то и написал: «Любите любовь». Даша с корзиной в руках вышла в коридор и крикнула:
– Могол, кто мне принес эти цветы?
Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула, точно ее эти вещи ни с какой стороны не касаются:
– Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес. А барыня вам велела поставить.
– От кого, он сказал?
– Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне.
Даша вернулась к себе и стала у окна, заложив руки за спину. Сквозь стекла был виден закат, – слева, из-за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу, во всю ее длину, вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу.
В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала в паутину тончайшего и соблазнительного греха. Он в этом влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», – жеманных и волнующих, и в кротком очаровании этого вечера.
И вдруг ее сердце сильно и часто забилось. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она, внезапно, всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка растаяла дымкой, такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах.
Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела какая-то музыка: «Я живу, люблю. Жизнь, весь свет – мой, мой, мой».
«Послушайте, моя милая, – вслух проговорила Даша, открывая глаза, – вы девственница, друг мой, у вас просто дурной характер».
Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели, после Катиного греха.
В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту «трагедию» двух ослепших людей. Заговорить первая с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала, по просьбе Николая Ивановича, литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левой фракции социал-демократической партии, так называемых большевиков, прозябавших в Париже, собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам, – словом, у нее не было ни минуты свободной.
«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали, и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», – подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики.
Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:
– Давно вернулась?
Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:
– Почему ты красная?
Николай Иванович, шибко потерев руки, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.
Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, – множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Роза Абрамовна одевается «ни у какой ни у мадам Дюклэ», а дома, и притом прескверно, что Ведренский опять проворонил процесс и сидит без денег, встретила его жену, плачется, – очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот, – весна-то, весна! А день какой сегодня?! Все бродят, как пьяные мухи, по улицам. Да, еще новость, – встретили Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях – повсюду брожение. Ах, поскорее бы! Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к Пивато[39]39
...повел меня к Пивато... — Петербургский ресторан «Братья Пивато» располагался по адресу: Морская, 36 (см.: «Весь Петербург» на 1914 год: Адресная и справочная книга Санкт-Петербурга. [СПб., 1914]. С. 1422).
[Закрыть], и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую революцию.
Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах.
– Катя, – сказала она внезапно, – понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна. – Екатерина Дмитриевна с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. – Главное, я не нужна самой себе, такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей.
– Не понимаю тебя, – сказала Екатерина Дмитриевна.
Даша поглядела на ее спину и вздохнула:
– Все не хороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя.
– За что? – не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.
– Нет, ты пойми. Хожу с задранным носом, – вот и все достоинства. Просто – это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, – понимаешь, мне очень нравится один человек.
Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить.
– Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе. – Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула.
– Видишь ли, Катя, это все не так просто. По-моему, я не люблю его.
– Если нравится – полюбишь.
– В том-то и дело, что он мне не нравится.
Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши.
– Ты же только что сказала, что нравится... Вот, действительно.
– Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке, вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой... Злилась, пряталась, по ночам ревела, и все сошло с меня, как водица. А этот... Я даже не знаю – он ли это... Нет, он, он, он... Смутил меня... И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась... Войди он сейчас ко мне в комнату – не пошевелюсь...
– Господи. Даша, что ты говоришь?
– Катя, ведь это называется грех?.. Вот я так понимаю.
Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды.
– Даша, как его зовут?
– Алексей Алексеевич Бессонов.
Тогда Катя пересела на стул, рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даша не видела ее лица, – оно все было в тени, – но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное.
«Ну, и тем лучше», – отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто:
– Почему, скажи пожалуйста, другие все могут, а я не могу? Два года слышу про шестьсот шестьдесят шесть соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз и целовалась с гимназистом на катке, в теплушке.
Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени.
– Бессонов очень дурной человек, – проговорила она, – он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?
– Да.
– Он всю тебя сломает.
– Ну, что же теперь поделаешь!
– Я не хочу этого! Пусть лучше другие... Пусть лучше я погибну! Но не ты, не ты, милочка!
– Нет, вороненок не хорош, он черен телом и душой, – нарочно засмеявшись, сказала Даша, – чем же Бессонов плох, скажи?
– Не могу сказать... Не знаю... Но я содрогаюсь, когда думаю о нем.
– А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко?
– Никогда... Ненавижу!.. Храни тебя Господь от него!
– Вот видишь, Катюша... Теперь уж я наверно попаду к нему в сети.
– О чем ты говоришь?.. Мы с ума сошли обе!
Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже и не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится грешными мыслями и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать: «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша». Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже:
– Прости, прости меня!.. Даша, прости меня!
Даша перепугалась. Нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать – о чем она говорит, за что ее простить? Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки.
За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестер, сказал:
– Так-с. А нельзя ли и мне быть посвященным в причину сих слез?
– Причина слез – мое гнусное настроение, – сейчас же ответила Даша, – успокойся, пожалуйста, я и без тебя понимаю, что вся, вместе с этой вилкой, не стою мизинчика твоей супруги.
В конце обеда, к кофе, пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличек стал звонить в гаражи. Катю и Дашу послали переодеваться. Пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился:
– В конце концов от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература-с. – Но и его взяли в автомобиль вместе с другими.
В «Северной Пальмире» было полно народом[40]40
В «Северной Пальмире» было полно народом... – Для названия ресторана Толстой использовал поэтическое имя Санкт-Петербурга, возникшее во второй половине XVIII в. от названия античного города Пальмира (находился на северо-востоке современной Сирии), который славился богатством и широкомасштабным строительством, особенно в годы правления образованной и просвещенной сирийской царицы Зенобии Септимии, что рождало прямые аналогии с веком императрицы Екатерины II. Исследователь петербургской темы Н.П. Анциферов, отмечая звуковое сходство слов «Пальмира» и «полмира», наделял данную аналогию дополнительными смыслами: «...само существование столицы на покоренной земле говорит о торжестве ее народа в борьбе за свое историческое бытие и о предназначенности ее увенчать великую империю и стать “Северной Пальмирой” (...) Для русского слуха в этом эпитете звучит особая мощь из-за звукового сходства с “полмира”!» (Анциферов Н.П. «Непостижимый город...»: Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. Л., 1991. С. 34). Сходными мотивами отмечен и толстовский текст. Описание ресторанного зала завершает фраза: «...все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и, казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир».
[Закрыть] и шумно; огромная, низкая зала под землею ярко залита белым светом шести хрустальных люстр.
Люстры, табачный дым, поднимающийся к ним из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики, – зеленые, лиловые и седые, – пучки снежных эспри[41]41
...пучки снежных эспри... — Эспри (фр. esprit) – украшение в виде пера или пучка перьев, которое прикалывалось к женской прическе или женскому головному убору.
[Закрыть], драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в тесноте лакеи, испитой человек, с мокрой прядью волос на лбу, с поднятыми руками, и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового бархата, блестящая медь труб – все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь, в бесконечных перспективах, сидит все человечество, весь мир.
Даша, потягивая через соломинку шампанское, наблюдала за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что, в конце концов, электричество потухнет, а все люди умрут, – стоит ли вообще радоваться чему-нибудь?
Вот заколыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький, как ребенок, японец, с трагическими морщинами, и замелькали вокруг него в воздухе пестрые шары, тарелки, факелы. Глядя на них, Даша подумала: «Почему Катя сказала – прости, прости?»
И вдруг точно обручем стиснуло голову, остановилось сердце. «Неужели?» Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что – «неужели», и поглядела на сестру.
Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась.
Часов около двух начался спор – куда ехать? Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что, как все, так и он, а «все» решили ехать «дальше».
И тогда Даша сквозь поредевшую толпу увидела Бессонова. Он сидел, положив локоть далеко на стол и внимательно слушал Акундина, который с полуизжеванной папиросой во рту говорил ему что-то, резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточено и бледно. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: «Конец, конец всему». Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством, взволнованная и растерянная.
Когда вышли на улицу – неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем. В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за Дашиной спиной проговорил со смешком: «Чертовски шикарная ночь!» К тротуару подкатил автомобиль, сзади, из бензиновой гари, вынырнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула, – человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом, и весь трясся, прижимая локти.
– С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий! – бодро крикнул он хриплым голосом и, живо подхватив брошенный кем-то двугривенный, салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней точно царапнули его черные свирепые глазки.
Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось, – такая была усталость.
Вдруг, со стоном сдергивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце... «Боже мой, что за ужас был только что?!» Было так страшно, что она едва не заплакала; когда же собралась с духом – оказалось, что забыла все. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна.
После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда, действительно, вела суровую, трудовую жизнь – зубрила постылый курс римского права. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки (утром решено было носить только нитяные), пудрить руки и плечи, перечесываться. «Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: делай модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются». Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского.
Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. В дверь сунулся было Николай Иванович, но, увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: «Ну, это сейчас отойдет!» – и кликнула Великого Могола, которая появилась с бензином и горячей водой.
Платье отчистили, Дашу одели. Николай Иванович чертыхался из прихожей: «Ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать». И, конечно, в театр опоздали.
Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина, с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: «Софья Ивановна, я люблю вас, люблю вас», – и держал ее за руку. И, хотя пьеса была не жалобная, Даше все время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснялось, и любит и не любит, на объятие ответила русалочным хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которого мелькали на втором плане, между стволов. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись – дело его жизни, и первое действие окончилось.
В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливо-приподнятый, разговор.
Маленький Шейнберг, с голым черепом и бритым, измятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает:
– Опять проблема пола, но проблема, поставленная остро. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом.
На это ответил угрюмый, большой Буров, следователь по особо важным делам – либерал, у которого на Рождестве сбежала жена с содержателем скаковой конюшни:
– Как для кого – для меня вопрос решенный. Женщина лжет самым фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос – просто мерзость, а искусство – один из видов уголовного преступления.
Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно:
– Птице пришло время нести яйца, – самец одевается в пестрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок – тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землей. А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык, – ложь сугубая и отвратительная, так называемая любовь и все, что вокруг нее накручено. Вещи загадочные для барышень в нежном возрасте, только, – он покосился на Дашу, – в наше время – полнейшего отупения – этой чепухой занимаются серьезные люди. Да-с, Российское государство страдает засорением желудка.
Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфект, покопал в ней пальцем, выбрал шоколадную с ромом, вздохнул, положил в рот и поднял к глазам большой бинокль, висевший у него на ремешке через шею.
Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек, шевеля бровями, взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал.
– Кошмар, кошмар! – быстро проговорил Шейнберг.
Николай Иванович ударил себя по коленке:
– Революция, господа, революция нужна нам немедленно! Иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, – он понизил голос, – на заводах очень не спокойно.
Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух:
– Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать!
– Доживем, Яков Александрович, доживем, – проговорил Николай Иванович весело, – и вам портфельчик вручим министра юстиции-с, ваше превосходительство.
Даше надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфельчиках. Облокотясь о бархат ложи и другою рукою обняв Катю за талию, она глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти уловленные в толпе взгляды – нежные мужские и злые женские – и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос.








