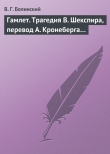Текст книги "О душах живых и мертвых"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Прошу! Покорно прошу! – говорил Краевский, идя навстречу гостю, и вдруг остановился: рука поэта была обвязана носовым платком, сквозь который просачивалась кровь. – Что с тобой, Михаил Юрьевич, приключилось?
– Ничего особенного, – отвечал Лермонтов, раскланиваясь с Панаевым, – если не считать дуэли, которую я только что имел.
– Шутить, батенька, изволишь, – у Краевского дрогнул голос, – а нам, ей-богу, не до шуток. – Андрей Александрович переводил глаза с перевязанной руки на лицо поэта.
– Зову в свидетели бога и Ивана Ивановича, – продолжал Лермонтов, едва пряча улыбку, – я нисколько не шучу, хотя новость моя ничуть не примечательна.
– Если это не мистификация… – Краевский побледнел и глядел на Лермонтова не отрываясь, – если это не мистификация, сударь, то говори по крайней мере, с кем тебя угораздило драться?
– Господин де Барант, сын французского посла, удостоил меня чести скрестить с ним шпаги. Увы! Шпага моя сломалась при первом выпаде, и тогда мы были вынуждены перейти на пистолеты.
Едва услышав эти подробности, Краевский быстро пошел к дверям.
– Никого не принимать! – крикнул он в переднюю, потом наглухо закрыл двери и сел в первое попавшееся кресло.
Панаев, наоборот, встал. Оба они являли столь комическое зрелище, что Лермонтов неудержимо расхохотался.
– Признаюсь, никак не рассчитывал на подобный эффект!
– И это надежда и слава российской поэзии! – вскричал Краевский. – Наследник Пушкина! А дерется, как желторотый прапорщик! – И он закрыл лицо руками.
– Если это не тайна, Михаил Юрьевич, – Панаев подошел к поэту, – если вы сочли нас достойными доверия в таком деликатном деле, то, может быть, вы откроете причину столь печального происшествия?
– Извольте! – Лермонтов был все в том же веселом, даже задорном настроении. – Но если я скажу вам, что ни одна из женщин не была истинной причиной столкновения, то удовлетворит ли вас такой ответ?
– Да скажешь ли ты наконец правду?! – взмолился редактор «Отечественных записок». – Я больше не выдержу!
– А между тем, – продолжал поэт, – я должен обратиться именно к тебе, Андрей Александрович, и с неожиданной просьбой. Шпага противника царапнула мне руку и грудь. Раны несерьезны, но кровоточат. Мне не хотелось ехать к бабушке, чтобы ее не встревожить. Короче говоря, мне нужна чистая рубаха, и я решил, что редактор «Отечественных записок» по своему великодушию не откажет в этой просьбе, не совсем, правда, обычной.
Хозяин дома, пребывая в полной растерянности, увел Лермонтова в спальню и снова наглухо закрыл за собой дверь. Панаев прислушивался, но, как ни напрягал слух, ничего не мог разобрать. По счастью, дверь спальни вскоре открылась.
– Так вот, господа, – продолжал Лермонтов, но уже и тени улыбки не было на его лице, а речь звучала искренне и задушевно, – мне пришлось защищать на этой дуэли честь русского имени, хотя, признаюсь, не назвал бы этот способ защиты наилучшим. Но что делать, выбор от меня не зависел. А французик…
– Надеюсь, он не убит и не ранен? – перебил Краевский и почти застонал: – Боже мой, что будет теперь в дипломатическом мире!
– Господин де Барант покинул поле битвы совершенно невредимым.
– Слава тебе, господи! – Краевский неожиданно для себя перекрестился. – Не хватало еще, чтобы отношения России с Францией, и без того натянутые, получили новый повод для осложнений!
– Но именно дерзкое презрение к русским со стороны вертопраха, явившегося к нам с парижских бульваров, и вынудило меня дать урок этому просвещенному неучу, не умеющему уважать достоинства ни французов, ни русских.
– Михаил Юрьевич, да расскажи по порядку, иначе невозможно понять!
Краевский давно потерял привычную выдержку, даже шелковая его шапочка была сбита набок, а он ничего не замечал.
Лермонтов оглядел собеседников и, по-видимому насладившись впечатлением, снова заговорил шутливым тоном.
– Если вас интересуют подробности, – сказал он, – то встреча состоялась на Парголовской дороге, за Черной речкой, сего февраля восемнадцатого дня тысяча восемьсот сорокового года…
– Он меня с ума сведет! – не выдержал Краевский и с необыкновенной для него поспешностью бросился к графину, налил полный стакан воды и выпил залпом.
– Но как же я буду рассказывать, Андрей Александрович, если ты постоянно меня перебиваешь?
Андрей Александрович молча бухнулся в кресло, совершенно не заботясь о редакторском достоинстве.
– Да и что рассказывать! – Лермонтов опять выдержал паузу. – Когда моя шпага сломалась и мы перешли на пистолеты, противник мой, будучи в волнении, плохо прицелился и промахнулся.
– А!.. – только и мог произнести хозяин дома.
– Да, представьте, промахнулся, – повторил поэт, – а я, выждав его выстрела…
– Тоже промахнулись? – догадался Панаев.
– Не совсем так: я выстрелил в сторону. После выстрела противника я мог показать ему полное равнодушие к его участи, и, право, это много приятнее, чем целить в человека, что бы ни говорили рыцари дуэли… Вот, собственно, и все, господа.
Лермонтов направился к письменному столу Краевского, на котором, роясь в рукописях, любил устраивать полный беспорядок. Краевский, опомнившись, быстро обогнал его и встал в оборонительную позу.
– Не буду, не буду! – рассмеялся Лермонтов. Он взял со стола только что вышедшую февральскую книжку журнала. – Какие новые таланты явились в «Отечественных записках»?
– Вот она, твоя «Тамань», – Краевский взял журнал из рук поэта и раскрыл отдел прозы, – вот твоя благоуханная повесть, которой суждено открыть новую эру в изящной словесности. Вот она! – с торжеством заключил он.
Лермонтов мельком взглянул на свою «Тамань».
– Советую беспощадно вычеркивать все «эры» и «благоухания» из критических статей о моей повести, если такие статьи объявятся, – сказал он.
– Ну, будем тогда называть твою повесть русской «Ундиной», в пику достопочтенному Василию Андреевичу Жуковскому, в которого ты на сей раз метил…
– А пора бы и Василию Андреевичу оставить заемные сказки.
– Однако, – назидательно сказал Краевский, – ходят слухи, что сейчас Жуковский в большой силе при дворе.
– Печальная участь для таланта…
– Ох, язык твой – враг твой, Михаил Юрьевич! – Краевский предпочел перевести разговор. – А твой роман? – спросил он. – Разрешила ли наконец его цензура?
– Увы! Цензор все еще размышляет. А кому, как не тебе, Андрей Александрович, знать всю глубину и медлительность этих размышлений! Не завидую, однако, Печорину, он попал в дурное общество и, надо думать, торопится от него избавиться. К сожалению, решение принадлежит не ему, а цензору. Впрочем, жду решения со дня на день.
– А теперь эта проклятая дуэль! – Краевский снова вернулся к только что сообщенному ему известию. – Неужто не понимаешь, Михаил Юрьевич, что теперь ты сам себя поставил под удар? Не ты ли трижды виноват перед словесностью?
Лермонтов, не отвечая Краевскому, обратился к Панаеву:
– Иван Иванович, попотчуйте нас каким-нибудь, только не литературным, известием. Хотя бы в благодарность за историю, которую я вам рассказал.
Но и Панаев чувствовал себя не в своей тарелке. Новость была чревата последствиями, которых нельзя было предвидеть. Оба собеседника наперебой засыпали поэта вопросами о дуэли.
– Довольно, господа! – Лермонтов решительно отмахнулся. – Право, не стоит ни времени, ни труда… Надеюсь, рассказ мой останется тайной?
– Еще бы! – откликнулся Краевский. – Если только в Петербурге может остаться тайной подобная история.
– Нет никаких оснований опасаться огласки, – сказал поэт, – все меры осторожности взяты. – Он еще раз бегло просмотрел книжку «Отечественных записок». – А, вот наконец та статья о Марлинском, которой ты наперед хвастал, Андрей Александрович!
– И вновь рекомендую ее твоему вниманию.
– Михаил Юрьевич! – перебил Панаев. – Своей «Бэлой» вы начали поход против кавказских повестей Марлинского-Бестужева. Теперь, под ударом статьи Белинского, окончательно рухнет его литературная, подточенная временем слава.
– И это будет свидетельством зрелости вкусов нашей публики, если исполнятся ваши слова, Иван Иванович! Забудут повести Марлинского, но история сохранит драгоценное имя Александра Бестужева, доколе будет жить память о людях четырнадцатого декабря. Отдадут дань также критической его деятельности в «Полярной звезде»… А! Именно об этом и говорится в статье.
Поэт бегло перелистал страницы, потом обратился к собеседникам:
– Деятельность Марлинского-Бестужева являет удивительный пример двойственности: борец за идеи, так дорого поплатившийся, он вовсе не отразил этих идей в своих повестях… – Лермонтов отложил журнал и поднял глаза на Краевского. – К слову, о Белинском: будет ли он и далее утверждать, что не дело поэта вмешиваться в правительственные дела? Кажется, именно так сказано было в его статье о Менцеле?
– А мы, – вмешался Панаев, – как раз перед вашим приходом беседовали о философских доктринах Виссариона Григорьевича.
– И что же? – с интересом спросил Лермонтов.
– Черт бы побрал всю философию и всех философов! – перебил в отчаянии Краевский. – Дуэль, твоя проклятая дуэль, Михаил Юрьевич, не идет у меня из ума.
– Полно, Андрей Александрович! Будем верить, что философия и философы просуществуют дольше, чем дуэли. – Лермонтов стал задумчив. – Я не раз был удостоен лестных отзывов господина Белинского, но я отнюдь не считаю, что философия должна мирить нас с нашей действительностью.
– Именно то же самое говорил и я, – с удовлетворением подтвердил Панаев.
– Рад совпадению наших мыслей, – Лермонтов вежливо поклонился Панаеву, и этот поклон скрыл от собеседников иронический огонек, вспыхнувший в его глазах. – Прощу вас, господа, передать чувства моего уважения господину Белинскому и глубокое сожаление, что по обстоятельствам службы не имел удовольствия видеться с ним в последнее время. Многое хотелось бы возразить ему. Думаю, что именно в мире философии всегда будут оправданны и законны самые отчаянные поединки.
Поэт откланялся и, уже уходя, обратился к Краевскому:
– Спасибо за услугу. По счастью, есть на Руси хоть один редактор, у которого можно позаимствоваться чистым бельем. Факт отрадный для изящной словесности!
Лермонтов уехал.
– Мальчишка! Гусар! Дуэлянт! – кричал, выйдя из себя, Андрей Александрович. Он бегал по кабинету, к величайшему удивлению Панаева, который никогда не видел свояка в таком откровенном излиянии чувств. – Наследник Пушкина! – продолжал неистовствовать Краевский. – А он видит в этом наследстве одни только проклятые дуэли. Ну что вы молчите? – вдруг встал он перед Панаевым.
Панаев действительно молчал.
– Кричать надо! – продолжал Краевский и в самом деле опять перешел почти на крик: – Как он смеет рисковать своей жизнью, этот лейб-гвардии драчун! Его надо охранять от него самого… Ну что же вы молчите?
– А и то, – опомнился Панаев, – ведь прежде всего теперь надо молчать. И вам тоже, Андрей Александрович!
– Молчу, ну, молчу! – согласился Краевский, почувствовав вдруг чрезвычайное утомление. – Вы-то смотрите, Иван Иванович, не разболтайте… Знаю я вас! – Краевский еще раз оглянулся на запертые двери. – Нам вручена тайна, от которой зависят судьбы словесности. Боже мой, – снова застонал он, – лучше бы ничего не знать! Черт его сюда принес!.. А в цензуре лежит его роман, который… Одним словом, необыкновенный роман! И по рукам ходит «Демон», эта божественная поэма, которой можно упиться до сумасшествия.
– Удалось ли вам получить хотя бы отрывки из «Демона» для «Отечественных записок»?
– Черта с два! – отвечал свояку Краевский. – Говорит, отдал рукопись каким-то дамам, а те, по обычаю, задевали невесть куда, и уж, конечно, копии у него нет… Или врет? – вдруг усомнился Андрей Александрович. – Узнали бы вы стороной, Иван Иванович, где, у кого кочует «Демон».
Глава третьяМасленица была на исходе. В большом петербургском свете происходили ежедневные балы и маскарады. Молодым людям, принадлежавшим к избранному обществу, приходилось переезжать из дома в дом, с бала на бал и возвращаться под утро.
Граф Ксаверий Владиславович Браницкий не давал ни балов, ни маскарадов. Этот блистательный лейб-гусар вел холостую, но широкую жизнь. Именно у него и собиралась в пятницу на масленой светская молодежь. Собирались, впрочем, поздно. Одни приехали из театра, другие – покинув маскарад, третьи – после катания с дамами на тройках. Никто не боялся опоздать.
Ужин, накрытый в кабинете Ксаверия Владиславовича, так и не убирался. Ярким огням свечей суждено было погаснуть только тогда, когда запоздалое петербургское солнце возвестит о своем явлении бледными отсветами лучей на плотных шторах.
Но еще далек был этот час. Съезд у Браницкого едва начался. Вымуштрованные лакеи успели сменить только первые бутылки букетного вина. Новые гости прибывали.
Странные, правду сказать, были эти ночные сходки. В столице императора Николая Павловича, под носом у графа Бенкендорфа, молодые люди лучших фамилий обсуждали события дня с такой свободой, как будто не было на свете ни императора, ни графа Бенкендорфа.
Хозяин дома, например, справедливо ненавидел русского царя за кровавую расправу с родной Польшей. Впрочем, этот владетель миллионного состояния и многих тысяч польских крестьян никогда не думал о том, что крестьяне, подвластные своим панам, терпят не только от императора России. И сама Польша представлялась Ксаверию Владиславовичу не иначе, как такой, какой видел он ее из высоких окон своих пышных родовых замков.
Браницкий беседовал у стола с молодым дипломатом, князем Иваном Сергеевичем Гагариным. Князь был редкий гость в отечестве и свой человек в парижских салонах.
Браницкий плохо слушал. Всем было известно, что князь Гагарин, вернувшись из Парижа и снова отправляясь туда же, особенно охотно говорил о великом предназначении России и… О святости католической церкви. Какая тут была связь, не понимал, пожалуй, и сам Иван Сергеевич. Еще меньше понимали собеседники: по-русски князь говорил совсем дурно, а по-французски так быстро, что было опять же трудно уследить за развитием его мысли. Сегодня, впрочем, князь оседлал другого любимого конька. Торопясь и захлебываясь, Иван Сергеевич говорил о том, что русских мужиков нужно прежде всего освободить.
– Освободить… – машинально повторял Браницкий, следя за лакеем, который ловко менял приборы.
– Certainement![1]1
Конечно, безусловно (франц.).
[Закрыть] – подтвердил Гагарин. – Освободить! Не правда ли, как все это просто, господа? – воззвал он к окружающим.
Иван Сергеевич не собирался присутствовать при осуществлении своей идеи. Дипломатическая служба постоянно влекла его за границу. К тому же освободительный проект существовал в княжеской голове совершенно независимо от участи трех тысяч собственных, гагаринских крестьян. В этом вопросе никакой ясности у князя не было. И молодые офицеры гвардии, собравшиеся у Браницкого, почти не слушали Ивана Сергеевича: он давно всем надоел, как осенняя муха.
В кабинет вошел статный, красивый молодой человек, одетый в щегольской фрак. Его приход вызвал общее движение.
– Столыпину ура! – провозгласил офицер-конногвардеец.
Все обратились к вошедшему с бокалами в руках. Это было похоже на демонстрацию. И не зря. Совсем недавно Алексей Аркадьевич Столыпин сменил гусарский ментик на фрак. Вынужденная отставка произошла из-за столкновения с самим императором по очень щекотливому делу. Столыпин ловко способствовал выезду за границу светской дамы, уклонившейся от любовных притязаний монарха. За это и чествовали храбреца.
– Лермонтов еще не был? – спросил Столыпин у Браницкого, обмениваясь рукопожатиями с друзьями.
– А зачем он тебе?
– Есть к нему дело, – уклончиво отвечал Алексей Аркадьевич. Не мог же он объявить, что только на днях был секундантом Лермонтова на дуэли с Барантом.
Между тем застольная беседа перешла на важные темы. Собравшиеся дружно поносили деспотизм, утвердившийся в России. Об этом много могли рассказать и граф Андрей Шувалов и отставной гусар Николай Жерве. Оба они уже были сосланы на Кавказ за гвардейские шалости. Жерве не вынес азиатского деспотизма и вышел в отставку. Граф Андрей Шувалов был возвращен на испытание в лейб-гвардии гусарский полк. Здесь составилось то «осиное гнездо», которое давно грозился разорить великий князь Михаил Павлович. Впрочем, это было еще не самое страшное. Страшны были беспощадный гнев и месть императора. Сейчас всех занимала участь офицера гвардии князя Сергея Трубецкого. Он уже отбыл однажды кавказскую ссылку вместе с Жерве и Шуваловым, а недавно, без всяких видимых причин, был вторично сослан на Кавказ по именному высочайшему повелению.
– За что? – горячился Жерве. – Или только за то, что не вовремя попался на глаза Чингисхану?
– За здоровье Трубецкого! – поднял бокал хозяин дома.
Все дружно чокнулись.
– Позволь дополнить твой тост, Браницкий, – сказал, выходя из задумчивости, совсем юный гусар, князь Александр Долгорукий, – Поднимем бокалы за то, чтобы закон и справедливость, а не проклятый деспотизм, управляли судьбой всех нас.
– Браво, юнец! – поддержал Долгорукого новый гость, офицер флотского гвардейского экипажа. Он приветливо улыбнулся Долгорукому. – Неужто в Пажеском корпусе его величества учат таким лихим тирадам?
Долгорукий вспыхнул: он только что окончил корпус и всякое напоминание об этом готов был принять за личное оскорбление.
– Фредерикс, – отвечал он, – неужто ты утратил способность разделять человеческие чувства?
– А! Вот и ответная стрела, напоенная ядом! – рассмеялся Фредерикс. – Сражен, юнец, право, сражен!
– К делу, к делу! – прервал Браницкий, который до сих пор разговаривал со Столыпиным. – Коли ты, Фредерикс, наконец явился, так и перейдем к придворной хронике. Слово за тобой!
Все обратили взоры к Фредериксу. Даже отчаянные игроки покинули биллиардную и присоединились к обществу. Связи Фредерикса с Зимним дворцом были очень близки и интимны – его мать слыла любимой подругой императрицы.
– Что же новенького вам рассказать? – Фредерикс, видимо, был польщен общим вниманием. – Представьте, молодой Барятинский все больше входит в фавор.
– Ну и новость! – недовольно протянул Столыпин. – История тянется едва ли не второй год.
– Совершенно верно, – подтвердил Фредерикс, – но сейчас дело зашло так далеко, что в интимном кружке их величеств тайно обсуждался вопрос о возможности бракосочетания великой княжны Ольги Николаевны с князем Барятинским. Итак, на дворцовом горизонте восходит новое светило, господа. Да ты ведь хорошо его знаешь, Лермонтов! – продолжал рассказчик, обращаясь к поэту, который только что приехал и, остановясь в дверях, внимательно слушал.
– Имел честь быть вместе с Барятинским в юнкерской школе и, каюсь, почтил князя весьма неназидательной поэмой. Разумеется, я писал бы иначе, если бы больше знал о его амурных талантах… Но прости, Фредерикс, я, кажется, перебил тебя?
– Да я сказал, пожалуй, все.
– Барятинский пойдет протоптанной дорогой, – продолжал Лермонтов. – При русском дворе такую карьеру делали и певчие, и истопники, и просто умалишенные. Почему бы и сиятельному кирасиру не занять соблазнительную вакансию?
– Если с этой стороны вникать в историю царствующего дома, – вмешался Столыпин, – мы никогда не кончим, господа.
– Позор! – вскипел Александр Долгорукий.
– Романтик! – улыбнулся ему Лермонтов. – К Барятинскому есть другой счет, господа. Помните ли вы, что он публично выражал сочувствие убийце Пушкина и добился высокой чести посетить арестованного Дантеса?
– Стало быть, Лермонтов, он хорошо помнит и твои тогдашние стихи?
– Признаюсь, я метил в подлецов покрупнее. Однако с тех пор мы с Барятинским разошлись. Но на последнем новогоднем маскараде я собирался принести ему поздравление с амурной карьерой при дворе… Надо было видеть величественную рожу Барятинского: поздравление было бы вполне своевременно.
– И ты поздравил? – раздались голоса.
– К сожалению, не успел. Помешала неожиданная история.
– Рассказывай!
– Но входит ли подобный рассказ в программу наших сходок? – серьезно обратился поэт к Браницкому.
– К делу, к делу! – отвечал хозяин дома.
– Продолжаю, господа. Их высочества Ольга и Мария Николаевны были на маскараде в розовом и голубом домино, и, разумеется, все делали вид, что не могут раскрыть эти прелестные инкогнито. Таинственные домино непринужденно резвились, конечно под тайным попечением голубых мундиров, и, резвясь, стали интриговать меня, хотя я не искал подобной чести.
– Сюжет, достойный Боккаччо, – перебил Шувалов.
– Не совсем так. Я двинул сюжет по собственному разумению. Мне оставалось поверить в инкогнито, как делали все. А поверив, я воспользовался свободой маскарадных обычаев и отвечал на интригу так, как отвечают навязчивым камелиям.
Дружный хохот покрыл слова поэта.
– Ну, а развязка? – едва мог проговорить Жерве.
– Прелестные домино взвизгнули от перепуга и исчезли. Как видите, мой подвиг не велик.
– Ну, держись теперь, Лермонтов! Такой выходки никогда тебе не простят, – заявил Фредерикс.
– Тем более не простят, что эта история вдохновила меня на стихи, а стихи я напечатал в «Отечественных записках» с точным обозначением: «1 января». Нет только посвящения их высочествам.
– А знаешь ли ты, что на тебя готовится литературный пасквиль?
– Ты говоришь о повести, которую сочинил граф Соллогуб?
– Именно! – подтвердил Фредерикс. – Барятинский, присутствовавший на чтении повести в августейшей семье, очень ее одобрил. Теперь я понимаю, откуда ветер дует.
– Как видишь, – отвечал поэт, – у меня с Барятинским давние счеты. Никогда не прощу подлецу его искательства к Дантесу… Ну, рассказывай дальше, Фредерикс!
– Карьера Барятинского только начинается, пожалуй, – продолжал Фредерикс. – Говорят, он обложился книгами, изучает дипломатию и историю отношений России с Востоком. Роман бравого кирасира с пылкой княжной может открыть новую страницу во внешней политике России. А зная неуемное честолюбие Барятинского…
– Хуже, чем при Нессельроде, не будет, – подал голос Жерве.
– Почему?
– Хотя бы потому, что хуже не может быть, – пробасил Шувалов. – Где престиж России, если внешнюю политику се направляет беглый австриец, алчный взяточник и круглый дурак!
– Но ты забываешь о графине Нессельроде, – перебил Столыпин. – Коли так аттестуешь нашего министра, что же сказать об управляющей им злобной колдовке?
– Господа, господа! – взывал Браницкий, видя, что порядок нарушен. – Прошу вернуться к вопросу о внешней политике России. Гагарин, что слышно во французском посольстве?
– Между нами, – заговорил князь Гагарин, подыскивая слова, – между нами, как говорят на Руси, барон де Барант ощущает растерянность… Да, именно так: растерянность, которую не может скрыть.
При этих словах Столыпин переглянулся с Лермонтовым. Поэт сидел около стола, не прикасаясь к бокалу, и прислушивался к словам Гагарина.
– Да, да, – продолжал Гагарин, – положение остается чрезвычайно напряженным. С тех пор как Франция поддержала восстание египетского паши против турецкого султана, наш император рассматривает это как вмешательство Франции в восточные дела и отозвал посла из Парижа.
– Гагарин, мы не школьники, всем это давно известно!
– Но поймите, посол граф Пален находится в Петербурге уже три месяца и до сих пор не получил указания вернуться в Париж. Французское правительство рассматривает это как враждебную демонстрацию, и барон де Барант опасается, что его тоже могут со дня на день отозвать в Париж.
– Туда ему и дорога, – сказал Столыпин.
– А что будет дальше? – Гагарин беспокойно развел руками. – Если так будет продолжаться, в воздухе может запахнуть порохом.
– И вот, господа, теперь понятно, – включился в разговор Фредерикс, – почему такая тревожная атмосфера царит в Зимнем дворце и почему французский посол испытывает смятение и не может его скрыть.
– Послушай, Гагарин, – вмешался Столыпин, – а молодого Баранта ты видел?
– Ну конечно, – не без удивления отозвался Гагарин. – Каждый день его вижу. Эрнест, как всегда, обаятелен и мил… Но почему ты о нем спросил? Эрнест не делает никакой политики.
– Ошибаешься, Гагарин, он тоже делает политику, – перебил Столыпин, – у петербургских кокоток.
Снова раздался общий хохот.
Граф Браницкий неодобрительно покосился на Столыпина. Хозяин дома старался направить беседу на серьезные темы. Он оглянулся, ища глазами Лермонтова.
– Михаил Юрьевич! – окликнул его Браницкий. – Что слышно о твоем Печорине?
– Ему ныне везет, – отвечал поэт. – Но, по-видимому, у нас на Руси должно сначала умереть даже литературному герою, чтобы не заподозрило его в чем-либо бдительное начальство. Словом, роман мой только что победно прошел через цензуру.
– Виват! – воскликнул Браницкий.
Молодые люди дружно его поддержали.
– Я читал твои повести в «Отечественных записках», – сказал поэту Жерве, – и помню читанное тобою из «Княжны Мери». Кто из нас, побывавших на Кавказе, не оценит верности набросанных тобою картин! Боюсь сделать вывод, однако предвижу: критика непременно обвинит твоего Печорина в безнравственности.
– Тартюфы всех времен более всего пекутся о нравственности, – отвечал Лермонтов. – А наши журнальные тартюфы, не имея большой ловкости, отличаются отменным усердием. Не тем ли был встречен и Онегин?
– А Печорина непременно назовут младшим братом Онегина, – включился в разговор Фредерикс. – Не уйти ему от этого опасного родства.
– Я сам имел дерзость поставить моего героя в прямое родство с Онегиным.
– Да объясни, сделай милость, – перебил Шувалов, – кто он такой, твой Печорин, если уж зашла о нем речь?
– Плохо для автора, если замысел его не будет понят без объяснений. – Поэт на секунду задумался. – Герой мой, ничего полезного не совершивший и умерший бесплодно, должен был умереть, хотя бы для того, чтобы у вас, господа, родился вопрос: для чего же мы живем?
– Ты хочешь сказать: в России не дают человеку святого права честно и с пользой для человечества жить? Так выходит? – спросил Жерве.
– Если хочешь, – может быть, и так, – согласился Лермонтов. – Но мой Печорин хоть в дневнике своем писал: я, как матрос, выброшенный на берег, жду, не мелькнет ли в туманной дали желанный парус. А нам с вами и того не суждено. Чтобы плавать в луже нашего благополучия, нет нужды мечтать ни о парусе, ни о бриге… – Лермонтов вдруг оборвал речь: – Но довольно о Печорине! Что нового в театрах, господа? Я не был там целую вечность.
– Нет, нет, постой! – вскочил с места Жерве. – Если твой Печорин получил подорожную и теперь явится перед читателями, то давайте и посвятим ему остаток ночи. Мне кажется, твой Печорин родился от твоей же «Думы».
– Пожалуй, и так будет верно, Жерве, – снова откликнулся Лермонтов, уклоняясь от разговора. – Но, право же, никому, кроме меня, не интересна родословная Печорина.
– Оставь шутки, Лермонтов! – Жерве смотрел на него с укоризной. – Не впервой мы судим и спорим о твоих созданиях. А «Фаталист»? Ведь и там снова говорится о людях, скитающихся по земле без убеждений… Неужели ты не видишь исключений?
– Не знаю, как избавиться от твоего допроса, Жерве. Да и стоит ли Печорин такого диспута? Не лучше ли те герои, начиненные романтизмом, которые толпами населяют наши книги и журналы, или хотя бы мы сами?.. Мы служим, выслуживаем чины, читаем, конечно, не бог весть что, а чаще всего отчеты управителей имений, и читаем их до тех пор, пока жестокая жизнь не освободит нас и от имений и от управителей. А потом, разорившись, снова служим…
– Уж не в наш ли огород летят твои камешки, Лермонтов? – спросил Шувалов.
– Помилуй, кто посмеет говорить о разорении, зная состояние Браницкого, Фредерикса или твое, Шувалов! Нет, избави меня бог от личностей!
– Мы горим желанием послужить отечеству, если нужно об этом напоминать, – вмешался в разговор Долгорукий.
– И поэтому нас только шестнадцать, участвующих в этих важных сходках? Да и что в них проку, Долгорукий? – резко отвечал Лермонтов. – Какая наша цель? Просвещение? Но любой студент знает больше нас. Самооправдание? Наивная, жалкая подачка совести! Ненависть к деспотизму? Какая смиренная ненависть! Мы говорим, говорим и, кончив одну бесплодную сходку, начнем другую. Не мы ли и есть герои времени?
– Нелестно же, Лермонтов, ты о нас судишь!
– Почему о вас? – возразил поэт. – А может быть, о нашем времени?
Поэт отошел к столу. Налил вина в бокал, смотрел, прищурясь, как играют хрустальные грани. Из биллиардной снова слышались щелканье шаров и возгласы игроков. Гости, оставшиеся в кабинете, наскучив литературным разговором, разбились на группы. Только разгорячившийся Жерве, юный Долгорукий да еще два-три офицера оставались подле поэта.
– Помнится, я никогда не читал вам одно из детских своих мараний? – Лермонтов с минуту колебался: – Ну, извольте слушать. Называется «Жалобы турка». Самое название свидетельствует о том, как я был хитер в пятнадцать лет. Мне верилось, что ни один цензор, ни один жандарм не догадается, о судьбах какой страны печалится мой турок. А турок мой, описав в стихах некий дикий край с его поблекшими лугами, продолжал:
И где являются порой
Умы и хладные и твердые как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень,
А почему? И на это ответил всеведущий турок:
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! этот край… моя отчизна!
Не этот ли самый турок, господа, бесследно скрывшийся, оставил ключ и к моему роману? Но то, что было ясно хитрому турку, то навсегда останется тайной для Печорина… Тщетно будет он искать причины страданий в себе самом. Впрочем, не пристало мне давать объяснения за своего героя, пусть сам говорит с читателями.
– Итак, господа, – сказал после общего молчания Жерве, – всегда, о чем бы мы ни заговорили, неминуемо встает перед нами проклятое рабство. И Печорин, не нашедший пути, лишь повторяет, оказывается, у Лермонтова его поэтическую жалобу, вырвавшуюся в детстве. Ты прав, Михаил Юрьевич, рабство калечит всех – не только рабов, но и рабовладельцев. Но если это так, к тебе прямой вопрос: как с рабством бороться?
– Не знаю, – коротко ответил поэт. – По-видимому, на Сенатскую площадь мы еще раз не пойдем.
– Так что же, по-твоему, делать?
– Друзья мои, – отвечал Лермонтов, – наш разговор о романе, который еще не вышел в свет, не приведет нас к решению, впрочем, как и всякий другой разговор… Не пора ли расходиться?
– Не торопись, Лермонтов, и не торопи других. Господа! – возвысил голос Браницкий. – Нам непременно нужно обменяться мнениями о действиях Секретного комитета по крестьянским делам. Кто имеет сообщить новости?