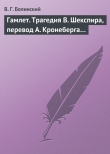Текст книги "О душах живых и мертвых"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Нежданный гость
Глава перваяВ начале апреля 1840 года в Петербурге стали распространяться тревожные слухи о событиях на Кавказе. Говорили о падении русских укреплений на черноморском побережье, называли Лазаревский форт и Вельяминовский; опасливо шептались о том, что горцы, собрав огромные силы под знаменем Шамиля, нападали с невиданной отвагой; рассказывали о доблести, проявленной русскими гарнизонами, и о гибели храбрецов, оказавшихся перед лицом подавляющих сил противника.
Вести эти, проникшие в столицу, стали предметом горячих толков. Одни попросту не хотели верить: силы русской армии, действовавшей на Кавказе, казались несокрушимыми. Другие с горечью отвечали, что как бы ни велики были эти силы и стойкость русского солдата, однако и он не может преодолеть чудовищные ошибки и невежество высшего командования.
Среди военной молодежи оказалось немало офицеров, участвовавших в кавказских экспедициях. У них известия, поступавшие с Кавказа, не вызывали удивления. Побывавшие на Кавказе офицеры, если не было посторонних, открыто называли главного виновника печальных событий: то был сам император. Именно ему принадлежала мысль об организации черноморской береговой линии; форты на побережье, плохо укрепленные и плохо снабженные, были крохотными, отрезанными друг от друга оазисами, раскинутыми среди воинственных, непокорных племен.
Гарнизоны черноморских укреплений страдали от лихорадок; болезни уносили больше жертв, чем военная борьба. Это были не столько укрепления, сколько лазареты, в которых страдальцы были оставлены без всякой помощи. В фортах не хватало питьевой воды, солдаты получали гнилое мясо и заплесневевшие сухари. Не было медикаментов, и лекари были бессильны против эпидемий.
Но император твердо верил в несокрушимую мощь береговой линии. И как могло быть иначе, если эта линия была учреждена по личному его повелению?
Так думал Николай Павлович, создавая стратегические планы в петербургском Зимнем дворце. Приближенные в один голос восторгались военным гением его величества. Командование, действовавшее на Кавказе, покорно выполняло высочайшую волю. В инженерном ведомстве и в интендантстве шло стихийное воровство.
Героизм проявляется не только в боях. Нужны были непоколебимое мужество и железная воля, чтобы нести службу в этих условиях. И гарнизоны ее несли.
Из-за стен укреплений нельзя было показаться, не рискуя вызвать меткий выстрел невидимого и неуловимого врага. Добывание дров, пастьба скота, возделывание огородов и рытье могил – решительно все оплачивалось кровью. Злокачественная лихорадка и цинга завершали остальное.
Если какой-нибудь ротный песельник, вчера еще запевавший у костра, сегодня пламенел от лихорадки и тяжело бредил, все-таки не умолкали под вечер голоса: неунывающую русскую песню подхватывали те, кто оборонялся ею от завтрашних невзгод.
Если кончались даже гнилые сухари, а питьевую воду строго отмеряли походной манеркой, все так же выходили на посты боевые караулы, а у костра, уже чувствуя проклятый озноб, все еще вел затейливый рассказ какой-нибудь солдат, пригнанный с Волги или из вятских лесов, и дружным смехом отвечали рассказчику слушатели.
Героизм заключался в том, что, уже не надеясь на помощь, забытые гарнизоны стояли так же твердо, хотя хорошо знали, что не сегодня-завтра обрушится на форты несметная сила. Отступать было некуда – за спиною было грозное, бурливое море. Впрочем, никто и не собирался отступать.
Война на Кавказе шла так, как совершалось все в империи Николая Павловича. Кнутобойцы в генеральских эполетах пользовались наибольшим расположением и доверием императора. Им и вручено было высшее командование, хотя ничего не знали эти командиры, кроме шагистики и шпицрутенов.
Император был свято убежден в чудодейственной силе созданных им порядков: ведь война велась победоносно. Самодержец верил в свое великое предназначение. Об этом не уставали говорить и придворные, и военный министр, и генералы, которым он повелел учредить на Кавказе черноморскую береговую линию.
Стоя у карты, он сделал величественный жест рукой:
– Надо отрезать непокорных от моря. Отсюда пойдет последнее наступление в глубину страны.
Николай Павлович неоднократно говорил и повторял: «Нечего нянчиться с дикими!»
Так говорил царь, суливший смерть или рабство народам Кавказа. Черноморская береговая линия была началом замыслов его величества. Укрепления, организованные в 1837 году, чудом держались три года.
И вдруг военный министр граф Чернышев испросил срочной аудиенции.
Аудиенция состоялась поздним вечером девятого апреля 1840 года. Министр был бледен и растерян.
– Ваше императорское величество, – начал доклад граф Чернышев, – мне выпал тяжелый долг всеподданнейше доложить вашему величеству…
Николай нахмурил брови.
– На черноморской береговой линии, – продолжал министр, – в ночь на двадцать второе марта пал форт Михайловское. Прискорбное известие только что получено через фельдъегеря.
Император отбросил карандаш, который держал в руке.
– А гарнизон? Что делал гарнизон?
– Гарнизона более не существует, ваше величество. Когда неприятель ворвался в укрепление, осажденные взорвали пороховой погреб…
Царь склонился к карте.
– А береговая линия? – спросил он, и в вопросе его почувствовался страх.
Но карта давала ясный ответ: с падением Михайловского форта перестала существовать вся береговая линия, как будто не сам император приказал ее воздвигнуть.
И Николай Павлович впал в ярость. Министр почтительно слушал, пока император выкрикивал ругательства и проклятия. Потом царь прошелся по кабинету и опять уставился на военного министра.
– Экспедицию! Срочно снарядить экспедицию, которая восстановит береговую линию и, пройдя в глубь территории, покарает этих дикарей! Экспедицию! – вдруг на высоких нотах кончил Николай Павлович.
– Так точно, ваше императорское величество, – поддакивал военный министр. – Немедленно снарядить экспедицию… Не ручаюсь, однако, за сроки. Вблизи нет достаточного количества войск, мало запасов.
– Не потерплю ни минуты промедления! – оборвал царь. – Какие полки расположены поблизости?
– Тенгинский пехотный полк, ваше величество.
– Какой дивизии? Где расквартированы остальные полки?
Министр едва успевал отвечать. Царь требовал войск, приказывал перебросить форсированным маршем воинские части, находившиеся в Крыму.
Военный министр не возражал. Так родился план новой, грандиозной экспедиции. Штабная машина заработала. На Кавказ поскакали фельдъегери. Собранные наспех войска должны были врезаться в плохо разведанную территорию, не имея ни боевого снаряжения, ни опоры за собой. Полки должны были начать эту экспедицию измученные длинными маршами. Император требовал только одного – быстроты. Никто не занимался разработкой планов похода, никто не знал его конечных целей. Начать боевые операции должен был Тенгинский полк, оказавшийся ближе всех к месту катастрофы.
А с Кавказа приходили в столицу все новые известия. Так узнали историю гибели Михайловского гарнизона. Узнали и имя рядового Тенгинского полка – Архипа Осипова: это он добровольно вызвался взорвать пороховой погреб в ту минуту, когда неприятель ворвался в укрепление…
Петербург полнился слухами. У редактора «Отечественных записок» продолжались утренние собрания журналистов. Иван Иванович Панаев каждый раз являлся с ворохом кавказских новостей, неведомо откуда взятых. Иван Иванович был в приподнятом настроении.
– Господа, – ораторствовал он, – военные авторитеты наши настаивают на полном пересмотре стратегических планов…
– И вас, Иван Иванович, по сему поводу на совещания приглашают? – улыбнулся Краевский.
– Дело не в совещаниях, – продолжал Иван Иванович. – Для совещаний, кажется, и времени не осталось… Россия может потерять все приобретенное на Кавказе. Мне наверное сказывали, что генерал Граббе, осмелившийся критиковать распоряжения его величества, получил грубейшую отповедь… Куда же мы идем? – Иван Иванович вскочил с кресла. – Наши министерские стратеги занимаются вахтпарадами да церемониальными маршами и шлют на Кавказ бездарные инструкции, а я им говорю: знали бы вы противника, как некий штабс-капитан Максим Максимыч, да познакомились бы хоть когда-нибудь с нравами и обычаями горцев, как знает их автор нового романа, поручик Лермонтов…
– Что о нем-то самом слышно? – спросил Краевский.
– Под величайшим секретом могу сообщить: дело о нем, кажется, закончено. Ожидают пустякового наказания…
– Все у Лермонтова не вовремя выходит, – сказал Краевский. – Когда отношения с Францией на ниточке висели, вздумал стреляться с сыном посла. Теперь, когда Россия терпит поражения на Кавказе, Михаил Юрьевич…
В кабинет вошел без доклада Владимир Федорович Одоевский.
– О Лермонтове идет речь, господа? Читаю его роман, ночь не спал. Однако же понять не могу: откуда у молодежи нашей этакое холодное отчаяние? Нет, мы иначе начинали… А какой талантище – боже мой, какой сердцевед! И эта несчастная дуэль… Сохрани бог, чтобы не упекли его на Кавказ! Там, говорят, готовится ужасное кровопролитие. – Владимир Федорович отвел в сторону Краевского. – Надеюсь, «Отечественные записки» не замедлят с рецензией?
– Белинский, быв у меня вчера, сулил написать необыкновенную статью.
– Прекрасно! – одобрил Одоевский. – Ему мыслей не занимать стать, а ведь и в самом деле есть о чем поговорить в связи с романом. Современные герои не боятся явиться на суд нравственности со всеми своими душевными язвами… А каково в подробностях мнение Виссариона Григорьевича?
– Ну, батенька, разве Виссариона Григорьевича поймешь, когда он впадает в восторг… Признаюсь, в таком градусе я его давно не видел.
– Любопытно будет почитать его статью, – сказал Одоевский. – Первые отзывы о романе, которые я слышал, немало меня удивили. Говорят, представьте, безнравственная книга.
– Да ну? – удивился Краевский. – И Белинский мне сказывал: «Святоши наши непременно закричат о безнравственности». А в книжной лавке жаловались – не бойко покупает публика «Героя».
– Да что ж они хотят? Если не ошибаюсь, прошло только три дня, как книга вышла из типографии. Но предчувствую, Андрей Александрович, вокруг этого романа разгорятся страсти…
– Так Лермонтову на роду написано.
– Удивительно беспокойный человек! – согласился Владимир Федорович. – Искренне его люблю. Всей душой расположен. Но не могу понять этой резкости суждений… Ну, выпустил во Франции новый роман Мюссе – «Исповедь сына века». Очень тонкий роман. Горькая исповедь сына горестного века… А ведь в «Герое нашего времени» психологический портрет набросан смелой кистью еще ярче и острее! Читаешь этот роман и слышишь – стучится в твое сознание какая-то беспокойная правда… И ловишь себя на том, что начинаешь думать черт знает о чем, во всяком случае, не о личной судьбе Печорина… У вас, Андрей Александрович, рождается такое настроение?
– Я, Владимир Федорович, думаю прежде всего о том, чтобы не опоздать с отзывом в «Отечественных записках». Вот мое всегдашнее настроение. А Лермонтова, украшающего наш журнал, мы, конечно, никому не уступим.
Андрей Александрович говорил бодро и решительно. Во-первых, он уже застраховался повестью графа Соллогуба; во-вторых, дело о дуэли Лермонтова, судя по всем справкам, было закончено, а редактора «Отечественных записок» никто не беспокоил. Ни стихи, ни проза Лермонтова, по-видимому, не привлекли на этот раз никакого внимания. Прежние страхи рассеялись, как дым. Андрей Александрович жаждал новых лавров.
– Уверен, что статьей Белинского о романе Лермонтова, – сказал он, – наш журнал привлечет всеобщее внимание читателей. Но осторожности и беспристрастности ради я буду просить вас, Владимир Федорович, непременно познакомиться с этой статьей, как только представит ее Белинский. Он для этого романа все на свете забыл.
Действительно, к критику «Отечественных записок» попал один из первых экземпляров «Героя». Едва открыл он роман, в комнате его, казалось, остановилась жизнь. Даже цветы были заброшены.
По-прежнему на столе, на книжных полках был идеальный порядок и все жилище блистало безукоризненной чистотой. Хозяин лежал на диване и не мог оторваться от книги. Повести Лермонтова, ранее частично печатавшиеся в «Отечественных записках» и так хорошо знакомые Белинскому, приобрели совсем новый смысл: вместо собрания этих повестей перед ним был стройный роман, посвященный единому герою. Личность героя соединяла эти ранее разрозненные повести, и соединяла их лучше, чем любой сюжетный ход.
Чем дальше читал роман Виссарион Григорьевич, тем больше видел, как сложны противоречия в душе героя. И не терпится критику узнать: приведут ли эти противоречия к гармонии, к благостному примирению героя с самим собой и с жизнью? Автор медлил с ответом.
Прочитаны первые повести. Уже решилась судьба княжны Мери. Все тот же холодный пепел в опустошенной душе Печорина. А может быть, глубоко под ним, в самых тайниках, все-таки течет и бурлит поток раскаленной лавы и вот-вот вырвется наружу? И воскреснет для новой жизни опустошенная душа?
Ответа в романе нет. А герой его уже выходит на дуэль. Критик начинает читать внимательнее, словно хочет узнать мысли не только героя, но самого автора, и все еще ждет: будет ли наконец примирение героя с жизнью? Но не знает и не хочет автор никакого примирения. Все язвительнее становится герой романа к самому себе и ко всему окружающему. Сквозь его сарказм видятся и беспощадное осуждение, и безнадежное отчаяние, и полное неверие в силу жизни.
Роман был давно прочитан, а критик часами сидел неподвижно на диване.
Виссарион Григорьевич снова потянулся к книге, развернул последнюю страницу:
«Я люблю сомневаться во всем; это расположение не мешает решительности характера…»
– Опять это сомнение! – восклицает критик. – Но кто же говорит – автор за героя, или герой за автора, или автор вместе с героем?
Когда повесть «Фаталист» печаталась в «Отечественных записках» как самостоятельное произведение, эти строки могли не обратить особого внимания, Теперь, когда перед читателем раскрыта вся внутренняя жизнь Печорина, герой романа приходит к решительному и убийственному итогу: от сомнений в благе жизни к отказу от нее. А как отделить мысли Григория Александровича Печорина от собственных мыслей Михаила Юрьевича Лермонтова?
Белинский навел справки, когда, как и где можно повидать арестованного поэта.
А потом опять проводил долгие часы в нерешительности. Явись к нему, а он, всегда такой подчеркнуто вежливый и далекий, холодно спросит: «Чем, Виссарион Григорьевич, могу служить?»
Глава вторая– Короче говоря, я решился преодолеть свою стеснительность, Михаил Юрьевич, и вот я здесь.
Гость говорит отрывисто, все еще не отделавшись от смущения, и одновременно рассматривает убогую обстановку камеры в Ордонанс-гаузе.
– Только прошу вас, – продолжает он, обращаясь к поэту, – скажите мне прямо, без всяких церемоний, вовремя ли я пришел?
– Милости прошу, – отвечает Лермонтов, несколько удивленный неожиданным визитом. – Впрочем, слава богу, я ведь не хозяин этого салона. Воспользуемся же предоставленной нам от казны гостиной. Садитесь, Виссарион Григорьевич!
Белинский присел к столу, но так, будто действительно зашел на минуту.
– Я прочел ваш роман, – начал он.
– Догадываюсь. И тем более рад вас видеть: высказать прямо автору свое мнение куда лучше, чем переговариваться на страницах журнала. Впрочем, роман мой не был для вас большой новостью.
– Напротив, – горячо возразил Белинский, – он поражает новизной! Новые повести, включенные в роман, бросают полный и неожиданный свет на все ранее напечатанное.
– Мне самому стало ясно, что первые повести, задуманные как собрание отдельных повестей, не достигнут цели, если читатель не увидит всей внутренней жизни героя…
Лермонтов раскурил трубку и выпустил густой клуб дыма.
– Да кто же он такой, ваш Печорин? – нетерпеливо спросил Белинский.
– Я полагал, что название романа, над которым долго думал, дает ясный ответ на ваш вопрос.
– А что же значит в таком случае название романа?
– Оно объясняет зависимость характера и судьбы героя именно от нашего времени. Простите за краткость, но иначе, право, не умею ответить.
Лермонтов смолк.
– Ну вот, – сказал разочарованно Белинский, – не выйдет, стало быть, разговора… Что с вами поделаешь? Не буду надоедать.
Белинский говорил с большой грустью. Он встал, собираясь уходить.
– Нет, нет! – вдруг непривычно горячо сказал Лермонтов и подошел к гостю. – Раз пришли, так поговорим, если имеете время. У меня, как видите, особых занятий нет. А за глупую привычку отмалчиваться простите. Она – дань многим обстоятельствам моей жизни. Если хотите начать разговор о Печорине, извольте! Мой Печорин – эпитафия тем, кто сходит со сцены, отыграв свою историческую роль.
– Но ведь в Печорине заложен могучий дух, – возразил Белинский.
– Обреченный, однако, на бездействие, – продолжал Лермонтов. – Заметьте: закономерно обреченный и попусту растраченный, если мне удалось это показать.
– Еще бы не удалось! Именно такова праздная деятельность Печорина, которая столь ярко изображена в романе.
– Удачное слово, – согласился поэт, – лишь праздная деятельность и остается уделом Печориных.
– Но только ли Печориных? – серьезно спросил Белинский.
– Простите, не совсем вас понимаю, – поэт глянул пристально на гостя. – Я имел в виду именно лучших представителей нашего светского общества. Прочие в счет не идут.
– Я не о них, – настаивал Белинский. – Я имею в виду людей, не принадлежащих к тому сословию, которое представляет в романе Печорин. Есть у нас другие сословия. Роман ваш не дает ответа на вопрос, могут ли они с пользой жить и трудиться в России.
– За примерами недалеко ходить, – отвечал поэт. – Сошлюсь на вас, Виссарион Григорьевич.
– Не ссылайтесь! Прокляты моя жизнь и работа! Я с гордостью называю себя литератором, но подумайте, что значит кричать в пустыне, говорить и чувствовать, что задыхаешься, что твой рот плотно заткнула цензура. Ни одного подлеца не смей тронуть…
– Ну вот, – с каким-то удовлетворением подтвердил Лермонтов, – следовательно, условия наши таковы, что, с одной стороны, рождаются Печорины, а с другой – каждый, кто захочет действовать разумно, немедленно ощутит проклятое ярмо, хотя, признаюсь, я и не показал этого в романе.
– Но что же делать, – с горячностью возразил Белинский, – если это ярмо сильнее нас и будет до времени существовать независимо от наших намерений?
– Об этом каждый может прочесть в ваших статьях. Но позвольте признаться, Виссарион Григорьевич, я вам не верю.
– Пусть так! Мои статейки вызвали резкое суждение у многих. Иные не понимают, иные не хотят понять. Но как бы ни была гнусна наша действительность…
– Оригинальное вступление к проповеди примирения с ней! – перебил, улыбаясь, Лермонтов.
– Если бы я мог, я говорил бы об этом в каждой статье, – подтвердил Белинский.
– И не встретили бы, думаю, возражения у многих читателей. Но та же самая действительность и зажимает вам рот.
– Именно так! Хотя ох как хочется бить нашу похабную действительность по морде! – вдруг заключил Белинский.
– Так и бейте на здоровье!
Белинский отрицательно покачал головой.
– Бессильный и бесполезный жест, – сказал он. – Человеку ничего не дано изменить. Этому учат нас история и философия.
– Я понимаю философию, – перебил Лермонтов, – когда она учит жить. И я отбрасываю, как негодную ветошь, те учения, которые затемняют мне мое собственное предназначение.
– А жизнь даже знать не хочет наших рассуждений, – разгорячился Белинский, – и вы сами, начертав характер Печорина, клевещете на своего героя.
– Клевещу? – удивился поэт. – Объяснитесь!
– Извольте. Настанет, не может не настать торжественная минута, когда противоречия духа Печорина разрешатся; бессильная борьба непременно кончится воскресением человека.
Лермонтов слушал внимательно, чуть-чуть иронически улыбаясь.
– Я не очень верю в воскресение мертвых, – сказал он.
– Мертвых? – ужаснулся Белинский. – Стало быть, вы сами, изобразив могучий дух Печорина, обрекаете его смерти?
– Не я, – перебил поэт, – мой герой обречен историей. Я говорил вам и опять повторяю: Печорин – эпитафия тем, кто до сих пор думал, что они делают историю России… Но довольно о вымышленных героях.
– Нет, Михаил Юрьевич, не довольно! – сурово сказал Белинский. – От меня не отмахнетесь. Говорю не за себя, но за многих, кто задумывается над участью Печорина. Слишком больной вопрос вы затронули. И я же говорю вам: вы оклеветали его как человека… Думаете, путаюсь в неразрешимых противоречиях? Нимало! Сам я следовал за судьбой его в романе с биением сердца… Вы говорите: «Не верю в воскресение мертвых». А я и тысячи людей, сохранивших живую душу, у вас спросят: коли так, куда же вы своим неверием зовете?
Белинский должен был прервать речь, его замучила одышка.
– Я и к вам пришел, Михаил Юрьевич, чтобы сказать – нет ничего страшнее голого отрицания.
– Еще важнее указать болезнь, не прибегая к успокоительной лжи, – возразил поэт. – Но сохрани бог возомнить себя лекарем-чудотворцем!
– А я, – отвечал Белинский, – горячо верю в то, что при таком рассудочном и озлобленном взгляде на жизнь – вы храните в душе семена глубокой веры в достоинство жизни и в достоинство людей.
– Дай бог! – Лермонтов улыбнулся. – Дай бог! – повторил он. – Во всяком случае, пора нам подумать о других героях. Пушкин положил начало этим поискам. Имею в виду хотя бы «Капитанскую дочку». Когда читал, мне было даже странно: еще будучи в юнкерской школе, я стал сочинять роман из времен Пугачева. И в этом совпадении я увидел для себя великую честь. Но мой роман, конечно, остался недоконченным. Скучен показался мне мой романтический герой, окрещенный по романтической традиции Вадимом. А вот теперь, когда обращаюсь к жизни и ищу действователей, снова возвращаюсь мыслями к той же эпохе.
Белинский слушал не прерывая.
– Так начинается мой поиск героев, увы, не нашего времени. Ну, а потом, когда напишу о пугачевщине, – Александр Первый… Нет, нет, – перебил себя поэт, видя удивленный взгляд Белинского, – я не собираюсь живописать царствование монарха. Но зато всеми мыслями своими обращаюсь к тысяча восемьсот двенадцатому году. Разве мы, русские, не доказали в том году, на что мы способны?
– Стало быть, возврат к «Бородину»? – спросил Белинский.
– Непременно, – подтвердил Лермонтов. – Стихи мои считаю только первой данью тем, кто доказал умение и действовать и достигать. Конечно, страница эта неотделима от имен тех, кто начал иной, не менее героический поход, закончившийся на Сенатской площади… Ну, а третий роман будет о нас – о наших думах, о нашем безвременье.
– Неужто назад, к иным Печориным?
– Не опасайтесь! – Лермонтов весело рассмеялся. – И тени Печорина не будет в романе! К слову сказать, издавна интересует меня наш комедиограф Грибоедов. Вы ведь тоже о нем писали, Виссарион Григорьевич…
– Да, – подтвердил Белинский. – Я чту великий талант Грибоедова и вижу проявление гения в частностях комедии, но не могу признать общего. Истинно художественное произведение всегда будет объективно. Грибоедов же увлекся сатирой…
– Проповедуя эту несуществующую объективность искусства, вы, Виссарион Григорьевич, сами себе противоречите. Никто до вас не вносил в критику столько страстной, вполне понятной мне субъективности. И если суждено нам сегодня пророчествовать друг другу, я готов держать пари, что вы первый будете беспощадно преследовать поэтов, выдающих за объективность собственную немочь, боязнь жизни или угодничество перед властью…
– Курьез! – воскликнул Белинский. – Мы оба с вами ратуем за обращение в свою веру!
– И, надеюсь, когда-нибудь дружно разделим лавры общей победы.
– Я не из тех, кого легко переубедить!
– Жизнь вас переубедит. Давно слежу я за вами, Виссарион Григорьевич. Нигде, как в ваших статьях, не чувствую такого страшного борения с собой. Ратуете за объективность – и в той же статье пишете, что задача искусства состоит в том, чтобы показывать жизнь такою, как она есть, без всяких прикрас… Хороша же будет русская действительность, если показать ее по вашему рецепту! Да тут кровью взойдешь и задохнешься в проклятиях…
– Вы говорили о Грибоедове, – напомнил Белинский.
– Да, да! Так вот, в той же самой своей статье о «Горе от ума» вы признали все величие, всю художественность гоголевского «Ревизора». Не понимаю, в чем же тут разница?
– Готов объяснить. Впрочем, лучше вернемся к этому позднее. Сейчас хочется послушать вас, ведь я впервые по-настоящему с вами знакомлюсь.
– А помните наши встречи на Кавказе?
Белинский помнил. Тогда, в 1837 году, он приехал на Горячие Воды по принуждению друзей – злой недуг почти свалил его. Михаил Юрьевич, отбывавший на Кавказе ссылку за стихи на смерть Пушкина, присматривался к ссыльным декабристам и уклонялся от литературных споров. А для Белинского уже была связана с литературой вся жизнь.
– Я был слишком горяч тогда, по-видимому, – признался Виссарион Григорьевич, – а вы слишком холодны.
– Может быть, – согласился Лермонтов. – Но мы опять отвлеклись от Грибоедова. Признаюсь вам, он влечет меня, как будущий герой романа. И вот почему: откуда явилась такая разрушительная сила его удара? Гениальный поэт? Конечно, так. Но чем питается гений? Не иначе, как самой жизнью. В этом мы с вами согласны, хотя по-разному на русскую действительность смотрим.
– Вы совершенно не правы, Михаил Юрьевич. Мы не по-разному смотрим, но по-разному определяем свое отношение к ней.
– Пусть будет так, – согласился Лермонтов. – Вы говорите: принять как неизбежное и будто бы на сегодня необходимо сущее. Так я понимаю вашу философскую посылку?
– Примерно так.
– Очень хорошо! Но тогда встает новый вопрос: что же делать нам, мыслящим и сознательно действующим людям? Ждать или…
– Или? – Белинский не отводил глаз с собеседника.
– Или ненавидеть, отрицать со всей непримиримостью, и в том явить свою любовь к отчизне, к людям. Если же я прав, то времени на ожидание у нас, ей-богу, нет. Иначе осудит нас история и, конечно, обойдется без нас.
– Но позвольте, – Белинский был разгорячен спором, – думать, что мы обладаем архимедовым рычагом, способным повернуть все развитие общества, что можем по своей воле перескочить из одного момента развития в другой, – это же, простите меня, все те же мечты, все та же идеальность, за которую мы так дорого платили и еще будем платить!
– Помнится, вы писали еще и о прекраснодушии? Не так ли? – напомнил Лермонтов и улыбнулся. – Как видите, принадлежу к вашим внимательным читателям, Виссарион Григорьевич. Но коли пошел у нас разговор по душам, ничего от вас не утаю. Оставим мечтания нашим записным философам. Ими, кстати сказать, у нас хоть пруд пруди… А народ, видя, что жизнь наша неразумна и гнусна, отвечает не трактатом, но, к примеру, пугачевщиной.
– И что же?! – воскликнул Белинский. – Способен ли был что-нибудь изменить этот ответ? Пугачев погиб, погибли десятки тысяч его приверженцев, а рабство осталось.
– Не считайте его таким нерушимым. Разве не посеял новой бури прошлый неурожайный год? Вести, приходящие из разных губерний, говорят: бесправные крестьяне не хотят знать никакого примирения. Словесность, верная правде жизни, также должна существующие у нас порядки отвергнуть. Комедия Грибоедова, например, по праву оказалась манифестом отрицания наших устоев. Недаром же ее знают наизусть все честные люди и вооружаются «Горем», как повстанцы огнестрельным оружием. И в этом смысле решительно нет разницы между «Горем от ума» и «Ревизором». Николай Васильевич Гоголь еще крепче ударил…
– Кстати, Михаил Юрьевич, говорят, нынче Гоголь в Москве читает друзьям – и, конечно, под страшной тайной – главы из новой своей поэмы?
– Кто же не слыхал, хоть краем уха, о таинственных «Мертвых душах»! – отвечал Лермонтов. – А коли так, пошли ему бог! Негоже Гоголю столько лет молчать!
– Ох, негоже!
Белинский вспомнил последний приезд Гоголя в Петербург. Уже тогда ходили слухи о «Мертвых душах»…
– Обедал и я с Гоголем однажды у Одоевского, – живо сказал Виссарион Григорьевич, отдаваясь воспоминаниям. – На языке моем так и вертелись таинственные «Мертвые души». А Николай Васильевич все только и расспрашивал, как мне понравился Петербург… Словом, ушел я с того обеда не солоно хлебавши. – Он помолчал. – Теперь отвечу вам, Михаил Юрьевич, почему я ставлю «Ревизора» превыше всего: не безнадежность проповедует Гоголь, а возможность внутреннего обновления нашей жизни. Уж чего бы, кажется, страшнее изображенные в «Ревизоре» городок и люди, если только достойны они этого высокого имени! Однако в конце пьесы торжествует не зло, не порок, но высшая правда. Такова весть о приезде истинного ревизора.
– А потом, когда уедет восвояси этот праведный, предположим, ревизор, – отвечал Лермонтов, – и вступят в управление новый городничий, новый судья и прочие чиновники, неужто не начнется все сначала? Ведь других-то чиновников у нас нет и быть не может, пока существуют наши порядки. В этом зрители сами разберутся и выйдут из театра без всякой веры в возможность внутреннего обновления нашей жизни и уж, конечно, без склонности к примирению… Вот мы и объяснились наконец, – заключил Лермонтов, – и досидели до огня.
– И каждый остался при своем, – с сожалением откликнулся Белинский.
– Нет, – спокойно отвечал Лермонтов, – мы непременно сойдемся. Во всяком случае, я с охотой и полным доверием вручу в ваши руки судьбу Печорина.
– Когда же будем читать вашу историческую трилогию? – спросил гость.
Лермонтов развел руками.
– Исторические трилогии плохо пишутся на стоянках гусарского полка и в казематах. Но заверяю вас – как бы ни сложилась жизнь, от замысла своего не отступлюсь!
– А как ваше дуэльное дело? Долго ли еще будут вас держать под замком?
– Кажется, скоро пробьет мой час.
– И каково же будет решение?
– Его трудно угадать, поскольку дело пошло на утверждение государя. Но именно здесь, у престола его величества, всякое судебное решение может быть полностью перечеркнуто и заменено самовластным произволом. Не берусь о нем гадать…
Поэт прошелся по камере, искоса поглядывая на гостя. Белинский встал, чтобы распрощаться.
– Кстати, или совсем некстати, Виссарион Григорьевич, – вдруг спросил Лермонтов, – что вы думаете о романах сэра Вальтера Скотта?
И снова гость никуда не ушел.