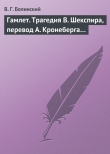Текст книги "О душах живых и мертвых"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В типографии печаталась майская книжка «Отечественных записок». Андрей Александрович Краевский недосыпал ночей, не выходил из кабинета. Казачок его то и дело летал с записками к Белинскому.
«Любезнейший Виссарион Григорьевич, убедительно прошу…»
«Всепочтеннейший Виссарион Григорьевич, еще раз вынужден напомнить…»
Но никак не мог критик ко времени исполнить все просьбы и поручения неутомимого редактора. И то сказать – когда готовится журнальная книжка, обнаруживаются самые неотложные дела и нежданные пробелы. А кому же и радеть о них, если не Виссариону Белинскому! Ведь именно ему положено в «Отечественных записках» ежемесячное твердое жалованье. Должен же честный человек его отработать! Конечно, никогда не сравниться ему в трудолюбии е самим Андреем Александровичем и вечно быть в неоплатном долгу, однако не следует давать спуску облагодетельствованному сотруднику.
Вот и летят к Белинскому записки, одна за другой…
В один из этих горячих дней Виссарион Григорьевич принес краткое оповещение о романе Лермонтова, предназначенное для майского номера.
Андрей Александрович с нетерпением прочитал, еще раз перечитал и откинулся в кресле.
– Вы, Виссарион Григорьевич, если память мне не изменяет, никогда ни об одной книге этак не писали. Сплошной фимиам!
– По мере моих скромных сил я отдал дань произведению, которое преобразует нашу словесность. Внуки и правнуки наши будут читать «Героя» и спорить…
– Но, судя по вашему оповещению, у вас лично нет почвы для спора?
– Кое в чем и я, грешный, готов поспорить с автором, но не иначе, как в обстоятельной статье. Пока что пусть порадуются читатели. Словесность наша движется гигантскими шагами… Недавно я был у Лермонтова, Андрей Александрович. – Белинский улыбнулся. – Вот поэт, который будет ростом с Ивана Великого! Боже мой, какая глубокая и какая нежная, поэтическая душа! Он весь по-человечески передо мной открылся, хотя потом наверняка в этом каялся…
– Так, – перебил Краевский, просматривая свои записи. – За вами все-таки еще остается должок, многоуважаемый Виссарион Григорьевич…
Разговор перешел на журнальные дела. Белинский слушал и клял себя за то, что вздумал разоткровенничаться совсем некстати. Нашел тоже место! Но со встречи с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе так и оставался в приподнятом настроении. Он не помнил часа, когда же наконец расстался с поэтом. Не раз собирался уходить, а Михаил Юрьевич забрасывал его новыми вопросами и продолжал разговор с несвойственным ему жаром. Чуя все новую и новую поживу, Белинский кидался в спор, забывая о времени…
Тусклые фонари давно горели на улицах, когда Виссарион Григорьевич, выйдя из Ордонанс-гауза, кликнул извозчика. Он ехал домой, а мыслями все еще был с поэтом.
– Вот человек! – вдруг вырвалось у него, и так громко, что извощик опасливо оглянулся на седока, бывшего, очевидно, не в себе.
А перед седоком так и стоял этот коренастый человек с горячей речью, с просветлевшим лицом…
С того памятного вечера и был Виссарион Григорьевич в приподнятом настроении.
«Вот человек!»
Он не раз пытался рассказывать об этой встрече, но рассказ выходил отрывочный и сбивчивый. Слушатели большей частью недоумевали: нашел, мол, Виссарион Григорьевич необыкновенную душу у язвительного поручика Лермонтова! Да, никто, решительно никто его не знает. Но каковы же должны быть богатырские его силы, чтобы жить, неся тяжелый груз такого одиночества! Во имя чего ненавидит российские порядки поэт, едва вышедший из юности?
Текущая журнальная горячка не оставляла времени для размышлений. Но настал наконец счастливый день, когда с майской книжкой «Отечественных записок» было покончено. Андрей Александрович Краевский, проверив все свои заметки, не нашел больше ни одного должка, который оставался бы за Белинским.
– Радуюсь душевно, Виссарион Григорьевич, что наступают для вас дни отдыха… короткие, разумеется, дни. – Редактор покосился на свежие корректуры, лежавшие на столе. – Покаюсь вам, – продолжал он, – что не смел отвлекать вас в горячее время, теперь же с охотою открою. – Андрей Александрович выдвинул один из хитроумных ящиков письменного стола и положил перед Белинским стопку аккуратно исписанных листков. – Михаил Юрьевич Лермонтов, отъезжая из столицы, просил передать вам для ознакомления свои пьесы, отобранные им для предполагаемого сборника стихов. При этом упомянул он о каком-то споре, между вами не решенном…
Что говорил Краевский дальше, Виссарион Григорьевич не слушал. Он вернулся домой и продолжал один на один знакомство с поэтом.
Пересмотрит, перечитает стихи – какая отлилась в них безотрадность, какое неверие в жизнь!
Снова перечитает и, глядя в те же листки, сам себе возразит: но какая жажда жизни, какой избыток чувств!
Когда поэт выражает скорби и недуги общества, тогда нет меры его ненависти и гордому презрению. Но и ненависть и презрение рождаются от пламенного сердца. Он не боится предстать перед читателями со своими стихами точно таким, каким был в памятный вечер в Ордонанс-гаузе, когда весь раскрылся. В неисчерпаемом богатстве этих стихов – вся нежность оскорбленной и страждущей души. Вот поэт!
В эти дни Виссариона Белинского мучила неотступная мысль: должно быть, он сам не сумел убедить поэта в конечном благе жизни, которое уготовано человечеству в его развитии.
Но стоило лишь ему об этом подумать, как снова обрушивался на себя нетерпеливый человек: а разве в сокровенных тайниках собственной души не надеялся он, что поэт разрушит его утешительную веру в конечное, но неведомое благо? Нечего играть в прятки с самим собой, кажется, именно того он ждал, хотя и опасался; опасался, но ждал.
И что греха таить, поза созерцателя, живущего лишь для того, чтобы присутствовать при том, как будет саморазвиваться и самосовершенствоваться общество, – такая поза, увы, давно не приносила ни радости, ни удовлетворения.
Петербург начинал по-летнему пустеть. Казачок приносил от Краевского новые записки: начиналась горячая пора подготовки июньской книжки журнала. Пора было сесть за обстоятельную статью о «Герое» Лермонтова. Но едва Белинский начинал думать о Печорине, перед ним тотчас являлся поэт.
– Да ведь Печорин-то он сам и есть! – восклицает Виссарион Григорьевич и задумывается…
Так могло показаться на минуту при встрече в Ордонанс-гаузе, но только на короткую минуту. Ни один Печорин в мире не создаст таких стихов.
Но какая-то неуловимая связь между автором романа и его героем остается несомненной. Кто же, как не критик, должен проникнуть в эту тайну, чтобы объяснить ее читателям?
О душах живых и мертвых
Глава перваяИменинный стол накрыт под старыми липами. Запущенный сад так велик, что впору быть ему при барской усадьбе в каком-нибудь дальнем захолустье. Но если глянуть в воздушную прорезь меж вековых деревьев, высится неподалеку колокольня московского Новодевичьего монастыря.
Здесь, на Девичьем поле, живет профессор Московского университета Михаил Петрович Погодин, и именинный стол раскинут в его собственном саду. Только никогда не пирует на такую широкую ногу прижимистый Михаил Петрович. Но сегодня не он у себя в доме хозяин, сегодня здесь празднует свои именины почетный гость – Николай Васильевич Гоголь.
У прославленного писателя нет ни дома, ни пристанища. Он странствует по миру с неразлучным чемоданом. В чемодане умещается все необходимое для жизни. В том же чемодане хранится и та дань роскоши, которую по слабости человеческой все еще платит Николай Васильевич. Он давно отрешился от всех соблазнов, не может расстаться только с парой-другой щегольских сапог, – к ним с юности питает неудержимую страсть автор «Ревизора».
Вольной птицей живет этот человек, освободивший себя от бренного имущества: так легче странствовать, то отправляясь надолго в прекрасное далеко – в Италию, то спеша оттуда на свидание с родиной.
Если же случится Гоголю быть в именинный день в Москве, тогда накрываются в погодинском саду самобранные столы.
Николай Васильевич зовет гостей лично и записками, через друзей и знакомых. Никто и сегодня не забыт. А именинник, сидя в комнате, отведенной ему в мезонине погодинского дома, еще раз тщательно просматривает список приглашенных. В списке значатся люди самых разных верований, вкусов и возрастов. За именинным столом сойдутся даже те, кто не встречается друг с другом по причине несогласия и вражды в убеждениях. Никто, кроме Гоголя, не умеет собирать у себя такие пестрые сборища оседлых москвичей и заезжих в Белокаменную людей. Пусть себе витийствуют и шумят – Николаю Васильевичу все к делу.
Когда в Италию, в Рим, заехал профессор эстетики Николай Иванович Надеждин и поспешил к Гоголю, предвкушая разговор о высоких материях, Гоголь, прежде чем гость успел слово молвить, возьми да и огорошь эстетика:
– А каковы ныне, Николай Иванович, в России цены на хлеб?
Возмутился профессор Надеждин такому ничтожеству интересов и, возвратившись на родину, долго с негодованием о том рассказывал; до высоких материй разговор с Гоголем так и не дошел.
Впрочем, не всегда докучает людям расспросами Николай Васильевич. На иного будто и внимания не обратит, а пройдет время – вдруг всю жизнь человека расскажет, весь его характер, все его привычки опишет. А коли разойдется в веселый час, доберется до всей родни и до самой тещи.
– Да откуда вам все это знать, Николай Васильевич? – едва отдышавшись от смеха, спросит собеседник. – Вы, помнится, с Мефодием Петровичем словом не перекинулись… Откуда вы это взяли?
– Вы при случае сами проверьте, – отвечает Гоголь. – Ей-богу, не умею выдумывать. На грош воображения не имею.
Проверит любопытный человек – и изумится: у Мефодия Петровича и теща точь-в-точь такова, как описывал ее Гоголь… Уж нет ли здесь какой магии или магнетизма?
Николай Васильевич все зорче присматривается к людям. Никого не пропустит. Недаром так тщательно перечитывает он список приглашенных к именинному пирогу. Список похож на пышный букет, собранный искусным садовником. Садовник перемешает в букете все краски, все оттенки, к главенствующим цветам добавит для аромата неказистой с виду мелочи или какой-нибудь пахучей травки – и не отступится до тех пор, пока не отразит в букете все разнообразие природы. Так и в списке у Гоголя; кого тут только нет!
Перво-наперво – зван на обед Сергей Тимофеевич Аксаков вместе с сыном Константином. Сергей Тимофеевич живет с многочисленным семейством в Москве так, словно никуда не выезжал из дедовой усадьбы. Вокруг московского дома и на задах раскинуты всякие строения – амбары, конюшни, погреба, людские, баня… Вся разница против деревенского обихода та, что по вечерам непременно едет Сергей Тимофеевич в театр, а еще чаще в клуб и занимает привычное место в карточной комнате. Но и днем не бездельничает кряжистый старик: день отдан книгам, приему друзей и размышлению.
А подле отцовского кабинета шумит молодая жизнь. Константин Аксаков, пройдя через Московский университет, познал многие увлечения, побывал и в гегельянцах и, по дружбе с Виссарионом Белинским, участвовал в «Московском наблюдателе» – в том самом журнале, который был когда-то облачен Виссарионом Белинским в обложку цвета надежды. На журнал обрушилось безденежье. Медленно, но верно душила его цензура. Умер «Московский наблюдатель», едва начав обновленную жизнь в зеленой обложке. Теперь Константин Аксаков, отряхнув прах немецкой философии, проповедует новую, московскую веру, окрещенную славянофильской.
Николай Васильевич Гоголь проявляет к молодому человеку горячий интерес. Чуть прищурившись, слушает он, как взывает Константин Сергеевич к святой старине, к блаженным патриархальным временам и к непорочности прадедовых нравов…
Зван на именины и неутомимый московский писатель Михаил Николаевич Загоскин. Этот хитрец против Аксаковых умом много проще. Объявил министр просвещения граф Уваров спасительную формулу благоденствия России: православие, самодержавие, народность, – последнее, конечно, надо понимать в смысле приверженности к православию и самодержавию, – и Загоскин, руководствуясь этой формулой, выпускает роман за романом. Понаблюдать за ним особенно любопытно автору «Мертвых душ».
А коли зван Загоскин на именины, непременно приедет, даром что не может забыть многих обид автору «Ревизора». Приедет Михаил Николаевич и поклонится имениннику по русскому обычаю, опустив руку долу…
В пламенной любви к древнерусским обычаям ни в чем не расходится Загоскин с новорожденными славянофилами. А кое в чем прочем готов поспорить. Московские славянолюбцы, отведав исконно русской кулебяки или стерляжьей ухи, любят туманно помечтать о древних земских соборах, собиравшихся во время о́но на святой Руси. Мечтают они о соборах в пику тлетворному Западу с его тлетворными парламентами. В западных парламентах – вражда, распри и злоба, в русских земских соборах – по крайней мере в мечтаниях видится – нерушимое единение православного царя с православным и смиренномудрым русским народом.
Но писатель Загоскин хоть и пишет романы преимущественно исторические, однако не видит никакой нужды углубляться в пыль веков. От Адама любит русский человек бога, царя и богоданных господ помещиков. На том стояла, стоит и будет стоять Русь. Никакой другой истории не надо.
Но все это пустяковые споры. Михаил Николаевич Загоскин, чуждый мечтаний, до них вовсе не охотник. Наоборот, он готов биться в первых рядах против перебравшегося в Петербург Виссариона Белинского. Житья нет от него порядочным людям. И Загоскину тоже. Крушит, разбойник, всю петербургскую благонамеренную литературу и успевает послать стрелу в Москву – не в бровь, а прямехонько в глаз маститому писателю Загоскину.
Когда сотрут в порошок этого санкюлота, тогда, пожалуй, вновь обнаружатся у московских единомышленников некоторые, правда несущественные, расхождения. Кондовые славянофилы полагают, что всю критику русской словесности желательно поручить московскому профессору Степану Петровичу Шевыреву. Он, как Илья Муромец, разит чудище, именуемое западной культурой.
А Загоскину на Шевырева наплевать: у него свой испытанный советчик – граф Бенкендорф. Шевырев, часом, еще и завраться может, а граф Александр Христофорович не подведет…
Не следовало бы, пожалуй, осторожности ради, ехать Загоскину на Девичье поле – никогда не был благонамеренным автор «Ревизора», – но так и подбивает неуемное любопытство: вся Москва шумит о «Мертвых душах».
Только один Гоголь об этом, пожалуй, не подозревает и все еще верит, что счастливцы, побывавшие на чтениях «Мертвых душ», хранят доверенную им тайну. Нашел, прости господи, чудаков! Да каждый, кто хоть одним ухом слышал о чтениях поэмы, потом неделю визитирует по знакомым и незнакомым: «Представьте, Гоголь на днях опять читал из своего нового создания… Престранное название, однако: «Мертвые души». Как это понимать?»
Перед немногими слушателями уже явились на чтениях поэмы и Чичиков, и Манилов, и Собакевич, и Коробочка, и Плюшкин. Когда читал Гоголь у Аксаковых или у Погодина, встречали героев поэмы неудержимым смехом. Кажется счастливцам, внимающим Гоголю, что отделены они, московские просвещенные люди, неизмеримой далью от чудищ, коптящих небо в какой-то неведомой губернии. Но неужто и в самом деле все это только смешно? Может быть, потерял чутье Михаил Петрович Погодин, так ревностно отстаивающий исконно русские начала?..
А Михаил Петрович, вернувшись из города, тяжелыми шагами поднимается в мезонин, чтобы поздравить дорогого именинника. Гоголь немедленно попадает в объятия профессора. Погодин троекратно его лобызает и держит именинника так крепко, будто именинник стал полной его собственностью…
Михаил Петрович имеет на гостя дальние виды. Во-первых, надеется он зачислить писателя по славяно-русскому приходу; во-вторых, намереваясь возобновить в Москве издание воинствующего журнала, надеется украсить будущий журнал произведениями Гоголя, обращенного в московскую веру. Но еще далеки от воплощения эти тайные надежды, и профессору приходится освободить из дружеских объятий именинника, тем более что именинник давно делает к тому настойчивые попытки.
– Встретил я, – говорит Михаил Петрович, – непоседливого гостя Москвы… Кого? Да кого же, как не Александра Ивановича Тургенева! Можно подумать, что он ни днем, ни ночью не слезает с дрожек. Каждый день его где-нибудь встречаю… Так вот, просил Александр Иванович тебя поздравить, – Погодин хотел сызнова расцеловать именинника, но тот, будто не заметив его намерения, деликатно уклонился, – и поручил передать тебе, что привезет с собой нежданного гостя.
– Кто таков?
– Поэт Лермонтов, ссылаемый по высочайшему повелению на Кавказ, – отвечал Погодин. – Объявил мне об этом хлопотун Тургенев так, будто едет к тебе по меньшей мере Гёте, Байрон или сам Шекспир.
– Душевно рад, – отвечал Гоголь. – Почти кончил чтенье его романа и много об авторе думал. Большое тебе спасибо, Михаил Петрович, что снабдил меня этой книжкой! В московских лавках ее и до сих пор нет!
– Не велика печаль… Вот ужо соберемся с силами, выпустим журнал, тогда поговорим о том, кому дано право зваться на Руси героями нашего времени…
Гоголь промолчал, сделав вид, что обратился к списку приглашенных, который он просматривал до прихода Погодина.
– А, именинный реестр! – Погодин улыбнулся. – И по всей канцелярской форме… Можешь украсить его именем Лермонтова, если только имя это может способствовать украшению. – Михаил Петрович бесцеремонно взял список из рук писателя. – Дай-ка и я для порядка гляну. Чай, все-таки хозяин дома… «Князь Петр Андреевич Вяземский, – читал он. – Михаил Семенович Щепкин, Михаил Федорович Орлов…» – Дойдя до этой фамилии, Погодин кисло улыбнулся. – Ну на что тебе этот превосходительный, но всеми забытый бунтарь? Ходит по Москве, как тень проклятого тысяча восемьсот двадцать пятого года, правда, ускользнувший от возмездия, словно и впрямь бесплотная тень… А дам-то, дам наприглашал, греховодник! – вдруг воскликнул Погодин. – Не букет, а целый цветник! Надобно и мне пойти прибраться к этакому торжеству…
– Ай да молодец Тургенев! – воскликнул Гоголь, оставшись один.
Только Тургенев мог разыскать в Москве проезжего человека, один Тургенев мог привести его, незваного, но желанного, на именины. Один Тургенев мог всякого уговорить.
Лермонтова не надо было уговаривать, хотя он только накануне доехал до Москвы. Чудом было бы, пожалуй, если бы он через час-другой не встретил вездесущего и всюду поспевающего Тургенева.
Гоголь всегда вспоминал о Тургеневе с теплотой. Это был тот самый Александр Иванович Тургенев, который когда-то хлопотал об определении Пушкина в Царскосельский лицей, а потом, единственный из друзей поэта, бросил горсть мерзлой земли на его гроб. Он был единственный, кому было разрешено проводить Пушкина в последний путь…
Пушкин! Никогда не исцелится от скорби своей Николай Гоголь… Пушкин! При имени этом он ниже опускает голову и прикрывает глаза.
Долго медлил Гоголь с приездом на осиротевшую родину: не мог представить себе Россию без Пушкина. Нет, никогда не исцелится он от этой скорби…
Так сидел именинник в мезонине, наедине с собой, отдавшись горестным воспоминаниям.
А на безоблачном майском небе вдруг появилась, неведомо откуда взявшись, быстролетная, захожая тучка. Туча растет и грозится захватить чуть не полнеба. За открытым окном встревожились птицы.
Николай Васильевич поспешил в сад. У накрытых столов суетилась прислуга. Все с тревогой поглядывали на небо: польет или не польет? Гоголь тоже поднял голову и долго взирал на незваную гостью. Потом осмотрел столы и, не отдав никаких новых распоряжений, отправился к повару. Здесь произошел последний, генеральный смотр. Николай Васильевич проверил, как заложена кулебяка, отведал соусов и подверг повара такому обстоятельному допросу, что повар, нанятый из Английского клуба, долго дивился осведомленности заказчика.
Между тем и следа вешней тучки не осталось на сияющем майском небе. Час званого обеда приближался.
Глава втораяИменинник расцеловался с Тургеневым, а Лермонтову крепко пожал руку.
– Встречались с вами, Михаил Юрьевич, у почтеннейшего Владимира Федоровича Одоевского.
– И на музыкальных собраниях у графа Виельгорского, – добавил Лермонтов, приветливо улыбаясь.
– Как же, как же! Очень помню. Даже завидовал вам, Михаил Юрьевич! Кто так умеет слушать музыку, тот приобщен к тайнам наслаждения ею. Я думал даже, что вы принадлежите к счастливым ее избранникам…
– Прошу простить, что взял смелость, Николай Васильевич, явиться к вам без зова. Оправдываю себя той мыслью, что так поступил бы на моем месте каждый.
Гоголь слушал внимательно и, когда кончил Лермонтов, сделал к нему движение, словно хотел его обнять. Чуть смутившись этого неожиданного движения, он кончил тем, что протянул Лермонтову обе руки.
– Отныне, надеюсь, будем часто встречаться на общем пути, как бы далеко ни раскидывала нас судьба. И разговор к вам, Михаил Юрьевич, имею… Однако милости прошу к столу!
Гости уже съехались, и автору «Мертвых душ» более не пришлось беседовать с автором «Героя нашего времени».
Николай Васильевич, приглашая собравшихся к закуске, еще раз окинул взором яства и пития. Именинный стол походил на искусную западню, которой никто не минует. К осетру теснилась белужина; сельдь всяких пород живописно играла вокруг жбанов с паюсной и свежей икрой; сыры, балыки, мясное составляли разнообразный фон, достойный кисти искусного живописца. Все предусмотрел хлебосольный именинник: кто проскочит мимо копченостей или рыбного, тот все равно попадется на сычуге, или рыжиках, или на ином солении… Нет, никто не сумеет пробиться без предварительных трудов к румяной, сочащейся кулебяке.
Гоголь почти не садился. Потчуя гостей, он аттестовал каждое блюдо таким замысловатым монологом, что вызывал общий хохот. Дальние гости прикладывали руку к уху и тщетно взывали к тишине. Но им отвечали только новым взрывом смеха – Николай Васильевич начинал похвальное слово какому-то диковинному, по собственному рецепту изготовленному соусу, который до сих пор, и совершенно несправедливо, оставался в тени…
С именинником состязался знаменитый московский актер Михаил Семенович Щепкин – лучший городничий, по мнению самого Гоголя. Щепкин, оглядывая стол, то начинал, играя вилкой, знаменитый монолог: «Я пригласил вас, господа, с тем…», то, кому-то подмигнув, требовал бутылку-толстобрюшку…
Тосты, сменявшие друг друга, были кратки. Каждый знал, что Гоголь пуще смерти боится торжественных речей.
– Поднимем бокалы за именинника, за его здоровье и за русскую словесность…
Михаил Николаевич Загоскин, изловчась, первый чокнулся с виновником торжества. Да и кому мог уступить право первородства именитый романист? По благодушию своему, казалось, забыл Михаил Николаевич давнюю обиду, когда щелкопер Хлестаков, по воле Гоголя, объявил себя автором знаменитого загоскинского романа «Юрий Милославский». Да и стоит ли обижаться? С тех пор написал Михаил Николаевич новые романы – и «Рославлева», и «Аскольдову могилу», и «Тоску по родине»… А их уже не присвоит никакой Хлестаков, шалишь!
Едва чокнулся с именинником Михаил Николаевич, как Гоголь, чуть поведя на Загоскина бровью, пошел с бокалом в руке к поручику пехотного Тенгинского полка, сидевшему в отдалении.
– За первопрестольную столицу нашу Москву! – звонким голосом провозгласил между тем нетерпеливый Константин Аксаков, и глаза его сверкнули: пусть найдется дерзкий, который равнодушно отнесется к боевому кличу!
Пили за Москву. Выпили, казалось, дружно, но не в первый раз обнаруживались за столом оттенки во мнениях.
Константин Аксаков видел в мечтаниях Москву, долженствующую стать хоругвью новой веры.
– За Москву и москвитян! – поддержал пылкого застрельщика профессор Погодин.
Михаил Петрович твердо знал, что стоит в преддверии жестоких битв. Для того и задуман новый журнал и найдено ему боевое название – «Москвитянин».
– За Москву! – зычно повторил Михаил Петрович. – И да будут святы в ней наши древлеотеческие предания…
Он дружески протянул бокал к князю Вяземскому. Петр Андреевич, беседовавший со Щепкиным, чокнулся с Погодиным, не придавая никакого значения внутреннему смыслу его слов. Вяземскому больше всего хотелось проведать что-нибудь новое о «Мертвых душах», но именно о них и не было произнесено ни слова за именинным столом.
Неподалеку на старика Аксакова наседал Загоскин.
– А я говорю, Сергей Тимофеевич, и повторяю: какая словесность может быть без религии? – Именитый писатель кинул мимолетный взгляд в ту сторону стола, где сидел поручик Лермонтов. – Первая наша задача, – Загоскин отпил из бокала, в который постоянно подливал, и не торопясь закусил, – первая и важнейшая наша задача состоит в том, чтобы при всяком удобном случае напомнить читателю: земная наша жизнь есть не цель, но только средство к достижению вечного блаженства. – Загоскин опять отхлебнул.
Сергей Тимофеевич Аксаков согласно кивал головой, но плохо слушал – он издали любовался сыном. Константин, точно, был хорош: истинно русский богатырь, кровь с молоком… По обыкновению, он с жаром что-то говорил, широко взмахивая могучей дланью. К сожалению, старик Аксаков не мог расслышать, о чем именно говорил сын. А тут снова помешал говорливый Загоскин.
– Если мы истинные православные христиане, – жужжал он, – то по благодати божьей мы и знаем все, что можно и должно знать, не скверня мысль свою Гегелем или прочей немецкой мерзостью, а равно сочинениями наших крикунов, – и снова бросил Михаил Николаевич колючий взгляд на дальнюю сторону стола.
Между тем именинник был по-прежнему неутомим в своем радушии и хлебосольстве. Он обходил гостей, ревниво наблюдая за каждым, кто малодушно пасовал перед новым блюдом, являвшимся на столе.
Едва отзвучали тосты за Москву, как бокалы вновь были наполнены. Николай Васильевич, вернувшись к своему месту, легонько постучал ножом о тарелку.
– Господа! – Гоголь говорил негромко, но слова его были отчетливо слышны в наступившей тишине. – Тосты за Москву не кончены и никогда не кончатся, покуда стоит Белокаменная…
Охмелевший Загоскин хотел было перенять слово, но вдруг замолк, уставившись на Щепкина. Тот сидел как ни в чем не бывало, хотя это именно он, вовремя и ловко, надавил под столом Михаилу Николаевичу на любимую мозоль.
– Еще не кончены тосты за Москву, – продолжал Гоголь, – и далеко не все бокалы выпиты в ее честь. Но не приняла бы, думаю, наших речей матушка Москва, если бы мы забыли о наших петербургских гостях. Широкому сердцу Москвы дороги все сыны России, служащие ей правдой и талантом во всех городах и весях… Господа! Здоровье дорогих гостей нашей матери Москвы!
Он подошел с бокалом к Вяземскому.
– Хитрец! – тихо сказал ему Петр Андреевич. – Но нимало не обольщаюсь: вижу, кому между нами, петербуржцами, ты хочешь отдать первую честь.
И следом за Гоголем Вяземский сам пошел чокнуться с Лермонтовым, но им перебил дорогу проворный Загоскин.
– Исполать тебе, талант могучий! – напевно говорил Михаил Николаевич, ударяя бокалом о бокал Лермонтова. – А старости нашей – радоваться не нарадоваться, глядя на вертоград младости…
– Не силен я в библейском красноречии, Михаил Юрьевич, – говорил поэту Вяземский, когда Загоскин нетвердо пошел к своему месту, – и московским хитростям не обучен. Одного хочу пожелать вам – скорейшего и благополучного возвращения с Кавказа. Думаю, что тем самым выражу лучшие пожелания и нашей поэзии…
Обед шел к концу. Потом варили жженку. Управлял церемониалом со всей необходимой серьезностью, конечно, сам именинник. Жженка удалась на славу. А может быть, то была самая обыкновенная жженка, но уверил всех в ее волшебных качествах верховный жрец священнодействия.
В саду веяло вечерней прохладой, когда на столе появился огромный, громкокипящий самовар и вокруг самовара бесконечной вереницей расположились сласти, печенья, варенья. Теперь общество украсили дамы, съехавшиеся после обеда, и всякий порядок за столом немедленно был нарушен. Именно дамы, презрев прозу чаепития, жаждали поэтических впечатлений.
Гости группами разбрелись по саду. Между деревьями легли легкие тени. Нежная зелень первой листвы словно растаяла в сумерках. Но тщетно взывала к тишине природа. И снова повинны были дамы. Их голоса, их смех слышались в аллеях.
Одна из дам завладела именинником. Она принадлежала к числу тех московских прелестниц, которые являются, бог весть как и почему, непременным украшением каждого собрания. А именины Гоголя, если еще принять во внимание таинственную историю каких-то «Мертвых душ», были событием совершенно выдающимся.
Дама, надежно взяв Гоголя под руку, прогуливалась с ним, назло всем завистницам. И кто бы узнал сейчас его, такого неисчерпаемого в шутках и присказках, каким он только что был за обедом!.. Разговор положительно не ладился.
– Ах, какое огромное дерево! – дама указала изящным пальчиком на одну из вековых лип. – А может быть, оно хранит страшные тайны?.. – И, отдавшись своим мыслям, она умолкла.
– Почему же непременно тайны? – растерянно спросил Гоголь. Он беспомощно оглядывался, надеясь на какую-нибудь счастливую выручку, но поблизости никого не было. Николай Васильевич с отчаянием глянул на раскидистую липу, привлекшую внимание романтической красавицы.
– Вообразите, сударыня, – начал он, – вообразите себе: вдруг из-за дерева выйдут музыканты…
– Но почему же именно музыканты? – удивилась дама.
– А почему бы и не быть музыкантам? – отвечал Гоголь, напрягая всю мощь своей фантазии.
– Николай Васильевич, я жду, – торопила литературная дама.
Гоголь еще раз глянул на дерево и, осененный неожиданной мыслью, выпалил:
– И вдруг грянет этакая волшебная музыка… – Он опять замолчал.
На повороте аллеи им встретился Лермонтов. Он еще никогда не видел такой растерянности и страдания на лице у Гоголя.
– Это тот самый? Дуэлянт? – спросила у Гоголя дама, едва они отошли на несколько шагов от поэта.
– Тот, – с коротким вздохом подтвердил Гоголь.
– Ну, а дальше, дальше, Николай Васильевич?
– А теперь он следует на Кавказ и… да сохранит его нам бог!
– Да я не о нем! – перебила дама. – Вы только что начали историю про музыкантов. Я ужасно любопытна знать!
– А… да… точно… вдруг выйдут из-за дерева музыканты… – тянул Николай Васильевич.
– Я это уже слышала.
– И, представьте, начнется необыкновенная, неслыханная музыка…
– Слышала, слышала! А потом?..
Спутница сгорала от нетерпения: ей посчастливилось первой узнать новый прожект Николая Васильевича! Сколько можно будет ездить по Москве с такой новостью!.. Дама заходилась от любопытства. Но несчастный спутник так ничего больше и не мог придумать об этих проклятых, навернувшихся на язык музыкантах. Не уродил его создатель дамским угодником…