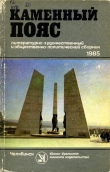Текст книги "Каменный пояс, 1981"
Автор книги: Алексей Горбачев
Соавторы: Владимир Курбатов,Семен Буньков,Феликс Сузин,Владимир Чурилин,Александр Лозневой,Николай Рахвалов,Александр Тавровский,Павел Матвеев,Виталий Понуров,Василий Наумкин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Иногда появлялась пожилая женщина, под наблюдением дневального убирала в доме, стирала белье. Однажды Семен столкнулся с нею во дворе, когда она выносила ведро помоев. Он улыбнулся приветливо. А она обожгла его таким тяжелым взглядом, что Бекетов мог запросто превратиться в пепел. Семен испуганно отпрянул и поспешил в свой флигель. И весь день тяготил его этот взгляд. В душе он считал себя честным человеком, нечаянно попавшим в беду, непричастным к полицейской своре. А женщина судила его по одежде, одежда-то на нем полицейская, запятнанная в крови. Называли полицаев презрительно бобиками: гавкали на людей и лизали хозяйские сапоги. Если бы только гавкали, но ведь и кусались до крови. Сколько презрения вложено в слово это – бобик!
Промучился Семен возле дядюшки зиму. Весной ему выдали автомат и стали брать на акции. Первой для него была облава на лесопилке. Однако ничего подозрительного тан не обнаружили, хотя кто-то донес – прячутся партизаны.
Хмара застрелил поросенка прямо в луже посреди широкой улицы поселка. Прихватил за задние ноги и бросил в телегу. Из дома выскочила старуха с развевающимися седыми космами, погрозила Хмаре кулаком, предавая анафеме. Полицай широко расставил ноги, положил руки на автомат. Старуха остановилась. Хмара равнодушно и медленно перевел автомат в боевое положение, вот-вот надавит спуск. Старуха, сразу онемев, попятилась. Бекетов подскочил к Хмаре и, дрожа от негодования, крикнул:
– Ты что, спятил?!
Хмара так же равнодушно и медленно вернул автомат в исходное положение и, сплюнув, сказал невыразительно:
– Другой раз, хмырь, пришью тебя. А на первый гуляй отседова!
Вместе с немцами прочесывали лесной массив. Постреляли малость, для видимости. У Семена сердце придвинулось к горлу и билось гулко-гулко. Прыгнуть бы за кустик, притаиться… Но не прыгнешь и не затаишься, если идешь в середине цепи полицаев. Для них-то мосты назад сожжены, им терять нечего. И нет у Семена товарища, каким был Федор Бирюк. А что бы сделал Федор? Этот бы обязательно сиганул, этого бы и канатом не удержали. Впрочем, Федор ни за что бы не принял из чужих рук чужое оружие.
Полицаи побаивались Бекетова, одно родство с начальником что значило. Лебезили. Только Иван Вепрев не скрывал своей неприязни. Скалил крупные зубы, цыганистые глаза его посверкивали, усмехался:
– Племянничек у начальника… Завиты веревочкой.
Попадись ему Семен на узкой тропочке, душу вытрясет с удовольствием. Чем Бекетов провинился перед ним? Вепрев подался в бега зимой. Что-то на него Хмара зуб заимел, автомат отобрал, под арест собирался посадить. Вепрев чуда ждать не собирался, знал, что его не будет. И исчез.
Кудряшов приветил смазливую разбитную бабенку с молокозавода – Клару. Родители, конечно, ничего худого не видели в том, что нарекли дочь таким именем. А она теперь утверждала, что в ее жилах течет арийская кровь. К Митрофану Кузьмичу в пятистенник ныряла тайком. Закатывали пиры до утра. Она-то и сказала Кудряшову, что подозрительной ей кажется Настя Карпова. Монашку из себя строит, недотрогу. Одному полицаю пощечину влепила, когда он облапил ее. Да разве так по нынешним временам можно вести себя? И в Кораблики через неделю бегает. Говорит, в баньке попариться да белье постирать. А в Покоти бань нет? Постирать нельзя? Еще бы ладно, коли кто-то там в Корабликах был. А то ведь никого!
Как ни осторожно вела себя Карпова, а от Клары не убереглась. Свои наблюдения записывала на клочке бумаги и надежно прятала в доме, где квартировала. А на этот раз будто бес подтолкнул – побежала на смену и записку в сумку спрятала. Думала сразу с завода махнет в Кораблики, не забегая на квартиру. Клара уже давненько проверяла содержимое Настиной сумки, но ничего не находила. А тут! Бегом к Кудряшову, по закоулкам да огородам, чтобы не попадаться на глаза людям.
Настю схватили за околицей, в сумерки. Никто и не видел, как это произошло. Кудряшов потирал руки: наконец-то, удача! Но Настя Карпова наотрез отказалась с ним разговаривать. Тогда из города прикатил гестаповец Функ, Кудряшов предложил подкинуть для партизан наживку: пустить слух, будто Карпова путалась с ним, начальником полиции, забеременела и сбежала в Кораблики от стыда подальше. Там, говорят, есть бабка, которая делает аборты. Не может быть, чтобы партизаны не клюнули. Функ вприщур поглядел на Кудряшова и сухо кивнул головой: «Гут!».
Засадой в Корабликах руководил сам Кудряшов. Его-то Степан Мелентьев и принял за немецкого офицера, когда таился с Илюшей в овражке.
Участвовал в засаде и Семен Бекетов. Одного партизана полицаи убили. Хотя Кудряшов надорвал глотку, крича:
– Живьем брать, живьем!
Какое там живьем, отчаянный попался, пятерых положил.
Живьем взяли Ивана Вепрева. Это Хмара и Лешка Лебедев подкрались к нему с тыла и навесили фонарей.
В полицейской управе Кудряшов восседал за массивным столом. Перед ним стоял избитый до полусмерти Иван Вепрев, ноги у него подкашивались, но Хмара все-таки держал его за шиворот.
– Ну! – грозно свел у переносья брови начальник полиции. – Допрыгался, кузнечик?
Вепрев тихо, но внятно ответил:
– Скоро и ты допрыгаешься, господин начальник.
– Я-то еще когда, а ты уже готов, накрылся. Сидел бы ты, Вепрев, у меня и не брыкался, жив бы остался. А тебя к бандитам потянуло. Теперь тебе верная петля.
– Это ты бандит, Кудряшов, и вся свора твоя бандиты.
– Ишь ты! – усмехнулся Кудряшов. – Скоро же ты скурвился. Гляди, как красный агитатор, шпаришь. Эх, дырку бы тебе во лбу!
– Давай!
– Ишо малость погожу.
Бекетов вовсе не хотел присутствовать на допросе, но дядюшка приказал – быть! Все хочет в свою веру заманить. А Семен поражался Ивану Вепреву. Как это он его не разгадал раньше, вместе бы мотнули в лес. И теперь знает, что будет делать. Обязательно попросится в караульный взвод и, когда придет черед стоять на часах у подвала, уведет Вепрева в лес. А там еще повоюем!
В полночь Бекетов сменил на часах Хмару. Ночь теплая, звездная. Пьяные полицаи орали песню про бродягу, который бежал с Сахалина. Пусть себе орут. Это даже хорошо: отвлекают внимание тех, кто сейчас не спит. Того же часового, что ходит на улице у дома. И патрулей.
Семен волновался. Сегодняшняя ночь должна круто повернуть его судьбу. Если удастся с Вепревым, значит, жизнь снова обретет смысл. А что может помешать?
Тихо плывет летняя ночь над Покотью. Мигают в синем небе звезды. Сонно шелестят в огороде листвой березы. Спят Кудряшов и его верный пес Хмара. Мается в заточении избитый Вепрев, попавший в беду. Он и не ведает, что скоро придет к нему избавление.
Семен тихонько пробует запор. Тот легко подается и не скрипит. Прислушался. Все еще веселятся полицаи. Не поют, а бурно, с матом о чем-то спорят. Бекетов открыл дверь и вошел в подвал. Сыро и душно. На ощупь, держась за стенку, спустился вниз. Вепрев застонал.
– Тихо, Иван, – предупредил Бекетов и зажег спичку. Вепрев сидел, привалившись спиной к сырой каменной стене.
– Кто? – прохрипел он.
– Бекетов. Пришел за тобой. Бежим, Иван.
Вепрев молчал.
– Ты меня слышишь? Бежать надо в лес, к своим. Я тебе помогу.
Вепрев молчал.
– Очнись, ради бога! Время идет! Пойдем к партизанам. Ты дорогу укажешь, у меня автомат. Пробьемся!
Семен снова засветил спичку и встретил тяжелый, полный ненависти взгляд Вепрева:
– Прочь, племянничек начальника!
– Да ты что?
– Ползи обратно, провокатор. Думаешь, клюну?
– Да я ж к тебе с открытой душой. Иван! – чуть ли не плакал Бекетов. – Я сам ненавижу полицаев и всю немецкую сволочь!
– Не трать, кума, силы… Хочешь в отряд внедриться, а меня в помощники? Грубо работаешь, Бекет!
– Ты бредишь, Иван.
– Мотай отсюда, а то закричу.
Все рухнуло. Семен, как приговоренный к каторге, тяжело поднялся наверх и привалился спиной к двери. Вот она, цена полицейского мундира. А он, Семен Бекетов, за какие грехи должен страдать? За что?!
6. На Егозе
Алена Мелентьева, как началась война, устроилась на завод, выучилась на токаря. Когда осилила норму, выточила деталей больше, чем по наряду, мастер велел остановить станок, поздравил с первой победой и, глядя на молодую женщину поверх очков, сказал:
– Поимей в виду, голубушка, станок этот для тебя особенный.
– Чем же, дядя Сережа?
– А тем – муженек твой на нем трудился.
– Правда? – зарделась от радости Алена. – А я и не знала.
– Теперь вот знай! Не хотел раньше сказывать, чтоб ты горячку не порола. А теперь можно, теперь ты маху не дашь. Слышно о нем что-нибудь?
Алена погрустнела, глаза повлажнели, дрогнули губы.
– Ну, обойдется. У меня от старшего тоже ни слуху ни духу. Объявятся, никуда не денутся.
– Ой, стреляют же там, дядя Сережа. Да еще бомбят.
– Это, конечно. А наши кыштымские ребята хваткие, ко всему привычные, малость похитрей других-то, а?
Алена улыбнулась.
Авдотья Матвеевна после отъезда Степана в армию заскучала. Иногда делает что-нибудь – тесто месит, в избе убирает или варежки вяжет – вдруг остановится и уставится в одну точку. Алена боялась, когда свекровь замирала вот так-то. У нее тогда и взгляд делался отрешенным. Так с ума сойти недолго. Заметив, что Авдотья Матвеевна снова впала в задумчивость, Алена осторожно, чтобы не напугать ненароком, подкрадывалась к ней и говорила:
– Мама, вам нездоровится?
Авдотья Матвеевна повернет к ней голову, еще ничего не видя, и вдруг очнется. Виновато вздохнет и скажет:
– Чей-то муторно на душе, Аленушка.
– Да с чего бы это? От Степана вчера письмо было.
– Слышу будто голос мужа, явственно слышу. А его, почитай, двадцать годков как нету. Степанка-то без отца рос. Вроде бы зовет, зовет к себе.
– Полно вам, мама, глупости какие-то.
– Может, и глупости, а вот зовет. Пора, видно, в путь собираться…
С рождением Иванки Авдотья Матвеевна повеселела, вроде бы десяток годков скинула с плеч. Алену к сыну не подпускала, разве что покормить грудью отдаст. Мыла, холила, баюкала внука. По ночам, когда Иванка плакал или не спал, бдела у зыбки. О всех своих болестях начисто забыла.
А тут война. Забрали в армию старшего сына Анатолия. Прибегал проститься. Стриженный наголо, бледный, растерянный. Алена пожалела его. А пожалев, невольно подумала: как же такому забитому на войне? Много ли он навоюет?
Немного навоевал Анатолий Мелентьев. Однажды вечером, уже глубокой осенью, прибежала к Авдотье Матвеевне старшая невестка, растрепанная и зареванная, и с порога завыла:
– Уби-ил-и-и… Толю уби-или-и!
До смерти перепугалась Авдотья Матвеевна. Иванка заплакал. Алене горло перехватила спазма. И вспомнила она о том, что плохо подумала об Анатолии, когда приходил прощаться. Даже похолодела: неужто предрекла ему конец? Сглазила? И мучилась от этой нечаянной, но надоедливой мысли, понимая, что это бред, сплошная чепуха. И думала о Степане, неужто и его тоже нет?
А от Степана ни строчки, ни полстрочки. В огненной пучине войны гибли города, а что человек? Песчинка!
Авдотья Матвеевна, когда наступало время идти по улице почтальону, выходила за ворота и ждала, скрестив на груди руки. А почтальон, знакомая пожилая баба с соседней улицы по имени Клава, проходила мимо, кивком головы приветствуя Мелентьиху. Авдотья Матвеевна вздыхала. Иногда спрашивала:
– Клав, от мово опять ничего?
– Ничего, Матвеевна.
– Может, ты куда засунула да забыла?
– Господь с тобой, рази так можно?
– А в конторе-то вашей письмо, случаем, не затеряли?
– У нас такого не бывает.
– Или в дороге где оно сгинуло? – словно самою себя спрашивала Авдотья Матвеевна. Клава торопливо соглашалась:
– Во-во! Задержалось. Поезда-то по нонешним временам ишь как неаккуратно ходят.
Иванка ходить начал, веселее стало с ним. И легче. Маму и бабу звать научился. Что ни день, то новость. Зубки дружно полезли, волосенки весело закучерявились. Вылитый Степан, такой же крупный будет. Алена как-то сказала об этом свекрови. Та, пожевав губами, не согласилась:
– Ить как тут определишь сейчас? И твоя кровинка в нем заметно играет, – чем несказанно обрадовала Алену. Говорят, что невестке всегда трудно со свекровью, что мир их не берет. Даже в поговорку вошло: «И чего ты ворчишь, как свекровушка!» А вот Алене с Авдотьей Матвеевной легко. И ворчала та, конечно, но по делу и не со зла, от доброго сердца учила житейской мудрости. С родной матерью у Алены такого ладу не было. Мария Ивановна, бывало, рассердится на дочь по пустякам, неделями ее не замечает, пока сама Алена не поклонится матери.
Сентябрь второго военного года наступил теплый, со светлыми паутинками. У Мелентьевых в огороде какой-то злодей картошку подкапывал по ночам. Проснутся утром, глядь, опять два или три гнезда разорили.
– Давай-ка, девка, скорее уберем, а то останемся на бобах, – сказала Авдотья Матвеевна. Алена отпросилась у Сергея Сергеевича. На такие дела освобождение всегда давали.
Принялись за картошку. День полыхал солнцем и был безветренным. Иванка то забавлялся картофелинами, то дергал пожухлую ботву. Силенок не хватало еще, и Иванка смешно сердился. Подходил к матери, хватался за черенок лопаты, требовал, чтоб и ему позволяли копать.
– Вот негодник, – ворчала бабушка незлобиво. – Чего матери-то мешаешь? А ну, подь ко мне!
Иванка с великой радостью семенил к ней. Алена работала споро, торопилась управиться поскорее, потому что мастер отпустил ее всего на один день. И вдруг насторожилась: не слышно Авдотьи Матвеевны, примолк Иванка. Оглянулась. Свекровь лежала на левом боку на ворохе ботвы, рука неестественно откинута, нога неловко подвернута. Иванка играл возле нее – пересыпал землю с места на место. Почуяв недоброе, Алена кинула лопату и подбежала к свекрови. Та была мертва.
Жила Алена за спиной Авдотьи Матвеевны, как за каменной стеной. Горя не ведала, забот с Иванкой не знала. А тут осталась одна. Попросила младшую сестренку Люську понянчиться с сыном. Сама прямым ходом в завком – ребенка оставить не с кем, в ясли бы… В войну детишек рождалось мало, перед войной тоже негусто. Так что устроили Иванка в ясли без лишней волокиты. Теперь Алена с работы забегала за сыном, возилась с ним вечер, разговаривала, как со взрослым. А он ластился к матери и частенько засыпал у нее на руках. Она укладывала его в кроватку и сама забиралась под одеяло. Погасит свет, а заснуть не может. Тоска навалится, хоть волком вой. А слез нет. Второй год громыхала война, сколько людей унесла. А Степан разве заговоренный? И сама себе упорно возражала – заговоренный, заговоренный! Это я его от всех напастей заговорила! Не сгинул Степан, а пропал без вести. Значит, найдется. Вон у Щербаковых на Кольку похоронка пришла, а он сам явился. Правда, инвалидом, но живой!
Нету рядом Авдотьи Матвеевны… Мать ненадолго пережила ее. Фроська бесстыдно стала гулять с военными, которые приезжали в командировки. Сегодня с одним, завтра с другим. Алена забрала Люську к себе.
В августе, когда в Москве отполыхали первые салюты в честь Орла и Белгорода, заболел Иванка. Температура поднялась. Алене дали освобождение на два дня.
Был вечер. За Сугомак-горой догорал закат. На востоке, за Челябской горой, собирались грозовые тучи, их полосовали белые молнии. Алена спешила домой из аптеки, куда бегала за лекарством, боялась, что в пути ее настигнет гроза. Миновала безлюдный проулок, перекресток. До дома оставались сущие пустяки, один околодок. По косогористой улочке двигался солдат. Солдат как солдат – в гимнастерке, галифе, в пилотке, но на костылях. У него не было правой ноги. Костыли переставлял старательно, еще неумело, но довольно быстро. В какой-то миг Алена догадалась, что солдат держит путь к ее дому. Степан?! Сразу стало душно. Сердце подскочило к горлу, вот-вот вырвется из груди. Нет, не Степан, кто-то другой. Но очень знакомый.
Солдат добрался до калитки и уверенно открыл ее. Алена рванулась вперед, задыхаясь от волнения и бега. Ворвалась в дом, как вихрь, и ослабла. Гошка Зотов примостился на табуретке, костыли приставил к стене. Люська глядела на него во все глаза и мучительно молчала. Иванка остановился у костылей, разглядывая диковинные палки. Потрогал рукой. Костыли качнулись и грохнулись на пол. Иванка испугался, но не заревел. Зотов покачал головой и спросил:
– Как тебя зовут?
– Иванка.
– Выходит, Иван Степанович Мелентьев.
Люська подхватила племянника и унесла в горницу.
– Здравствуй, Гоша, – тихо сказала Алена. Он ведь и не заметил, как она появилась. Зотов поднялся, оперся рукой о стену. Алена уронила ему на грудь голову и заплакала. Теперь уж никто не пошлет ей огненного привета с Егозы. Гошка отшастал по горам, а Степана нет. Зотов гладил ее по голове и приговаривал:
– Ладно, ладно, чего ты, в самом деле…
Алена уложила спать Иванку и Люську, поужинали вдвоем. Гошка поведал ей о своих скитаниях.
– Попал я, понимаешь, на Дальний Восток. Часть квартировала недалеко от границы. Вот, скажу тебе, край! Красотища! Горы сопками зовутся, а похожи на нашу Егозинскую. И богатимо там! Травы во – по плечу. Изюбры, в смысле дикие олени, фазаны, тигры даже!
– Ойиньки! – удивилась Алена.
– Точно! А рыбы! На вид лужа, перепрыгнуть можно запросто. А черпнешь сетью, полна, понимаешь. И чего только нет – и сомы, и щуки, и ратаны, в смысле черныши. Уже в войну меня командир как-то спрашивает: «Зотов, ты откуда?» – «С Урала», – говорю. – «Там ведь тоже горы?» – «Горы, товарищ командир». – «И дичь водится? – «А как же», – говорю. – «Охотиться умеешь?» – «Само собой. Мы с закадычным дружком Степой Мелентьевым все горы обошли. В глаз белке попасть могу!» – «Бери винтовку, иди в сопки и подвали изюбра». – «Слушаюсь, товарищ командир!» Паек у нас, сама понимаешь, не фронтовой. На ремнях каждый месяц новые дырки сверлили. Взял винтовку и пошел. Егозу вспомнил, Степана. Охотился-то больше он, а я филонил. Ворон стрелял. Иду, значит. Трава по плечи, как по джунглям пробираюсь, гляжу – изюбр скачет. Прыгнет – видно, приземлится – нет. Выждал, когда он подпрыгнет, и вдарил. С первого раза. Это что движущаяся мишень. Суп сварганил, м-м-м… С тех пор и сделали меня ротным охотником. Ребят кормил, себя не обижал.
– Вы же со Степой с малых лет ружьями баловались.
– В том и дело. А на фронтах беда. Наши отступают и отступают. Терзаюсь, понимаешь: Степа воюет, а я изюбров промышляю. И рапорт командиру взвода – так и так, мол, прошу отправить на фронт. А он мне пять нарядов вне очереди.
– Это за что же?
– Слушай дальше. Я к командиру роты – так и так, мол, хочу на фронт. Он мне пять суток губы.
– Какой губы?
– Этой самой, гауптвахты, арестовал, значит, на пять суток. Отсидел положенное и к командиру батальона – так и так, мол, отправьте меня на фронт, хочу фрицев колотить. Комбат и говорит: «Вот что, красноармеец Зотов, пойдем-ка со мной, кое-что тебе покажу». А что оставалось делать – пошли. Привел он меня на пограничную заставу, а там разрешили нам подняться на сторожевую вышку. Поднялись мы, значит, комбат дает мне бинокль и говорит: «Погляди на ту сторону». Приложил я бинокль к глазам – мама родная! Там полным-полно япошек, что тебе муравьи туда-сюда снуют, и все с оружием. Пушки и даже танки видать, не стесняются показывать. Это у них тут военный поселок. А сколько их таких вдоль границы? Забирает у меня комбат бинокль и спрашивает: «Видал теперь?» – «Так точно, товарищ командир!» – «В этом весь гвоздь, красноармеец Зотов. Против нас их тут целый миллион, армия такая, Квантунская называется, специально на нас готовят. Ты уйдешь на фронт, я уйду, разве мне туда не хочется? Еще как хочется! А самураи и попрут. Тогда что? И запомни, красноармеец Зотов, у нас здесь не легче, а труднее. А что сейчас видел, передай своим товарищам, чтоб они ко мне с рапортами не лезли!» – Успокоился немного, нельзя ж оголять границу. Крикни – кто хочет на фронт? Весь батальон поднимется, а нельзя. Тут под Сталинградом началось. Тревожно у нас было. Япошки ждали. Отдадут наши город, и они наверняка полезут. Мы круглосуточно под ружьем. А когда Паулюса-то окружили, и у нас обмякло малость. Некоторые подразделения на запад занарядили. Наш батальон тоже. Катили на запад по «зеленой улице», день и ночь, только ветер свистел. Прибыли под Сталинград, а там уже кончилось, Паулюс сдался. Нас – на Ростовское направление. Из эшелона прямо в бой, сразу в атаку. Меня миной шарахнуло. И часу в бою не был. По ногам стегануло, папу с мамой забыл, как зовут, до того тяжелый был. Одну вот ногу отпластали, а другую все же спасли. А то и ее хотели напрочь. С одной-то еще шкандыбаю на костылях. Куда бы без обеих-то?
Аленка всхлипнула.
– О Степе я тебе и рассказывать не знаю что. Пропал без вести. И вот Авдотью Матвеевну похоронила. Маму свою тоже. Так и живу, Гоша. Слезами да надеждами.
– Моего отца при бомбежке…
– Слышала.
– Батя у меня был хороший, добрый, только вот бесхарактерный. В БАО служил, в батальоне аэродромного обслуживания, значит, от передовой в стороне. Немцы бомбили аэродром, батя и не сберегся. С матерью у них всегда были нелады. А меня она снова куском хлеба попрекает. Мол, ногу на фронте потерял, орденов никаких не заслужил, пенсия так себе. Эх, не хочется и говорить. Не нужен я ей, калека…
– Сам проживешь. Красавицу подхватишь и заживешь!
– Кто за меня пойдет, Алена?
– Найдутся! Парень ты ничего, видный. А что ноги нет, так ведь не в ней дело-то, а в голове. А голова у тебя светлая.
– Не делай из меня икону, – улыбнулся Гошка.
– Твое при тебе останется. Что собираешься делать?
– Понимаешь, когда я на заставе побыл, что-то потянуло меня на стихи. Я даже сейчас не пойму, как у меня получилось, но получилось все же. Накропал стих и послал в дивизионку. И понимаешь, Алена, что самое чудное – напечатали! Так и пошло. Я нишу, а они печатают. Заболел я стихами. Вот и думаю, поеду-ка в Челябинск, в педагогический. Учиться буду, Алена. Чувствую, без хорошей грамоты стихи писать нельзя.
– Гош, дай я тебя поцелую.
– А Степан?
– Позволил бы! Ты же его друг закадычный. Был бы он только жив. Любого приму.
– Думаешь, сгинул?
– Что ты, Гоша. Жду!
– Как у Симонова, да? Жди меня, и я вернусь! Нет, не такой Степан Мелентьев растяпа, чтобы сгинуть!
– Спасибо, Гоша.
– А я проживу и без мамани, бог с нею. Пенсия есть. Паек положен. Стипендию, я думаю, дадут. Выучусь, а там поглядим!
Не было у Степана друга ближе, чем Гоша. У Алены потеплело в груди.
– Плачешь! – всполошился Гошка.
– Плачу, Гоша. Ты веришь, что Степан жив?
– Да ты что? Сомневаешься?
– Спасибо! Раньше я одна верила. Теперь знаю, что нас двое. Это надежнее, Гоша. Когда уезжаешь?
– Завтра.
– Меня не забывай. Степан объявится, сообщу.
Через несколько дней после отъезда Зотова Алена получила казенное письмо. Авдотья Матвеевна, незадолго до своей смерти, посоветовала написать письмо в Москву: не ведают ли там что-нибудь о Степане Мелентьеве? Алена удивилась наивности свекрови:
– Кому же, мама?
– Как это кому? Товарищу Ворошилову.
– Что ты, мама, разве у товарища Ворошилова мало солдат? Миллионы же! Он что, должон всех знать?
– Нет, не должон. А помощники должны.
Писать письмо Алена тогда не стала. Но вот умерла Авдотья Матвеевна, на душе больно спеклась грусть-тоска неисходная, прямо невмоготу. Тогда-то вспомнила Алена разговор о письме и решила – а, была ни была! – напишу. Чего теряю? Попытка не пытка. Сочиняла письмо два вечера. С замирающим сердцем и надеждой отнесла на станцию, сунула в почтовый вагон пассажирского поезда.
И вот пришел ответ. Алена торопливо разорвала конверт, руки дрожали, когда разворачивала плотный лист бумаги.
«Ваш муж, Степан Николаевич Мелентьев, в настоящее время проходит службу в такой-то воинской части».
Алена глазам не поверила. Значит, жив?! Раз проходит службу, выходит, живой и здоровый?! Алена заплакала, замочила горючими слезами казенную бумагу. А когда первое возбуждение улеглось, недоуменно подумала: коли жив, если проходит службу, то почему же за два года не написал ни единой строчки, не подал весточки?
7. Налет
Капитан Юнаков, слушая доклад Мелентьева, катал крупные тугие желваки и холодел глазами. Илюша Хоробрых топтался за широкой спиной взводного и маялся неизвестностью: какое решение примет капитан? Иногда он бывал вспыльчив. Как-то за самый малый проступок отстранил Илюшу от участия в вылазке на «железку», как бы дав этим понять, что он, Илюша Хоробрых, боец второсортный, без которого вполне можно обойтись.
Когда Мелентьев замолчал, капитан спросил:
– Влипли основательно, так я понимаю?
– Кто ж мог подумать?
– Как кто? Ты! Опытный разведчик и такая накладка! Задание-то не выполнили!
– Так ведь, товарищ капитан…
– Никогда не поверю, – перебил Степана Юнаков, – чтобы опытный разведчик не обнаружил крупную засаду. Нюхом, наконец, ты ее должен был почуять! Нюхом! Прояви осторожность и наблюдательность – и не попал бы впросак. Это расплата знаешь за что?
– За что?
– За самоуспокоенность и зазнайство. Других слов не подберу. Сплошные удачи, вот и возомнили о себе. Мол, шапками закидаем. Двух бойцов потеряли? Потеряли. Сами чуть не влипли.
– Товарищ капитан! – обиделся Мелентьев. – Да мы там четверых положили, а пятый утек.
– А могли бы влипнуть, – жестко проговорил Юнаков. – Средь бела дня полезли в деревню. Это ваше счастье, что те полицаи оказались лопухами, а то бы остались вы вместе с товарищем Хоробрых в тех самых Корабликах!
– А мы и так осторожничали! – не ко времени встрял в разговор Илюша.
– Адвокат! – усмехнулся Юнаков. – Да еще непрошеный! Ты, Хоробрых, забыл, что в присутствии командира можно говорить только с его разрешения?
Илюша вздохнул: ну вот, опять напортил. Но реплика Хоробрых сбила капитана с сердитого тона, и он мирно закончил:
– Хорошо, пусть будет по пословице: за одного битого двух небитых дают. Но на будущее учти!
– Слушаюсь, товарищ капитан!
О неудачной вылазке в Кораблики Юнаков доложил товарищу Федору. Присутствовали при этом комиссар Костюк и начштаба майор Любимов. Капитан ожидал нагоняя, выговора, но товарища Федора удивила наглость полицаев.
– Скажи, пожалуйста! – проговорил он. – Целую роту на четырех партизан?
– Они же не знали, сколько нас придет.
– А что тут мудреного, можно и догадаться, что отрядом туда не полезем. Частное дело. Кудряшов хотя и наглый, но трус. Надо бы его проучить. Что, комиссар, не пора ли нам размяться?
– Пора! – согласился комиссар.
– Судя по донесениям, в Покоти немецких подразделений нет, не считая нестроевиков на молокозаводе. Фашисты увязли под Орлом, им не до нас. Рискнем, капитан?
– Так точно!
– Единодушно! – улыбнулся товарищ Федор и повернулся к Любимову:
– Давай, майор, обстановку.
– Гарнизон в Покоти полицейский, – сжато начал Любимов. – На молокозаводе до полуроты немцев-нестроевиков. На восточном и западном входах в райцентр дзоты. В ночное время центральная улица патрулируется. Полицаи, их две роты, занимают школу.
– Интенсивность движения по большаку?
– Плотная днем. В ночное время почти прекращается: боятся засад. Опоздавшие ночуют в населенных пунктах. В Покоти тоже. Вероятность этого нужно предусмотреть.
– Пишите, майор. Взводу Сидоренко оседлать тракт с восточной стороны, взводу Наумова – с западной. Задача – любой ценой не пропускать в Покоть никого, пока мы будем там. Ротам Молчанова и Глушко атаковать казарму и молокозавод. Тебе, капитан, поручаю Кудряшова и управу. Время операции назначу позже, когда доложу о ней штабу фронта. Непосредственное руководство беру на себя, комиссар и начштаба остаются в лагере. Вопросы?
Вопросов не было. Товарищ Федор мог с закрытыми глазами пройти Покоть с одного конца в другой: прожил там много лет. Отчетливо представлял одноэтажное кирпичное здание школы. Если потерять элемент внезапности, то выкурить оттуда полицаев будет нелегко, неизбежны большие потери. А основное здание молокозавода сложено из дикого камня, стены и пушкой не прошибешь.
Юнаков и Мелентьев в Покоти ни разу не были и не представляли, где расположено обиталище Кудряшова. Им было лишь известно, что у ворот всегда маячит часовой, во дворе дежурит дневальный, а во флигеле обитают два полицая, приближенные начальника полиции.
Капитан вызвал из второго взвода Толю Столярова, дал ему лист бумаги и карандаш, свой планшет, чтобы удобно было писать, и сказал:
– Нужен план Покоти. Сможешь изобразить?
– Чего проще! – весело ответил Толя, выросший в этом поселке. Художник-чертежник из него оказался не ахти какой, но с заданием он справился прилично.
– Это большак. Вдоль него центральная улица. Это – школа, где теперь казарма для полицаев. Живут, черти, в школе и думают, будто ума-разума набираются…
– Без лирики, Столяров!
– Есть, без лирики! Вот это управа. Райком и райисполком бывшие. Эх, перед войной гаражик сгрохали, я ж, товарищ капитан, секретаря райкома возил на эмочке. Товарища Федора.
– По-моему, мы с тобой условились – без лирики!
– Извините! Видите квадратик, через большак от райкома? Это и есть халупа Кудряшова-голопупа!
– Неисправим ты, Столяров!
– А что такое, товарищ капитан? Это присказка, а не лирика.
– Какие подходы к райцентру со стороны реки?
– Неважнецкие. Голые бугры да овраги с рахитичными кусточками.
– А брод?
– Два. У Корабликов вот Мелентьеву впору, а мне нет. Я ж недомерок, меня и в шоферы не хотели брать.
– Столяров!
– Слушаюсь, товарищ капитан! Больше не буду. Второй ниже Корабликов. Тут мне по грудь. Как раз напротив оврага.
– Расстояние от реки до Покоти?
– От Корабликов пять с гаком. По оврагу на спидометр намотает верст семь.
В поход выступили засветло. Было пасмурно и ветрено. Сверху сыпалась надоедливая водяная пыльца. У реки сделали привал. Товарищ Федор собрал командиров и установил очередность переправы – штурмовые роты, потом взводы, которым предстояло оседлать большак. Замыкают разведчики Юнакова.
– Дорогу оседлаете лишь тогда, – предупредил товарищ Федор, – когда начнется бой, не раньше. Отход – три красных ракеты. Вы, капитан, – обратился он к Юнакову, – пошлите на западный берег двух-трех разведчиков. Коли там спокойно, пусть просигналят. И еще, капитан, обозначьте брод, чтоб никто не провалился в яму.
Смутно было на душе у Степана, никак не мог переварить неудачу в Корабликах. Лежали они с Илюшей под влажным кустом и покуривали втихаря. Чтоб огонек цигарки не озарял темноту, при затяжке укрывались плащ-палаткой с головой. Илюшу тоже задел выговор капитана. Несправедливо это. Что они могли сделать? Словно бы продолжая спор с Юнаковым, Илюша запоздало возразил вслух:
– Нюхом, говорит. Не собаки же мы. Правда, Степ?
– Не-ет, капитан все же прав, – вздохнул Мелентьев. – В Корабликах было пусто. Полдня проторчали на берегу, никто даже за водой не спустился, хотя бы какая-нибудь завалящая бабка с худым ведром появилась. Не было!