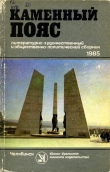Текст книги "Каменный пояс, 1981"
Автор книги: Алексей Горбачев
Соавторы: Владимир Курбатов,Семен Буньков,Феликс Сузин,Владимир Чурилин,Александр Лозневой,Николай Рахвалов,Александр Тавровский,Павел Матвеев,Виталий Понуров,Василий Наумкин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Благодарю, Степан Чумаков! Ты лучше, чем я полагал.
Его руку Чумаков не принял, не ответил и, горбясь, удрученно пошел по дороге к автобусной остановке. Вокруг мирно текла тихая деревенская жизнь, на каждом шагу что-то напоминало детство, молодость, но тотчас меркло и ускользало, и вместе с тем все глуше и глуше, как ветром относимое в даль, становилось минувшее.
Владимир Бухарцев
РОДСТВО
Стихотворение
Случалось, нет ли – я не знаю,
но пусть предания правы…
С Уральских гор, от Таганая
скрипел обоз к стенам Москвы.
Холодных звезд качались гроздья,
светились ямов огоньки.
В санях на кованых полозьях
везли железо мужики.
В Москву с Урала путь немалый:
эх, сколько верст и сколько дней!
Вези, лошадушка, не балуй,
гужи натягивай сильней.
И вот – Москва за перевозом,
в ней пахнет лесом и смольем,
и тает жесткий от морозов
дым над блистающим Кремлем.
И, поклонясь Москве устало,
рекли слова сквозь мерзлый пар:
прими от батюшки Урала
наш огнерожденный товар!
Вели себя, приехав, строго:
делились словом – то ль да се ль,
на купола молились богу,
с людьми водили хлеб да соль.
И разговясь косушкой водки,
согревшись в стуже снеговой,
рассказы дивные в охотку
плели про край далекий свой,
где дымом в небо дышат трубы,
где от плавилен ночь светла,
где от железа руки грубы,
где от огня душа светла.
И не в ущерб торговле мелкой,
стряхнув сосульки с бороды,
свои железные поделки
несли в торговые ряды.
С делами к ночи пошабашив,
сходились как бы невзначай,
в котлах варили щи да кашу,
со зверобоем пили чай.
И удивлялись московиты —
сие не виделось и в снах:
котлы из чугуна отлиты
и на железных таганах!
Еще Москва из бревен сшита
и редок в ней заморский гость,
тем дорог свой, в горах добытый,
дешевый, крепкий, знаменитый
топор и молот, серп и гвоздь.
И вспоминали добрым словом,
раденья мудрого полны,
тех мужиков в ряду торговом,
костры, котлы и таганы.
Нет, то не слава, не приманка —
обычай доброты таков.
Знать, с тех костров пошла Таганка,
с уральских, то есть, мужиков.
А так ли было – я не знаю,
ведь та пора прошла давно,
сродни ль Таганка Таганаю,
того мне ведать не дано.
И я не в праве в этом слове
искать далекого родства,
но пусть звучат сегодня внове
корнями схожие слова.
Их много, нужных и полезных,
и все они, сказать верней,
одних – рабочих и железных,
одних – мозолистых – корней.
Я с потаенных глубей поднял
и смысл, и суть, и естество
простого слова, что сегодня
зовется гордо: мастерство.
Я славлю труд, отлитый в гранки,
в нем слов родство найдете вы
любой обточки и чеканки,
любой отделки и огранки —
от Таганая до Таганки,
от Златоуста до Москвы.
Александр Виноградов
ВРЕМЯ
Стихотворение
I
У просеки грустно
Застыли борки,
Как будто у русла
Ушедшей реки.
Притоки тропинок —
Замшелый песок.
Иголки хвоинок,
Как стрелки часов.
Зацепишься взглядом —
Пенек-старичок.
Кольнет: неразгаданно
Время течет.
Безудержный хвойный
Пылит бусенец…
А волны, а волны
Годичных колец.
II
В березовом блеске
Атласной слюды
От грамот смоленских
Остались следы.
Штрихи, как в тумане,
На белой коре,
Как воспоминанье
О древней заре.
Как будто бы повесть
Времен не читав,
Забыл на полслове
Старинный устав.
И пни – не открытки:
Читать я отвык,
Что кроется в свитке
Колец годовых.
III
Не вскрикнет сорока,
Не стукнет желна.
Уткнулась дорога
Под бок, как жена.
Не гаркнет ворона,
Усевшись на пень.
Забылся сморенно
Умаянный день.
Так смутно и тихо,
Что ловишь, привстав:
Будильник затикал
Иль дальний состав?
IV
И нощно и денно
Без звуков трубы
Идут по деревне
Колонной столбы.
На просеку выйдут,
На ближний угор,
И рядом увидят
Линейный простор.
У высоковольтных
Державных опор
Застынут невольно
И глянут в упор.
Хоть нет семимильных
Желанных сапог,
У них, многожильных,
Шаг мощно широк.
Шагают по руслу
Ушедшей реки,
Где рядышком грустно
Стоят сосняки.
И тянут распевно
Не песню одну,
А к свету деревню
И в общем – страну.
Леонид Блюмкин
ДОВОЕННЫЙ РЕПРОДУКТОР
Стихотворение
Репродуктор довоенный,
где бумага и магнит,
друг мой добрый, сокровенный,
он давно уже молчит.
Вид довольно мрачноватый,
в хрупком горле мало сил.
Но в годах пятидесятых
он еще нам послужил.
Репродуктор довоенный
на гвозде полдня дремал,
но ему самозабвенно
вечерами я внимал.
Он волшебник настоящий,
хоть и был созданьем рук,
этот черный круг шуршащий,
то поющий, то хрипящий,
все на свете знавший круг.
Репродуктор лет преклонных,
дома вещий старожил,
предок стереоколонок,
он свое отговорил.
Может, глуше, чем стоваттный
нынешний «ихтиозавр»,
но внушительно и внятно
он о времени сказал.
Эдуард Молчанов
РЕЧКА КАМЕНКА
Стихотворение
– Повезло бы хоть
С грибами-то, —
Мать бралась за туесок.
Шла война.
За речкой Каменкой
Был березовый лесок.
Говорила мать:
– С подружками
Мне не рвать
Букет цветов.
По ромашке на опушке я
Не гадаю про любовь.
То не ласточка покликала
Кулика на мыс к реке.
Мне ль одной
Недоля выпала?
Все солдаты вдалеке.
Не для встречи ль
Осыпается
Лепестковый ранний цвет?
Мой-то в госпитале мается.
Нет письма,
Покоя нет.
…Где ж те встречи,
Где их пламень-то?
И седеет твой висок.
Вспомни, мама,
Речку Каменку,
Чтоб печаль ушла в песок.
Михаил Шушарин
МОКРОУСОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
К пятидесяти годам Германа Орлова обдуло всеми ветрами. Он и войну отвоевал, и на целине побыл, и на Дальнем Востоке, по вербовке, совхоз закладывал. Многие марки тракторов, от колесного ХТЗ до «Натика», от «Беларуси» до «Кировца» изучил, штукатурное и каменное дело освоил, плотничать навострился и даже бондарем в потребкооперации значился. Всю дорогу вытягивался мужик на работе, как лошадь, а вот хлебного места, как говорят, в жизни так и не нашел. То дело придется не по душе, то начальству не угодит.
В последний раз, уже после возвращения в свой город, где был у них с Марусей собственный домишко, перед самым праздником Победы, вахтером на винный завод устроился. Но продержался только сутки. Во втором часу ночи пошли со смены виноделы, бракеражники, укупорщики, механики да слесари, и каждый с кошелкой, и каждый бутылку сует или пригубить предлагает: «Поздравляем!». Проснулся утром, часов около десяти, в той же проходной, а на доске уже и приказ висит: «Уволить за систематическую пьянку».
Было ясно: администрация завода употребила слово «систематическую» по ошибке или, может быть, по привычке, потому что Герман пьяницей сроду не был да и проработал на предприятии всего с восьми часов вечера и до четырех утра местного времени. Опьянел излишне, а потом, взяв переломку, не стал никого ни выпускать, ни впускать на территорию по той же самой причине: не смог выдержать принятого на заводе «порядка».
Объясняться по поводу увольнения Герман никуда из-за своей стеснительности не пошел.
– Черт с вами, раскрадите вы и повылакайте все ваше винище, проходимцы! – сказал он себе и ушел домой, даже не взяв трудовую книжку.
И вот после этого будто что-то заклинило у него в сердце. Метался. Места себе не находил. Стонал по ночам. Маруся тоже не спала, вскакивала, шептала:
– Айда, хоть квасу попей, отец! С вишеньем!
Понимала Маруся своим жалостливым женским сердцем причины мужниной боли. Какой-то директор, года рождения послевоенного, не захотел повидать Германа, поговорить, а сразу строжить принялся, бумагу писать… Конечно, зачем ему с вахтером валандаться… Забрался высоко – внизу никого не видно. Ослеп от жирной еды.
А самого Германа раздирало отвращение. Утром сменщица хохотала над ним, захлебывалась: «Кончилась твоя вакансия, дед! Уметайся! Ха-ха-ха!» «Дедом» назвала, а сама ненамного и помоложе. Волосы, как собачья шерсть, не чесаны. Жеваная с перепою. Мокрохвостка. Такие всю жизнь на чужое горе радуются.
Герман, конечное дело, человек в годах, седой уже. Но седина его бедами нажита. Не от излишеств. Никто во всем городе не знает, как ходил он под Сталинградом семнадцать раз за один день в атаки на немцев. И как мерз в окопах, и как голодал, и как бинты в медсанбате, бывшие в употреблении, вручную стирал.
Один раз взяли в плен роту фашистов. Это было уже перед самым разгромом армии Паулюса. Фашисты были все перепуганные, носы, ноги-руки у них пообмерзали, кажется, были рады случившемуся:
– На Ураль, дрофа пилить! Сёклясен! – говорили они, подымая черные, неделями не мытые руки.
Смеялся, молоденький еще в те годы, Герман:
– Что там, на Урале, у нас одни дрова растут, что ли?
Показывал немцам на стоявшие поодаль танки:
– Там, фрицы, у нас и таких игрушек навалом произрастает. Ферштеен, а?
– Гут, гут! – с готовностью соглашались пленные.
Герман и другие солдаты, не будем греха таить, не всегда вежливо обращались с завоевателями. Жестоким было время. Но, чтобы издеваться, убивать невинных, – на этот счет строго было. Не в пример немцам. Подрагивал указательный палец Германа на спусковом крючке. Но убирал его вовремя от греха, ворчал про себя: «Живите! Выкручивайтесь теперь, как хотите… Судить вас сама жизня будет!»
Откуда же понять Германову душу молодому директору винзавода, когда он только и следит, чтобы не приехала нежданно комиссия сверху и чтобы не оробеть – вовремя напоить и накормить эту комиссию досыта. На черта сдался ему вахтер Орлов, который брал фашистов в плен, мерз и поливал тугие сугробы кровью.
И тут созревала и начинала нещадно давить сердце еще одна мысль: «Ну пусть этот директор не совсем еще спелый. Не увидит ошибок – покажут другие, не послушается – выпрут за милую душу. Но ведь и сынишка, Никитка, институт заканчивает. А что если он по такой же тропинке пойдет? Людей будет зазря ранить?» Герман выкуривал за ночь по пачке сигарет, исхудал.
А по Зауралью в те ночи шла весна. Вскрылся Тобол. Поднялась почти вровень с берегами вода, катилась, мутная, неторопливая. Сосала кручи, поросшие тальником. Булькали, обваливаясь в воду, земляные глыбы. По утрам над водой стоял холодный серый туман и в непроглядной его пелене слышались какие-то неведомые звуки: льдины стукались друг о дружку или ломало в водороинах сухостойную хрупкую вербу?
Однажды ранним утром пронесло на льдине пестро-красную собачонку-маломерку. Она жалобно выла. Жив смерти боится. Герман столкнул свою лодку с начинающего зеленеть взлобка, погнал ее, лавируя между льдинами. Уловив намерение человека, собачонка скользнула мордочкой по гладкой закраине и, выбиваясь из сил, поплыла к лодке.
– Что ты делаешь, дурочка? – ругнулся Герман.
Собаку завертело в воронке, и она исчезла, казалось, насовсем. Лишь пустые бутылки да черная щепа закрутились на месте, где торчала маленькая мордочка.
– Ай-яй-яй! Вот беда!
Но она не захлебнулась. Бледно-розовый оскал еще на мгновенье показался над водой, и Герман сгреб ее за ухо, швырнул в лодку.
Потом, разгорячившись, он отпихивался от налезавших льдин, как от заклятых врагов:
– Куда лезешь, проклятая, что тебе от нас надо?!
Выплыв на берег, Герман завернул свою находку в мешковину и, зажав под мышкой, пошагал к дому, приговаривая:
– Так и залиться могла бы. Эх, ты!
Маруся стояла на крыльце и ждала его.
– Что это такое, отец?
– Собачонка. Чуть не утонула.
– Неси в сарайку. Там заветерье.
– Ага. В сарайку. Тебя бы туда из воды-то!
Герман, не снимая сапог, вошел в кухню. Следом Маруся.
– Ты погляди, – сказал Герман. – Чем только держится.
Маруся расстелила около печки свернутые вчетверо половики, и собачонка быстро разомлела в тепле и заснула. Вроде бы умерла.
– О, господи, – вздохнула Маруся. – И для чего только бог сотворил.
Рыжик (так назвали они своего подопечного) хворал только одну ночь. Утром, раным-рано, поднялся, сладко зевнул и, подойдя к Герману, спавшему на диване, начал лизать ему руку.
С этого дня ни на минуту не оставлял он своего спасителя. Так постоянно и торчал у ног. Никто не мог прикоснуться к Герману. Рыжик зверел в таких случаях и, несмотря на свой невысокий рост, мог принести «обидчику» большие неприятности. У него были острые белые зубы, он был молод, мускулист и смел. И надо же так случиться, что первым, кто испытал на себе эти зубы стал земляк, фронтовой друг Германа, бывший командир отделения, ныне колхозный прораб Степан Тарасов.
Приехал он из родного села Мокроусова в областной центр добывать для строительства бутовый камень, доски и цемент. Зашел вечерком к Герману. Это было правилом. Поздоровались, крепко тиснули друг друга в объятиях, и тут затрещали новые серые, нерусского происхождения, Степановы джинсы. Рыжик вцепился в штанину и остервенело рвал ее, добираясь до тела.
– Это еще что такое? – возмутился Герман. – А ну брось!
Послушный хозяину, маленький задира ворча ушел под кровать.
– Где же ты достал такого зверя? – Степа, добродушный увалень, с льняной шевелюрой, прошитой серебряными нитями, вытащил из портфеля три бутылки вина и, не дослушав Германовых объяснений, засмеялся:
– Пить – умрешь и не пить – умрешь… Так уж лучше пить, может, смерть и обойдет сторонушкой.
– На меня тут приказ по этому поводу написали, – рассказал ему свою историю Герман. – Получается, вроде, что с такими, как я, бороться надо беспощадно!
Степан ворочал голубыми глазами, ухмылялся:
– Это, братишка, ты под кампанию попал. Вот приутихнет кампания, и на заводе вашем опять будет, как во Франции… Самая большая доза на душу населения… Впрочем, работать-то ты где собираешься?
– Пока что не думал.
Глаза у Степы внезапно стали мученически жалкими, в голосе зазвучала мольба.
– Слушай, Гера, друг ты мой фронтовой, закадышный, будь человеком! А?
– Ну-ну! Продолжай!
– Ты ведь и раньше плотничал, и блиндажи твои снаряд не брал. Так ведь?
– Так. Точно так. Говори, пожалуйста, что тебе все-таки надо?
– Давай к нам работать. На лето.
– Шутишь?
– Не шучу. Дело такое. Прямо сказать, неотложное. Школу надо к осени сдать. Материалы есть. Фундамент и большую часть кладки в прошлом году сделали… А нынче – беда! Нет людей. Набери бригаду. Тут, в городе, это можно сдокументить… Стоимость большая. Тысяч тридцать отдадим по договору строителям. Шабашникам, как их величают… Берись. Один сделаешь – твои деньги. Пять человек будет – всем своя порция… Берись. Мужик ты надежный… Милый ты мой дружочек, спаси от беды!
И Герман словно проснулся.
– А вы не соврете, не обманете?
– Договор заключим. Все по закону. За лето сделаете, деньги заработаете. И нам польза… Ведь для родного села, Гера… Неужто совесть у тебя не колыхнется?
– Ладно, – Герман вспыхнул от Степиных слов. – Хватит причитать. Не ищи больше никого… Будет тебе бригада!
Они долго еще сидели в тот вечер в маленькой горенке, перебирая в памяти былое, вспоминали, как и обычно, войну: Сталинград и Кенигсберг, Польшу и Дальний Восток. Маруся, встревоженная их разговором, тоже не спала. Когда, наконец, улеглись спать, спросила Германа:
– Ты головой-то хоть что-нибудь думаешь?
– А что?
– Ты куда собрался? Оголодал? Не пойдешь никуда. Я тебя и так прокормлю. Черт с ним, с заработком! Что они тебе, деньги-то эти? Еще убьешься. Итак весь израненный, исхлестанный, да еще…
– И не в деньгах совсем дело.
– Ну, в чем тогда? Объясни!
Он молчал. И это означало, что не свернуть Марусе его. Ни за что. Тем более, укусил его Степа за самое больное место: неужто, мол, совести нет – школу в родном селе не поможешь достроить! И плакать пробовала Маруся, и обнимать его, и целовать. А он как одеревенел. Знала, что притворяется, но не знала, что делать, как отговорить его от этой рискованной затеи. Всю жизнь прожили, и никогда она не могла найти в себе силы, чтобы победить в нем это упрямство.
Утром, проводив Степу к автобусу, Герман пошел на вокзал.
Там, у голубого киоска, каждое утро – сборище. Пьют или опохмеляются, все равно – орут, хрипят. День разгорается. Все давно уже на работе, а эти спорят о чем-то важном, за грудки друг друга хватают. Тоже дело у них, наверное, раз уж так горячатся. Горе – не люди. Слабоуздые. «Подведу Степу с такой-то ратью», – мелькнуло в голове. Но не умирать же раньше времени. Да и Степу подводить никак нельзя.
Три дня подряд, каждое утро, приходил Герман к киоску, брал кружку пива, стоял и приглядывался-прислушивался. В разговоры не вступал, да и с ним не много было желающих беседовать. Чутьем понимали: этому, наверняка, если станешь что-то говорить, то надо говорить по делу, а если пообещаешь что-то – придется выполнять. Обходили его стороной.
Лишь на четвертое утро подошел к нему тщедушный паренек с черными сросшимися бровями. Про него говорили, будто это чемпион не то Европы, не то мира по самбо. Звали Альбертом. Герману, конечно, было одинаково, с каким спортивным титулом ходит паренек по пивнушкам, но надо было сдавать школу, посулился Степе. Потому-то с некоторой поспешностью начал разговор с самбистом.
– Бригаду строителей набираю. Пойдешь?
Парень ощетинился, заговорил резко, бровь врезалась в бровь.
– Какую бригаду? Ты что, дед? Это же я набираю бригаду!
– Во-о-о-н что. А я и гляжу – не прикладываешься сильно-то.
– Не морочь мне голову, старик. Не твое это дело.
Герман потихоньку протянул самбисту корявую, твердую, как железка, руку:
– Не мое. Понял. Только ты мне не мешай. Айда отсюдова!
И тут самбист неожиданно успокоился, остепенился. Спросил Германа:
– А навар какой?
– Что это за штука?
– Ну, заработок?
– На бригаду тридцать тысяч… При условии, конечно…
– Я бы пошел, но только за бугра… Я же техник…
– Насчет «бугра» – подумаю. Сперва проверю… Худо будешь робить – выгоню, не до «бугра» тебе будет!
– Ясное дело, – мягчал парень, – дисциплина нужна. Но только, вы увидите, дело знаю…
Нескладно заводилась у Альберта жизнь. Никаким чемпионом он, безусловно, не был. Высшей точкой его спортивной славы было четвертое место в городских соревнованиях. Но и эта«точка»привела к полному закату. После соревнований сидел он вместе с дружками в станционном ресторане. Денег на выпивку не хватило, талоны, выданные тренером на питание, буфетчица отоваривать спиртным не стала. Пришлось всей компанией выйти на перрон, к составу, груженному комбайнами. Состав шел на уборку и должен быть, как предположили, весьма богатым. Ринулись на платформы, начали шарить по кабинам, пытаясь, раздобыть хотя бы ящики с комплектами инструментов. И наткнулись на хозяев машин.
Альберта взял за шиворот здоровенный русоволосый великан-комбайнер. Никакие «приемы самбо», познанные Альбертом у тренера, не помогли. Комбайнер, как тисами, зажал его руки и совершенно спокойно приказал своему напарнику:
– Бей его, Юрко, по рылу. А я в лен сапну… Пушшай не ворует!
Альберт почувствовал, как многопудовая кувалда обрушилась ему на шею. На следующее утро, уже в больнице, придя в себя, Альберт осознал весь конфуз. У него были выбиты все передние зубы и сильно ныла шея. Альберт никому не жаловался, избивших его проезжих механизаторов не искал. Поезд ушел. Дружки разбежались. Кого найдешь?
От стыда и позора оставил Альберт строительный техникум и каждое лето начал ходить с «дикими» бригадами. Встретив Германа, он довольно быстро уловил в тяжеловатом прищуре его и по корявой, как рашпиль, руке хозяйскую бескомпромиссность комбайнера-великана, одним ударом «отключившего» когда-то его от реальной жизни. Таких «непонятных» Альберт видел уже немало и, честно сказать, побаивался их по-настоящему. Побаивался жесткости и какой-то особой праведности, находившей у всех одобрение.
Вскоре Герман уже диктовал ему:
– В бригаде должно быть пять или шесть человек. Нас пока двое. Я буду подбирать народ и ты тоже ищи… Бездельников, шаромыг и белоручек избегай. Чтобы трудяги были…
– У меня есть на примете. Я быстро подберу, – заторопился Альберт.
– Не бей копытом, – удерживал Герман. – С кем договоришься, веди ко мне. Я тоже покалякаю.
– Ладно. Хорошо, – парень загорался. – Я плохих не возьму.
Герман привел его к себе домой. Маруся напоила чаем. Они обстоятельно, до деталей, обсудили предстоящее. Когда самбист, боязливо взглядывая на Рыжика, попрощался и ушел, Маруся сказала:
– Счастливый парнишка-то заводится. Брови срослись – это только у счастливых.
– Находит на кого-то из моих знакомых, а на кого – не пойму! – вслух размышлял Герман.
* * *
Село Мокроусово, а по старым записям Мокроусовская крепость – «селидьба», говаривали старики, давнишняя и своеобычная. Еще Ермак Тимофеевич оставил в излучине маленькой речки, загибавшейся подковой, небольшую горстку людей во главе с беломестным казаком Пашкой Мокроусовым. И построили они глинобитную, в сажень ширью, крепость, и жить начали хлебопашеством, скотоводством, охотой да рыбалкой. По имени первопоселенца и стали называть крепость Мокроусовской, а потом просто Мокроусовой.
Так и жили многие сотни лет. Остались от крепости только развалины да вековые тополя, высаженные на берегу для укрепления его от размыва. Зато село взросло большое: с двумя церквями, ярмарочной площадью и белыми купеческими магазинами. Развертывалась в те годы в Мокроусове, стоявшем на перепутье между Уралом и Киргиз-Кайсацкими степями, большая торговля. И так вплоть до революции: укоренялся в тех местах купец, копил деньгу. Только школы доброй в селе не было. Ни к чему она была толстосумам.
…Герман проснулся на свету. Пастухи еще не трогали стадо. Держался над речкой нежный, как серебро, свет. Герман подошел к самому берегу, вдохнул всей грудью набежавший по воде запах сирени, а потом, зачерпнув ладонями студеную струйку, бросил ее в лицо. Вставал над Мокроусовой рассвет. Такой, каких нигде и никогда не бывает. Сначала золотая полоса показалась на минутку над дальними колками, а потом из-за них выплеснулся розовый пожар. Заполыхало все небо, выросло зарево. Герман, зачарованный, смотрел на восход. «И что же это такое? И откуда такая красота и кто может с ней что-нибудь сделать?!»
Щемящее чувство тоски, необъяснимой и непонятной, точило сердце… Еще там, в городе, уловив в словах Степы упрек, Герман почувствовал эту боль. Она не оставляла его все дни, мучила сильно. Встречи со Степой, впрочем, всегда разжигали в нем притухающий костерок воспоминаний. Они многое пережили вместе, и Степа многое напоминал Герману.
…Вот тот первый послевоенный май, когда вздумали они вместе сбежать в город. Наталья – первая жена Германа… Наташа… У нее выступили на глазах слезы, а лицо было белым, как береста.
– Бросаешь? – шепотом спрашивала она, и губы страдальчески кривились. Он и сейчас не может объяснить себе, почему не подошел к ней, не успокоил, а продолжал озабоченно перевязывать тесьмой от семилинейной лампы скатанное рулоном одеяло. Она утвердительно ответила сама себе:
– Да. Бросаешь. А мы-то ждали тебя, как сокола ясного!
Слезы крупные катились по ее щекам, и она их не удерживала, не стыдилась. Ревела искренне, как обманутый ребенок… И пятилетний Никитка, уцепившись за материн подол, казалось, со злобой рассматривал отца. Герман до мельчайших подробностей помнит тот день. Умытую росой черемуху, встревоженное движение ее веток. Такой же был рассвет.
– Не поминай лихом, Наташа, – сказал он жене. – Худого я тебе ничего не сделал!
Когда выходил из калитки, будто кнутом полоснул плач маленького Никитки: «Папка! Куда ты?!»
…А разрыва, что называется, «с вмешательством третьего лица» по сути не было. Ничего такого особенного не было. Была только гордость. Фронтовая спесь. Когда демобилизовался, Наташа уже участковым агрономом работала. Ему пришлось садиться на трактор. Неженатый еще в то время Степа, вернувшийся с войны в одночасье с Германом, сказал тогда:
– Мое дело холостяцкое: сегодня у тетки переночую – покормит, завтра – у дядьки, а там, глядишь, еще у кого. А ты? Зимой, на ремонте, по восемь рублей зарабатывают в месяц… Пусть Наташка твоя, мак-баба, агроном, тыщу имеет. Но у тебя-то где совесть?!
Рассвирепел тогда Герман не на шутку, пилотку – об пол, начал топтать, плеваться… Потом поднял пилотку, надел по-обычному набекрень, спросил Степу:
– Ну, что же теперь делать? Чего ты стоишь, кислогубишься?
У Степы аж слезина сорвалась из-под века, брызнула: жалко стало Германа. Отвернулся, махнул рукой:
– Удирать надо, Гера… Не для того, понимаешь, мы фрицев вязали, чтобы пайки тут выглядывать. На заводах сейчас тоже люди нужны. Но там обеспечение совсем другое!
Так созрело решение о переезде в город. К тому же в эти самые кризисные дни получили они письмо от боевого друга, сослуживца, горожанина Сеньки Кукарского. Сенька был разнесчастнейший на земле человек. Еще в сорок третьем, когда формировали их часть, слыл он лучшим красноармейским певцом. Любили слушать его и рядовые, и сам генерал. Пел он душевно, мощно. Никто не сомневался, что станет он после войны настоящим артистом. Но война и отобрала у него самое заветное – голос: пуля порвала голосовые связки, и мог он сейчас общаться с друзьями только шепотом да записками. Лучше бы уж насмерть убила, проклятая, чем на муки такие обрекла!
Тяжкая была беда! До худого дело доходило. Но нашел все-таки полуденную дорожку, не сдался. Стал директором заводского музея. История предприятия, на котором мальчишкой начинал трудиться, судьбы рабочие, трудные, приоткрыли упавшую было на глаза черную повязку, развеяли тьму. Понял Сенька, что расслабляться ему не время. Поднял голову. Конечно, такой штатной единицы – «директор музея» – на заводе не было.
Но ее, чтобы спасти Сеньку, придумали хорошие люди, тоже бывшие фронтовики, – парторг завода да директор.
«Приезжайте, ребята, – писал Сенька. – Не пожалеете. Дела тут такие затеваются – грудь распирает. Уверен, что вам по душе придется!»
Это было последним толчком.
Но на практике все оказалось не так просто. Наташа решительно отказалась уезжать из села.
– Мне на заводе неинтересно. Я землю люблю. Учусь. Да и за длинным рублем не угонишься. Даром деньги нигде не платят! – сказала она.
Это взбесило Германа. Что за жена? На кой нужна такая? Она, видите ли, землю любит! А мужа? Чем она тут всю войну занималась? Мужа ждала? Я на фронте кровью исходил, а она, поди, тут! И пошло, и поехало! И дошло до разрыва.
…В городе они жили со Степаном вдвоем в заводском общежитии, в маленькой комнатушке. Сеня не обманул. Завод действительно набирал темпы. И заработок был отменный. На все хватало: на одежду, на еду, на выпивку. Но не было душевного облегчения. Перво-наперво к Сеньке пришла беда горше первой. Забраковала его жена. Бросила. Ушла с маленьким ребенком к другому. И начал Сеня таять после этого, как вешний снег. Через год, как раз перед праздником Победы, его не стало, утек вместе с весенними ручейками… После Сениных похорон Степана в госпиталь положили: открылись старые раны на бедре, начали выходить железные да костные осколки. Бегал Герман с авоськой по магазинам: то кефир, то фруктов нес Степе. И все окружающее казалось ему временным. Ждал какого-то поворота в жизни, неведомых радостей. А их не было.
Когда Герман привел в комнатушку новую жену, Степан, выписавшийся из госпиталя, растерялся.
– Мне, значит, квартиру надо искать?
– Для чего?
– Ну, а жить-то где будете?
– Жить в этой зале придется тебе одному. Я уйду к Марусе.
Маруся была горожанка. Отец ее, знатный в городе портной, седой, рано овдовевший, имел собственный домик на берегу Тобола. Герман, согласившись пойти на житье примаком, вскоре стал злиться: «Доживешь тут, люди пальцем будут показывать: «Влазень идет!» Но тесть развеял начавшую расти червоточинку.
– Ты – фронтовик, парень честный, – сказал он, – на такой пустяк и маешься… Все эти зятевья-влазни – все от старого режима идет. И, скажу тебе, каким только издевательствам этот режим-прижим не подвергал нас в старое время. Неужто и ваше поколение собирается в плен ему сдаваться?
Стариковы слова подействовали словно чудодейственный бальзам. «Что я, в самом-то деле, из-за таких мелочей себя мордую. Умерло старое, зубки остались – надо их выламывать!»
И Маруся, не чаявшая души в отце, еще большую любовь проявляла к Герману. Она обычно гладила большой сизый шрам на груди Германа (последнее тяжелое ранение) и говорила нежно:
– Вот получим зарплату и половину Никитке вышлем. У них там плоховато… Надо помочь. Так ведь?
– Так, так.
– А Наташа твоя не обидится, что мы поженились?
– Ну, если и обидится, так что же теперь, топиться бежать?
– Мне жалко ее, – говорила Маруся. – Такого, как ты, потерять я бы не смогла. Я бы жизни решилась.
Она всегда вызывала у Германа изумление. Много уже лет.
Соберутся в театр – оденется и засветится вся. Самые модные городские щеголихи завидуют. А о спектакле начнет говорить – и не поймешь: Маруся ли это или, может быть, какая-нибудь преподавательница-профессорша. Откуда что и берется! Выскажется, бывало, а потом накинет старенькую фуфайчонку и пошла во двор: снег убирать, дрова носить. Всю домашнюю работу умеет делать отменно: и полы мыть, и белье стирать, и столы накрывать. Послушаешь иногда разговор ее с бабами-соседками – со смеху помрешь. Сидит за оградой, на скамеечке, лицо такое молодое, милое, и рассказывает серьезно:
– А угри выводить можно очень даже просто. Надо платок у незамужней девушки взять и семь зорь этим платком с пшеничного колоса росу сымать и мазаться. А чтобы мужик не шлялся по ночам – тут еще проще: волчьим салом порог два-три раза натри и все!
– Ты и сама веришь в эту чепуховину? – смеясь спрашивал Герман.
– Нет, не верю. А они верят. И хорошо получается.
…Тот новый поворот в жизни все-таки пришел. Был на заводе митинг. Началось движение за возврат в село: новые перемены двигались по деревням. Они опять, как и всегда, вдвоем подали заявления… Это была слабость Германа. Или позор?
…Встает в глазах знакомый полустанок. Зима. Они вышли из вагона и ждали подводу.
– Эй, граждане-товарищи, – крикнул подкативший к вокзалу на саврасом жеребце паренек лет шестнадцати. – Вы к нам, в МТС?
– К вам, наверное.
– В Мокроусовскую?
– В нее.
– Поедем поскорее, а то хозяйка ворчать будет!
Они уселись в красивую кошевку и покатили по гладко накатанному зимнику. Герман сразу же поднял воротник и молчал, а Степа любопытничал:
– Кто у вас хозяйка-то?
– Главный агроном. Сейчас за директора… Не любит беспорядки.
– Хозяйственная, видать, баба?
– Самостоятельная.
– Мужняя?
– Разженка. После войны приезжал, говорят, муж, в город звал – не захотела!
– Как так?
– А так, не захотела и все… А мужик тот, видать, полудурок какой-то был. Бросил с дитем, уехал!
– Слышь, а фамилия у этой бабы какая?
– Орлова. Наталья Петровна.
– Стой! – неожиданно крикнул Герман.
– Ну, вы че? Вы видите, Савраско боится! – рассердился парень.
– Брешешь ты все. Не бросал ее муж! Понял?
– Может, и не бросал. Почем я-то знаю. Только никого у Натальи Петровны нету, кроме сына – Никитки!
В конторе парень снял шапку, подвел приехавших к двери:
– Здеся она располагается. Заходите.
Наталья встретила прибывших спокойно. Герман сначала подумал, что она не узнала его и порывисто шагнул навстречу.