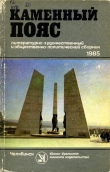Текст книги "Каменный пояс, 1981"
Автор книги: Алексей Горбачев
Соавторы: Владимир Курбатов,Семен Буньков,Феликс Сузин,Владимир Чурилин,Александр Лозневой,Николай Рахвалов,Александр Тавровский,Павел Матвеев,Виталий Понуров,Василий Наумкин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
– Чтоб было тихо! Что случится, пеняй на себя!
– Ой, лишенько… – заныла Мотря, но Степан и Илюша уже выскочили во двор. Мелентьев сказал:
– Осталось четверо. Во дворе у Карповой, через три дома.
Крались огородами. Останавливались, прислушиваясь. Цвела картошка. Распахнул навстречу солнцу свои лепестки подсолнух. Пахло вызревающим укропом. Огород у Карповой пустовал, зарастал лебедой и коноплей. Двор огорожен плетнем, на столбике у калитки – позабытый горшок. На завалинке три полицая коптили небо самосадом, ждали Лешку Лебедева с самогоном и лениво переговаривались. Запряженная в телегу лошадь хрумкала сочную, недавно накошенную траву, поглядывала, словно бы спрашивая, долго ли ей стоять в упряжке. А телега завалена всякими узлами, на передке – кованый сундук. Не иначе награбили, паразиты. Винтовки прислонены к стене избы. Четвертого что-то не видать, да ладно. Степан кивнул Илюше, и два автомата гулко ударили длинными очередями. Один полицай вскочил, схватившись за грудь, и рухнул. Другой привалился спиной к стене и тоже сполз на землю. Третий уткнулся в завалинку, откинув правую руку, в которой дымилась цигарка. Лошадь тревожно заржала. Четвертый полицай вывалился из избы, по пояс голый и с намыленной правой щекой. Другую, видимо, успел выбрить.
– А вот и потеря! – воскликнул Степан и пустил очередь. С полицаями было покончено. Труп Антона Синицы нашли в хлеве. Полицаи издевались над ним, уже убитым, – отрезали уши, выкололи глаза. Боже мой, какие это были голубые прекрасные глаза! Похоронили Антона на огороде, возле березки. Постояли молча возле могилы, смахнули слезу и заторопились к дому Мотри, уже не таясь, по улице. Здесь их ждала новая неожиданность. Хозяйка перерезала ножом путы пленника и бежала вместе с ним. Ладно Степан догадался забросить на чердак винтовку полицая, так что удрали они без оружия.
– Вот мымра! – озлобленно воскликнул Степан. Сплюнул в сердцах, уже спокойно сказал: – Что такое не везет и как с ним бороться.
Илюша расстроился не меньше командира, сгоряча предложил запалить дом. Степан отрицательно покрутил головой:
– Нельзя, Илюша.
– А им можно? – не унимался Илюша. – Подлые они, жечь их надо и бить!
– Глянь, какая сушь стоит. Подпали дом, а сгорят Кораблики. Что люди скажут?
Илюша упрямо молчал. С норовом мальчишка.
Расправа с четырьмя полицаями не улучшила настроения. Основная-то задача так и не выполнена. Не удалось навести справки о Насте Карповой, а потеряли двух человек. Правда, Мотря что-то болтнула насчет гестапо. Упустили вот и ее, и полицая Лешку, даже не допросив. Не больно весело будет докладывать капитану Юнакову…
Степан с опозданием, когда уже углубились в лес, подумал о том, что они, собственно, здорово рисковали, вломившись в Кораблики средь бела дня. Могло кончиться худо…
5. Одиссея Семена Бекетова
Зимой сорок второго года фронт под Мценском стабилизировался. Как сообщали сводки Совинформбюро, там шли бои местного значения. Но какое бы название эти бои ни носили, в них участвовали с обеих сторон все огневые средства. Лилась людская кровь.
Рота, в которой служил Семен Бекетов, занимала оборону вдоль железнодорожной насыпи. Блиндажи, стрелковые ячейки, ходы сообщения выкопаны прямо в откосе насыпи, противоположном переднему краю. Насыпь служила естественным валом, готовым, что ли, бруствером. На немецкой стороне выгодно возвышался бугор, именуемый по военному высоткой, с которого контролировались подходы к нашему переднему краю. Потому движение в тыл и обратно происходило только в ночное время. Днем оно начисто прекращалось.
Предпринимались попытки сковырнуть фашистов с бугра. Его вдоль и поперек перепахала артиллерия, иногда бомбила авиация. Но немцы глубоко закопались в землю, пристреляли все подходы.
Очередную вылазку устроили в одну из апрельских ночей. Участвовал в ней и Семен Бекетов. Саперы проделали три прохода, и три штурмовые группы поползли к бугру. Бекетов был в третьей, правофланговой. Темно. Ветрено. Временами сек косой дождь, обдавая свежестью потные лица. Впереди двигался командир группы старший сержант Лобов, за ним поспевал Бекетов. Изредка взлетали дежурные ракеты, и тогда все замирали. С равными паузами заученно такал на бугре пулемет.
Миновали нейтральную полосу, втянулись в предполье немецкой обороны. Тихо и в центре, и на левом фланге, значит, все идет по плану. И тут – досадная неожиданность – левофланговая группа напоролась на секрет противника. Поднялась стрельба. Секрет был ликвидирован гранатами, но потеряно главное – внезапность. Немецкая передовая немедленно огрызнулась шквальным огнем. Лобов замер, матюкнувшись. Бекетов подполз к нему вплотную, тронул за плечо. Хорошо начатая операция провалилась.
Головы от земли не поднять – так плотно били немецкие пулеметы и автоматы. От ракет слепило в глазах. Особенно свирепствовал дзот метрах в пятидесяти правее. Пространство он простреливал наискось.
– Молотит, гад, – проговорил Лобов. – Так он нас до утра продержит. Пропадем, как цуцики.
– Че-нибудь придумаем, – сказал Бекетов. – Давай, старшой, гранату. Попробую заткнуть ему хайло.
Бекетов соорудил связку из трех ручных гранат, вставил запал и тронул старшего сержанта за рукав, давая понять, что пополз на сближение.
– Ни пуха тебе! – крикнул вдогонку Лобов.
Полз Бекетов медленно, ощупью, выбирая верную тропку. А кто ведал, которая тут верная. Живого места не осталось – воронки, проволока, мины, неубранные с зимы трупы.
А рассвет приближался…
Бекетову повезло – сумел добраться до дзота. Передохнул малость, успокаивая дыхание, чтобы вернее бросить. Рядом вспыхнула зеленая ракета, стало светло. А Семен уже приподнялся и завел руку со связкой для замаха. В эту секунду грохнула автоматная очередь. Тупо и не очень больно ударило в занесенную руку. Он все же бросил связку. Она знатно брызнула осколками у самой амбразуры, на какое-то время ослепив пулеметчиков. Дзот замолчал. Семен нацелился ползти обратно, но его кто-то резко схватил за раненую руку и заломил ее за спину. Миллион острых иголок вонзились в мозг. Бекетов потерял сознание.
Тех нескольких минут паузы, пока немцы в дзоте приходили в себя, хватило, чтобы бойцы отделения Лобова отползли назад, унося убитых и раненых.
В блиндаже старший сержант доложил командиру взвода, как Бекетов выручил из беды штурмовую группу. Затем о потерях было доложено командиру роты, и в штаб батальона ушло донесение. Через несколько дней полевая почта повезла на Урал извещение о том, что красноармеец Бекетов пал смертью храбрых в боях за социалистическую Родину.
…Семен Бекетов очнулся от острой боли в правой руке и понял, что его волокут по тесному ходу сообщения. Семен сначала с благодарностью подумал о Лобове – не бросил в трудную минуту, вытащил к своим. Но эта мысль сразу сменилась тревожной: нет, не Лобов нес его по ходу сообщения, а немцы. У них в окопах и пахло-то не по-русски. Немецкие солдаты о чем-то переговаривались, может, проклинали Сеньку Бекетова за то, что столько хлопот им доставил.
Бекетова не стали допрашивать на передовой, а отправили в тыл. Если бы допросили здесь, расстреляли бы за ненадобностью: какой толк от солдата, не посвященного ни в какие тайны. Но фашисты были заняты отражением атаки наших штурмовых групп, а тут еще артиллерия мощно вступила в бой. Так что солдаты, тащившие Семена, сочли за благо смотаться в тыл – причина веская: сдать в штаб пленного. Но и там с Бекетовым никто не стал заниматься, спихнули в дальний тыл, и в конечном счете Сенька Бекетов очутился в сарае, в котором уже куковало до десятка таких же горемык, как и он. Рана на руке побаливала, но не сильно. Пуля кость не задела.
Когда Бекетова втолкнули в сарай, день клонился к вечеру. В полумраке и не разглядишь, каких товарищей подкинула тебе судьба. Семен нерешительно топтался у двери. Пленные жались к стенам и хмуро рассматривали новенького.
– Слышь, Иван, по доброй воле здесь? – спросил кто-то хрипло из дальнего угла.
– Фома несчастный! – огрызнулся Семен. – Сам ты доброволец неошкуренный!
– Ходи сюда!
Семен подчинился. На соломе сидел боец без головного убора, в шинели без ремня, в ботинках без обмоток. В плечах широк, как Степка Мелентьев. А может, он? Зарос щетиной и не узнаешь. Нет, у Степки нос утиный, а у этого, как у грача, – плотный и острый.
– Садись, где стоишь, – пригласил хозяин угла. Когда Бекетов расположился с ним рядом, снова спросил:
– Как на духу – от своих бежал?
– Вот оглоеды! – рассердился Бекетов. – Белены объелись? Сами, поди, такие?
– Расшумелся, холодный самовар, – усмехнулся небритый. – И спросить нельзя. Соврешь, все одно узнаем. Зови меня Бирюком.
– А я Бекет, – ответил Семен, думая, что новый знакомец для удобства сократил свою фамилию, – И вот что, – придвинулся к Бирюку, – перевяжи-ка ты меня.
Бекетов сбросил телогрейку, снял гимнастерку. Рукав нательной рубашки почернел от крови.
– Фь-ю! – присвистнул Бирюк, помогая снять рубашку. – Где это тебя царапнуло?
– Сволочная история, – вздохнул Семен и рассказал, что с ним приключилось.
– Эй, братва! – крикнул Бирюк. – Сознавайся, у кого осталась вода. Мужику рану промыть треба.
Нашлась фляжка воды, лоскут чистого ситца. Бирюк обработал рану и перевязал.
– Кабы не загноилась! – высказал опасение.
– Ерунда! – отмахнулся Бекетов. – На мне, как на собаке, все заживет!
В эту первую ночь в сарае Семен Бекетов не сомкнул глаз, как и его новый товарищ Федор Бирюк. Федор, когда вспоминал, как очутился здесь, стонал от бессилия и по-страшному скрипел зубами.
– Последняя я дешевка, – говорил он Семену. – Чучело я гороховое, идиот проклятый, балбес несусветный. Ах, мало мне от старшины попадало, плохо драил меня взводный, а если драил, то не в коня корм!
– Че ты так себя-то? – удивился Семен и подумал: «Уж не трехнутый ли этот Бирюк?»
– Тебя за раненую руку сцапали, ты ума лишился при этом. Ты хоть глотку дзоту заткнул. А я? Сонная я тетеря, барсук ленивый, медведь-лежебока! Меня-то как думаешь?
– Как?
– В секрете заснул ночью. Они навалились да чем-то по голове хлобыснули.
– Кто? – не понял Семен.
– Фашисты, ясное дело! За «языком» приходили. Долбанули по кумполу, я только у них и очнулся. – Посопев от неуемной обиды, Бирюк заявил:
– Сбегу!
– Да отсюда разве сбежишь?
– Ха, милай! Что ж, они нас здесь морить будут? Шалишь! Если бы им были не нужны, они бы из нас сразу дух вышибли – и с приветом. Ты бы и глазом не моргнул.
– А зачем мы им?
– Зеленый ты еще, видать. Воюешь давно?
– С первого дня.
– У Христа за пазухой, да?
– Ничего себе пазуха! На передовой безвылазно!
– Работенки у них навалом. Помяни мое слово: не сегодня-завтра отправят куда-нибудь. Наверно, в лагерь. А впереди лето, а не зима. Понял?
И в самом деле, назавтра узников погрузили в крытый фургон и повезли. Ехали целый день с небольшими остановками. Вечером фургон затормозил возле длинного дощатого барака, обнесенного колючей проволокой со сторожевыми будками по углам.
Так Семен Бекетов и Федор Бирюк попали в лагерь военнопленных. В бараках на нарах лежали и сидели изнуренные люди в неописуемых лохмотьях. Новенькие против них выглядели цветущими здоровяками.
– Ешки-Наташки, – пробурчал Бекетов. – Житуха здесь, видать, что надо. Закачаешься!
– А я об чем? – согласился Федор. – Будем держаться рядышком, поодиночке пропадем.
Барак ютился на окраине областного центра. В нем была крупная железнодорожная станция, от которой убегали пути на все четыре стороны света. Узел часто бомбили советские самолеты, и пленных заставляли разбирать развалины, восстанавливать пути и водокачки. Кормили баландой из бураков или прелого картофеля. На обед давали кусок черного, с опилками хлеба да кружку эрзац-кофе. Ровно столько, чтобы не умереть с голоду. При такой диете Семен и Федор быстро превратились в доходяг.
Когда пленные работали на станции, конвоиры смотрели сквозь пальцы на то, что жители передавали им еду. Но нейтралитет соблюдался при одном условии: чтобы и конвоирам что-нибудь перепадало. В это «что-нибудь» не входила еда, только ценные вещи.
Однажды белобрысый фельдфебель то ли по чьему-то доносу, то ли невзначай появился на станции в тот момент, когда сердобольная бабуля сунула конвоиру колечко, а пленному передала узелок с едой. Фельдфебель плотно сжал бескровные губы, не спеша вытащил из кобуры парабеллум и хладнокровно расстрелял бабулю, а заодно с нею и пленного, у которого в руках был узелок с едой. Он так и упал на этот узелок, прикрыв его собой. На конвоира накричал и отхлестал перчатками по щекам.
С тех пор поблажки кончились.
Федор бредил побегом. Присматривался, прилаживался, советовался с Бекетовым. Из барака не убежишь, это уж точно. В пути от барака до станции колонну сопровождали конвоиры с овчарками. А вот на станции… Надо внимательно присмотреться. Когда разбирали разрушенную контору, конвоиры вели наблюдение с кучи битого кирпича и с пристанционных подмостков. Обзор у них был идеальный. Федор ждал, когда их переведут на очистку путей.
В права вступало лето. Дни заметно прибавились, удлинился и рабочий день – от рассвета дотемна. Как-то перед отправкой на станцию случилась задержка. Пленных выстроили на плацу в две шеренги. Белобрысый фельдфебель, заложив руки назад, не спеша расхаживал перед строем. У входа в лагерь остановилась легковая машина, и из нее вылезли четверо: три немецких офицера в зеленых мундирах и один гражданский в черном костюме и в шляпе. Встречал их начальник лагеря. Поджарый фельдфебель вытянулся в струну. Начальство остановилось перед строем, о чем-то посовещалось, и вперед выступил гражданский в шляпе, молодой еще, розовощекий.
– Господа! – начал он по-русски. – Да-да, я говорю не товарищи, а господа.
– Гляди, гадючка какая, – Федор ткнул Бекетова в бок. – Господа, видишь ли…
– Мы знаем, – продолжал розовощекий, – вам живется тяжко. Но это дело поправимое, у вас есть верный выход, единственный! Идите на службу в русскую освободительную армию или в местные формирования.
– В полицаи, что ли? – спросил Федор.
– Если хотите, да! Я понимаю, вы давали присягу большевикам. Но фюрер освобождает вас от этой присяги. Доблестная германская армия скоро победоносно завершит свой поход на восток…
– Курва, а? – шипел Федор. – Где они его подобрали?
– Тише ты! – шикнул на Бирюка пленный Оника, мужик лет тридцати, рябенький и с залысинами на лбу. – Дай послушать!
– Ты, малохольный, слыхал когда-нибудь, как кобель брешет на луну?
– Вы получите обмундирование, – заливался господин в шляпе, – хороший паек, оружие, найдете себе девочек, это у нас не возбраняется.
Федор хотел спросить, у кого это «у нас», но сдержался, опасаясь навлечь на себя гнев белобрысого фельдфебеля. Тот уже косился своими белесыми глазами на Бирюка, когда он шептался с Оникой. Зверь, а не фельдфебель. А розовощекий брехал еще минут десять, расхваливая жизнь, которая ожидает пожелавших пойти на службу Гитлеру, устанавливать в России «новый порядок».
В заключение речистый предатель пригласил желающих сделать два шага вперед. Строй пленных замер, словно окаменел.
Правда, сделал попытку Оника, что топтался за спиной Бирюка. Он тронул Федора за плечо, требуя, как полагалось по уставу, чтоб тот уступил ему дорогу. Но Бирюк процедил сквозь зубы:
– Стой, падла.
Оника не ослушался. Розовощекий господин не растерял однако оптимизма, бодро заявил:
– Хорошо, господа, мы вас не торопим. Время для размышления у вас есть.
Пока разбирали руины на станции, разговоров не вели: конвоиры зорко следили за порядком. Зато вечером, после изнурительного дня, после опротивевшей свекольной бурды, приглашение розовощекого господина обсуждалось на все лады, в каждой группе по-своему.
Бирюк, Бекетов и Оника на нарах спали рядом. Семен в тот день особенно устал, еле дотянул до свистка, возвещавшего конец работы. Рана на руке, хотя и зажила, однако после напряжения всегда ныла. Растянулся на тощем матрасе, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Охватила зыбучая дрема, засасывала, как болотная топь. Сквозь нее слышал с пятого на десятое препирательства Федора с Оникой. Их шепот становился злее. Семен навострил уши.
Бирюк наседал:
– Мозгляк ты, Оника. Потом всю жизнь не отмоешься. От тебя вонять будет на сто верст. От одной печати закачаешься – иуда!
– Не задуривай ты мне мозги! Кто ты такой, чтоб меня учить? – отбивался Оника. – Я старше тебя. Подохнуть с голодухи или получить пулю в лоб, как тот, что взял у бабуси узелок с жратвой, лучше? Да?
– Что ж, умрешь, так с чистой душой, в рай зачислят. А иудой заделаешься, наши поставят тебя к стенке, как предателя. Вот и вся арифметика.
– Чего ты меня стращаешь? Наши да наши. Где они, наши-то? А немцы вот они, рядом. И сила за ними. А мне, видишь ли, моя жизнь дороже всего на свете.
– А мне?
– Пошел ты к… – огрызнулся Оника и повернулся на другой бок. Бирюк задумчиво проговорил, скорее для самого себя:
– Вот они какие, пироги и пышки, – и шепотом обратился к Онике: – Хочу предупредить – не дай бог о нашем разговоре проболтаешься!
Тот молчал.
– Слышишь?
– Не глухой.
– И точка! – подвел черту Федор, шумно вздохнув.
…На западном входе станции авиабомбы разворотили насыпь, покорежили рельсы, согнув их кренделями. Пленные засыпали воронки, растаскивали рельсы, привязывая к загогулинам веревки. Рельсы были тяжелые, сил у ребят в запасе оставалось мало, а немцы торопили, покрикивая: «Шнель! Шнель!»
Когда возвращались с полосы отчуждения, куда отволокли очередной изогнутый рельс, Бирюк, уловив минутку, шепнул Семену:
– Видишь, кирпичная стенка? За нею свалка.
– Ну.
– Правее гляди. Усек? Там воронка, а рядом труба.
– Ага.
– Это водосток. Труба широкая, я подсмотрел. Через нее запросто попасть на свалку, за стенку. А там ищи ветра в поле!
– А что?! – обрадовался Бекетов.
– Завтра попробую. Убегу! Ты со мной?
Оника шагал в отдалении. Заметив, что Бирюк и Бекетов шепчутся, догнал их и спросил:
– О чем вы?
– Семен жениться задумал, – ответил Бирюк. – А дело, понимаешь, за малым – нет ни невесты, ни воли. Вот и маракуем.
– Субчики, – усмехнулся Оника.
На другой день рельсы убирали недалеко от трубы. Бирюк ловил момент, поглядывая на конвоира. Тот расхаживал с равнодушным видом и пиликал на губной гармошке, день-деньской пиликал, надоел, прямо. Бекетов с замиранием сердца следил за другом! Он твердо решил: «Если Федор уйдет, пойду за ним». Не спускал глаз с Бирюка и Бекетова Оника. Он догадался, что они замышляют побег, и не хотел упустить своего шанса.
Конвоир повернулся спиной, наигрывая что-то писклявое и непонятное. Федор, собравшись с силами, рванул к трубе. Наверняка достиг бы ее, но вдруг закричал Оника:
– Эй! Эй! Куда?!
Конвоир обернулся и, заметив подбегающего к трубе Федора, схватился за автомат. Бросил гармошку и закатил очередь. Она дымно прошлась по спине Бирюка. Федор на секунду замер, неловко переломился и рухнул на мелкий гравий. Конвоир подскочил к нему и уже в лежачего, в упор разрядил автомат. Не спеша сменил рожок и занялся розысками гармошки.
Пленные замерли. Оника озирался, ловя взгляды окружающих. От него отворачивались. Конвоир рассердился:
– Арбайт! Арбайт! Шнель!
Работа возобновилась, а Оника все кидался от одной группы к другой, силился объяснить, что не хотел погубить Бирюка, а пытался лишь предостеречь его от пагубного шага: ведь за побег всем отвечать.
С ним не разговаривали. И тогда Оника понял, что если завтра же не заявит о желании служить в полиции и не выйдет из лагеря, ему не жить, а за гибель Федора ему обязательно отомстят. Тот же дружок его – Бекет…
Наутро Онику обнаружили мертвым: его задушили. Лагерное начальство не придало этому факту никакого значения. Отдал концы еще один, значит, тому и быть.
Пленных перевозили с места на место, в зависимости от того, где требовалась дармовая рабочая сила. Упорно поговаривали, что к зиме отправят в Германию. Когда зарядили обложные осенние дожди, пришлось особенно туго. Жили в коровнике. В маленьких квадратных окнах не было стекол, в них задувал ветер с дождем.
Снова появились вербовщики. Говорились пышные речи, замелькали на плацу каменно застывшие лица немецких офицеров, подобострастные улыбки «представителей» РОА и полиции.
Люди умирали от голода и холода, от каторжной работы и зверского обращения, но посулы предателей их не соблазняли. Пленные стояли двумя шеренгами перед кучкой отщепенцев, изможденные, в лохмотьях. «Представители» упражнялись в красноречии, сулили райскую сытую жизнь, а пленные молчали. Тяжело. Мстительно. Жидкие духом давно уже нанялись на иудину службу, но их была горстка. Оставшиеся не сдавались. Их молчание приводило в бешенство немецких приспешников.
Семен Бекетов заметил, что один из приезжих начальников пристально вглядывается в него, и похолодел: то был дядюшка Митрофан Кузьмич Кудряшов. В черном плаще, в фуражке с высокой тульей. Немец и немец. Семен молил бога, черта, дьявола, чтобы они отвели от него взгляд Кудряшова. Спрятаться бы за спину товарища, но, как назло, торчал в первой шеренге.
Кудряшов что-то шепнул немцу, тот согласно кивнул головой, и Митрофан Кузьмич в сопровождении верзилы-полицая приблизился к шеренге, остановился возле Бекетова и, ткнув племянника указательным пальцем во впалую грудь, сказал верзиле:
– Этого ко мне!
И Семен как-то сразу сломился. Он бы возненавидел самого себя, если бы по доброй воле сделал два роковых шага, скорее бы умер от разрыва сердца, чем принял из чужих рук чужое оружие. А тут сдал, обессилел так, что не мог идти. И когда верзила подтолкнул его, Семен потерял сознание. Очнулся, когда мотоцикл въехал в просторный двор. Верзила истопил баню и вымыл Семена, не возмущаясь и не досадуя, что его заставляют обихаживать дохлого пленного. Исправно и равнодушно делал то, что приказано. Вероятно, с такой же исправностью и равнодушием ходил он в карательные экспедиции, расстреливал женщин и детей.
Жили они во флигеле. За обширным двором темнел бревенчатый пятистенник, где обитал сам Кудряшов. К стене примыкало высокое, с крутыми ступеньками крыльцо.
Хмара – так звали верзилу – был широкоплечим детиной с младенчески розовым лицом, глубоко посаженными глазами. Верхние два крючка кителя никогда не застегивались. Подчас на невысоком лбу Хмары собирались морщины, на толстых губах замирала по-детски простодушная улыбка. Бекетов даже стал думать, что этот человек на плохое не способен.
Когда Семен окреп, Хмара принес ему обмундирование и бросил на кровать со словами:
– Оболокайся! К господину начальнику пойдем.
Сразу-то Семен и не сообразил, к какому начальнику. Но стукнул по лбу – ба, так к дядюшке же, Митрофану Кузьмичу, Митрошке, как презрительно звала его мать.
– Ты че мне притащил? – рассердился Семен. – То ж фрицевское барахло! Давай мое!
– Оболокайся! – не повышая голоса, но повелительно и упрямо повторил Хмара. – Сказано! – Он молча взял брюки мышиного цвета и протянул Бекетову:
– На! Господин начальник ждать не любит!
«Не в подштанниках же идти, в самом деле, – усмехнулся про себя Бекетов, – не голышом же предстать пред грозные очи господина начальника». Семен смирился, надел брюки, китель.
– А это зачем? – кинул на кровать пилотку. – Уродина. Гони шапку, зима на дворе!
Хмара молча поднял пилотку, протянул ее Семену, и тот вздрогнул, увидев, как из-под насупленных бровей сверлят его серые холодные глазки. Содрогнулся.
Митрофан Кузьмич встретил племянника радушно, даже тепло. Обнял на радостях. Потом, ласково оттолкнув его от себя, оглядел с ног до головы и заключил:
– Добрый молодец!
Повернулся к застывшему у дверей Хмаре:
– Тебя не держу. Разрешаю бутылку шнапса.
Хмара покривился, будто раскусил кислую ягоду. Кудряшов усмехнулся и смягчился:
– Аллах с тобой, можно первака. Да смотри, вусмерть не напейся!
Довольный Хмара бережно прикрыл за собой дверь.
Митрофан Кузьмич по-домашнему – в черных брюках и белой рубахе, на ногах меховые тапочки. Провел гостя в горницу, где был накрыт стол. Чего только не увидел на нем Семен – и коньяк, и сало, и ветчина, и колбаса, и хлеб, и соленые огурцы, и грибы. Зажмурился: голова закружилась. Ничего себе живет дядюшка!
– Садись! – хлебосольным жестом пригласил хозяин и сам уселся первым. Потерев возбужденно ладони, Митрофан Кузьмич потянулся к бутылке. Наполнил рюмки по самые краешки, ухватил свою за хрупкую ножку толстыми пальцами, с прищуром оценил золотистый напиток на свет и провозгласил:
– За жизнь!
Выпили. Семену коньяк не понравился, папоротником от него пахло. В голове зашумело. Ослаб в плену-то. Раньше косорыловку стаканами хлопал и ни в одном глазу. Нажимал на колбасу, только за ушами трещало.
Митрофан Кузьмич налил по второй. Семен отказался:
– Я че-то боюсь…
– Правильно, не сразу. Приди в себя. Закусывай хорошенько. Доволен, что попал ко мне?
– Не знаю…
– Не барышня, не кокетничай. Считай, что с того света тебя за уши вытянул. Наверняка, там загнулся бы. А?
– Ага, – вздохнул Семен.
– Ну вот. А со мной не пропадешь. Неизвестно, сколь продлится война, а жить надо. Не одолеть большевикам фюрера. Не-ет, кишка слаба.
– А что вам от немцев, дядя? – спросил Семен и глянул на Кудряшова испытующе. Постарел Митрошка. У глаз морщины, виски в куржаке, у рта жесткие складки.
– Видишь ли, Сеня, – после некоторого раздумья ответил Кудряшов, – у меня своя философия жизни. Хочу делать то, что хочу. Хочу жить так, как желаю, а не как мне приказывают. Что мне до немцев? А ничего! Но они дали мне власть, теперь я достиг своего. Хочу милую, хочу казню. Немцы не мешают. А большевики не давали мне развернуться. Вот в чем вопрос, Сеня. Гнали меня в колхоз, а я не хочу! Гнали на фабрику, а я не желаю! Я богатство люблю, Сеня! К слову, камешки те целы?
Бекетов пожал плечами. Не узнавал себя сегодня Семен. Какой-то не такой стал. В лагере не гнулся ни перед кем. Изнурен был телом, но не сломлен духом. А ныне, напялив чужую форму, сник, ослаб душевно, вроде убоялся чего-то. Федор говорил Онике: «Уж если наденешь поганую форму, считай, все пропало. Оружие если возьмешь из их рук, считай, что возврата не будет…» Федора нет, а он, Семен Бекетов, сидит за богатым столом со своим дядюшкой, пьет коньяк и жрет домашнюю колбасу. А Федора вот нет…
– Загнал? – по своему понимая затруднение племянника, спросил Кудряшов.
– Потерял, – соврал Семен.
– Ну и дурак! – огорчился Митрофан Кузьмич. – Знаешь, сколь загреб бы за них?
– Слышал.
– Слы-шал… Эх, Сеня… Ладно, давай еще по одной хлопнем, и я тебе кое-что покажу.
Кудряшов налил себе уже не рюмку, а стакан. Бекетову чуть плеснул. Залпом оглушил, не поморщившись, со скрипом отодвинул стул и исчез в другой комнате. Вернулся, бережно неся в руках черный в узорах ларец. Осторожно поставил на стол и открыл крышку с потускневшей бронзовой монограммой.
– Любуйся! – озаренный внутренней радостью, пригласил Митрофан Кузьмич. – Гляди, Сеня, чем я владею!
Бекетов ахнул – ларец до краев был наполнен браслетами, золотыми кольцами, нитками жемчуга, колье с драгоценными камнями, золотыми зубами…
– Откуда же? – невольно вырвалось у Семена, но он тут же прикусил язык, заметив на лице Кудряшова сатанинско-горделивую улыбку. Догадался.
– Большевики за эти безделушки упекли бы меня к черту на кулички или, скорее всего, на тот свет. А немцы не препятствуют, они поощряют. Вот за это я и люблю жизнь!
– Но это же… Ну чье-то было…
– Чье-то! – воскликнул Митрофан Кузьмич. – То, что у меня, это мое! Мое, Сеня! А тем, у кого это было, уже ни к чему, им уж, Сеня, никогда не потребуется. Вник?
Если до этой встречи Бекетов наивно полагал, что дядя служит в полиции по принуждению, надеялся, что они найдут общий язык, то теперь понял: Кудряшов палач, руки его по локти в крови…
Кудряшов отнес ларчик в другую комнату. Вернувшись, выпил еще коньяку, уже не предлагая Семену, и тяжело плюхнулся на стул. Некоторое время сидел оцепенело, зажав голову руками, вроде засыпая. Затем резко встрепенулся и уставился на племянника, будто лишь заметил его. Да, дядюшка мог пить, не пьянея.
– У тебя отец был шибко идейным, патриота из себя корчил, – начал Митрофан Кузьмич. – И Нюрка с ним скурвилась. Ты зубами-то не скрипи, я не в обиду, я зла на тебя не имею. А имел, подох бы ты в плену…
– Отца-то че приплел?
– Пооботрешься, мно-о-огое поймешь.
– Отпустили бы меня, сделали еще одну милость.
Кудряшов прищурился, и такая в его глазах появилась злоба, что Семен испуганно подумал: «Да он меня кокнет и глазом не моргнет!»
– Нет! – твердо ответил Кудряшов. – Не для того я тебя из ямы выволок, чтоб отпускать. Ты же со всех ног кинешься искать партизан, а их тут хватает. В меня же и наловчишься стрелять. Нет, Сеня, я тебе дам автомат и не вздумай финтить. Хмара будет возле тебя. Ты знаешь, кто такой Хмара? О! Нас с ним судьбина в тюряге сшибла, спасибо немцам – освободили. А Хмара мать свою придушил, вот какой это младенец! Нет, Сеня, мы будем рядышком. А что теряем? Ладно, одолеют большевики, ты думаешь я буду ждать, когда мне намылят петлю? Подорву коготки на запад, там радетелей хватит да еще с моим капиталом. На две жизни хватит. И тебя не обижу. Вник?
…Ночью сон не брал Бекетова. А рядом храпел Хмара. Накачался самогонки по самую завязку. До койки дополз на четвереньках, еле влез и спал в мундире, выпятив жирный зад.
Митрофан Кузьмич бандюга, тут все ясно. Драгоценности нахапал, золотыми зубами не брезгует, выдирал, наверное, у мертвых, а то и у живых. Подарил черт дядюшку, но ничего тут не прибавишь и не убавишь. Звенит в голове хрипловатый баритон Бирюка: «Они будут любоваться тобой? Оружие должно стрелять, и ты будешь стрелять». В кого? В дядюшку первого? Ничего еще не решил про себя Сенька Бекетов, духу не хватает на второй такой рывок, какой свершил на передовой, когда сразился с дзотом. Кого боялся? Дядюшки? Пожалуй, Хмары. Этот пришьет и пикнуть не даст. Жалко по-глупому с жизнью расставаться. И зима наступила. Куда побежишь, если трещат морозы и метут метели.
Хмара храпел с переливами. На улице гудел ветер, сметал с крыш снег и из снежной крупки вил стремительные жгутики.
Холодно и на родимой Егозинской стороне, а в материнском доме тепло и уютно. Мать бы ему пирожков напекла с грибами – язык проглотишь. И пускай бы себе таскал у него Силантий рублевки и трешки, пусть бы тешился непутевый отчим. Семен сейчас и обижаться не стал бы, смешно же! Это тебе не Хмара!
Выдавать Семену автомат Кудряшов не спешил. И к делам своим пока не приобщал. И пусть бы вообще забыл о нем. А Хмара глаз с Семена не спускал. На улице у дома – часовой. В доме-пятистеннике безвылазно сидит дневальный, иногда выползет на крылечко, подымить вонючими немецкими сигаретами; в доме Кудряшов курить не велит. Везде надзор, как в заключении.