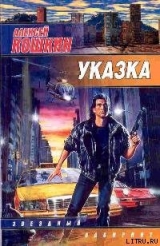
Текст книги "Указка"
Автор книги: Алексей Кошкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
– … Все с ним ясно, с этим Витькой, – сказала Галина. – А вам? До сих пор ничего не ясно?
– Нет, – ответил Сенечка.
Он встретил поэтессу Галину Опахалову, когда вышел из Дома печати поздним вечером. Она свернула руку калачиком и попросила проводить ее до дому. Сенечка проводил и рассказал, как Витька из редакции исчез. И Кабинетов ничего выяснять не стал, сразу объявление написал о том, что газета нового верстальщика ищет.
– А вот взять, например, Тольку Горшкова, – продолжала Галина. – Он тоже…
– Что – тоже?
Галина посмотрела на Сенечку, как на маленького.
– О таких вещах не говорят, – сказала она. – Но вам, так и быть, расскажу один случай. Собрались мы в клубе, стихи читать, да и просто поболтать. Толька Горшков пришел. А мы, когда он приходил, всегда знали, что он ныть будет. Так и в тот раз – сел он на подоконник, смотрит на улицу и ноет. Все ему не нравится. Город скучный, мы скучные, стихи у нас скучные. Мы ему говорим: «Чего ты ноешь? Смотри, у тебя повести и рассказы печатают, деньги платят!» А он одно твердит: нет, мол, у него в повестях жизни, одно уныние. А он сам как уныние! Надоел он нам – спасу нет. А он как раз про свою персону начал разглагольствовать. И какой он печальный, и одинокий, и перспективы-то у него нет. К счастью, в это время гимн по радио заиграли, мы слушать пошли. А Горшков на подоконнике остался. Гимн кончился, мы приходим – исчез Горшков. Вот в точности, как твой Витька, когда вроде бы и выйти незамеченным не мог. Мы сначала искали, а потом все поняли.
– Да ладно, – сказал Сенечка. – Мало ли кто чего не мог. Это вы, наверное, гимну громко подпевали, а он взял и вышел.
– Может быть, – согласилась Галина. – Только на следующий день или через день – не помню, встретили мы Тольку. Ну, думаем, сейчас опять придется про жизнь его тяжелую слушать. Ничего подобного! Идет себе, подпрыгивает – нам подмигнул, кричит: «Я новую повесть начал! Повесть о счастии!» Упрыгал он, а через неделю повесть закончил. Называется «Солнечная мурава»… Читал?
– Надо будет прочитать, – сказал Сенечка. – Только я все равно ничего не понял. Не вижу связи. Когда я в Америке в колледже учился, там у нас один тип английский язык преподавал. Тот еще тип, волосатый такой, в коже… Так он прямо посреди урока исчезал. Мы, вообще-то, за уроком не очень следили, все свои дела обсуждали – ну, там пойти уделать кого-то, или где с девчонкой побыть…
– О, романтика…
– Да, – кивнул Сенечка. – Так вот тип этот сначала все про Диккенса бормочет, про Толкиена, а потом – бац! – в воздухе растворился. Ну, его никто особенно не ищет, а он сам к вечеру выползает из какой-нибудь щели – рожа синяя, воняет от него, а сам – счастливый!.. Тоже, наверное, повесть о счастье был способен написать.
Галина посмеялась. Они прошли пешком до самого ее дома. Галина призналась, что ей хочется курить, но на улице, конечно, курить нельзя. Сенечка сказал, что у него есть антикурительные таблетки, потому что в Америке он без сигарет тоже долго не мог.
– А почему, – вдруг спросила Галина, – вы сейчас вздрогнули и головой так повели по-странному?
Сенечка помедлил секунду и сказал:
– Мне послышалось, что мотоцикл едет…
– Вы не любите мотоциклы? – удивилась Галина. – Они у нас на каждом шагу встречаются. Молодежи их бесплатно раздают…
Сенечка не ответил.
– Лучше почитайте ваши стихи, – попросил он. – Наверное, они получше, чем у Аллы Небесинской?
Галина усмехнулась:
– Аллочка Небесинская… она не очень-то умна. Ездила во Вьетнам, подзаработать хотела. Читала стихи на улицах. А вьетнамцы-то богатые все, им на Аллочку наплевать. Идут себе мимо, деньги свои в уме считают. Так и вернулась ни с чем. Я за это время многого добилась. Диплом защитила. Теперь у меня еще одни погоны есть, не только поэтессы молодой. Погоны ветеринара. Я тоже уехать могла. Мне предлагали в Корее работу, собак лечить. Но я отказалась. Можно ведь и в России неплохо зарабатывать.
– А у вас много стихов? – спросил Сенечка.
– Да уж побольше, чем у Аллочки Небесинской…
Галина прищурилась и посмотрела вдаль.
– Сейчас… Вот, слушайте, – сказала она. – Стихи, правда, очень личные. Бывает так, что мечтаешь о высоком, но в то же время о чем-то внутреннем. О том, что исходит из самого сердца…
Хочу насладиться я сладким моментом,
Когда я брожу в темноте с президентом.
И слышно, как в парке поет соловей.
И я просыпаюсь в постели своей.
Когда говорят: «Позабудь свои грезы»,
Я только вздыхаю, и капают слезы.
Погоны мои недостойны любви,
Но снова надежду мне дарят они.
Зачем мне Вьетнам, и зачем мне Корея,
Когда я родные погоны имею?
Когда-нибудь статус я свой подниму,
И гордо тогда к президенту пойду…
– Да, очень хорошие стихи, – сказал Сенечка. – И что же? Их напечатали?
– Напечатали, конечно! И деньги большие заплатили. Ведь это и есть настоящая поэзия. Патриотизм, а не всякие там самокопания… И вообще, струю надо ловить. Писать про то, как народ президента любит…
Проводив Галину, Сенечка, как обычно, поймал такси и поехал домой. В переходе снова играла та скрипачка. Мелодию играла какую-то известную, только гораздо медленнее, чем надо. Перед девушкой снова лежал скрипичный футляр, в который она собирала деньги. Сенечка замедлил шаги, нашаривая в кармане рубль.
Тут он увидел, что не он один слушает скрипачку. Прямо перед ней стоял человек в странной одежде. Сенечка не сразу понял, что человек этот, сам маленького роста, одет в просторный ватник. Погон на ватнике не было.
Скрипачка встретилась с Сенечкой глазами, и Сенечка улыбнулся ей. Но девушка не ответила на улыбку. Сенечке показалось, что ей даже стало неприятно.
Тем временем приземистый человек в ватнике наклонился чуть ли не до земли и сунулся ближе к скрипачке. Он что-то делал руками, но широкий ватник мешал рассмотреть, что именно. Потом полы ватника закачались, и Сенечка все понял.
– Старобабин! – закричал он и рванулся. Наскочив на нескольких прохожих, которые как раз замерли и стали озираться, он оказался на свободном пространстве и успел увидеть, как приземистый человек в ватнике прячет в карман деньги. Деньги, украденные у скрипачки.
Сенечка прыгнул. Под ноги ему попался скрипичный футляр. Раздался картонный хруст. Сама девушка, казалось, только сейчас очнулась от своей музыки. А могла бы подставить человеку в ватнике подножку. Но скрипачка только сжалась и хлопала глазами.
Человек в ватнике увернулся от Сенечки и быстро-быстро засеменил к выходу. Сенечка по инерции пролетел несколько метров и затормозил, ухватившись за чье-то пальто.
– Держите Старобабина!
Человек в ватнике был уже на самой верхней ступеньке. Огромными прыжками Сенечка настигал его. Перед ним расступались.
Тут Сенечка увидел милиционера. Милиционер был как раз между Сенечкой и Старобабиным.
– Ловите его, товарищ милиционер! – закричал Сенечка. – Это сам Старобабин! Он украл деньги у бедной девушки!
В это время Старобабин выбежал из перехода и исчез из виду. Сенечка собирался последовать за ним. Он пробежал еще несколько шагов и тут понял, что милиционер, судя по всему, не сообразил, кого надо ловить. Сенечка натолкнулся прямо на него, заметив погоны старшего сержанта.
Милиционер, конечно, дружелюбно улыбался. В Обновленной России все милиционеры были дружелюбными. Сенечка припомнил аэропорт, где Старобабин украл у него деньги, и обозлился на вора еще больше. Сейчас он все объяснит сержанту, и Старобабину не уйти.
– Документы, – сказал милиционер.
– Там Старобабин! – выдохнул Сенечка, не слушая.
– Ты что, глухой? Документы, я сказал.
Улыбка у милиционера была уже не очень дружелюбная. Сенечка на секунду даже забыл про Старобабина. Он прищурился, сунул руки в карманы, смерил милиционера взглядом и спросил:
– А вежливость?
Милиционеру не понравилась насмешка.
– Вынь руки из карманов! – крикнул он. И выругался.
Пальцами с грязными ногтями сержант стал копаться в Сенечкином паспорте. Потом Сенечку охлопали по бокам, повернули спиной и снова охлопали. Сняли сумку, заглянули внутрь.
– Вы… кто? – спросил Сенечка.
Милиционер ухмыльнулся. Глазки его сузились.
– Старший сержант Шнурко. Районное отделение милиции. Оружие, наркотики, взрывчатые вещества? Запрещенные газеты, листовки? Изображения полумесяца, шестиконечные звезды?.. Что молчишь? Я спрашиваю, есть при себе или нет?..
Рот у Сенечки открылся.
– Что, у меня?
– Ну не у меня же… С какой целью здесь находишься?
– Я живу здесь, – сказал Сенечка. – То есть я живу там. Вон в том доме…
– Руками-то не махай, – посоветовал сержант Шнурко. – А то оторвет кто-нибудь. Так! Сумку взял. Пошли в участок.
Рот у Сенечки закрылся.
– Какой участок?..
– Ты что, тупой? – спросил сержант Шнурко. – Или шибко умный?
К удивлению Сенечки, они пошли к его дому. «Видимо, участок находится в подвале», – решил Сенечка. Он помнил про подвалы Нью-Йорка, вернее, целые катакомбы, ведущие в заброшенное метро. Там воняло химическими реактивами, а под лестницей орали крысы-мутанты. Полицейские были безмятежны и курили траву. Один из них пытался застегнуть наручники на шее Сенечки, а потом упал, не переставая смеяться. Упавшего запинали насмерть, видимо, перепутав с задержанным. Потом разбудили какую-то итальянку с полуоторванной губой. Она была слепая. Полицейские забыли про Сенечку, и он развязал веревку. После чего выбрался наружу, измазавшись в какой-то слизи. Нью-Йорк был темный и пустой, как замолчавший барабан.
Но участок сержанта Шнурко находился не в подвале, а на втором этаже. Сенечка разглядел надпись на стене: «Бей ментовскую козлятину!» Сержант Шнурко подтолкнул Сенечку, и Сенечка перешагнул порог. Это, судя по всему, была обыкновенная квартира, переделанная для нужд милиции. Сенечка с вопросом оглянулся на сержанта Шнурко. Милиционер запер дверь.
– Простите, в какой год я попал? – мигая, спросил Сенечка. Этот вопрос, казалось, окончательно лишил терпения сержанта Шнурко.
– Что тебе не нравится? – заорал сержант Шнурко. – Быстро к столу. Не двигаться и молчать!
Сенечка послушался. Глазки сержанта Шнурко превратились в спичечные головки и заблестели, как будто их кто-то лизнул.
– Так! Вынул все из карманов.
Сенечка поспешил вынуть.
– Положил на стол.
Сенечка положил.
– А теперь пошел на свое место. И дверь закрыл за собой.
И Сенечка увидел, что угол комнаты огорожен стальной решеткой. За решеткой стоял стул. Сенечка сел на стул. «Сейчас бы „Холстен“, – подумал он. – Или „Миллер“. Или то и другое. В неограниченном количестве. Тогда бы я что-нибудь понял».
– Иди сюда, – сказал сержант Шнурко две минуты спустя. – Так! Ручку взял. Расписался.
– Я могу хотя бы…
– Расписался! – надавил на голос сержант Шнурко.
Сенечка увидел, что это заполненная форма. «Протокол, – прочитал он. – Такого-то числа… Находясь в таком-то месте… В нетрезвом состоянии… Общественный порядок… Совершил…»
– Не хочешь расписываться, – сказал сержант Шнурко. – Сопротивление сотрудникам органов милиции… Так! Сел на место.
Окно было завешено толстой шторой. Под потолком горела яркая лампочка. Сержант Шнурко выпятил нижнюю губу и играл карандашом.
Где-то включилось радио, и заиграли гимн. За стеной упал стул. Отчетливый женский голос произнес: «Чего ты так вскочил? Никто ведь не видит…» Сержант Шнурко встал и вздернул подбородок. Он даже пытался петь, но получалось тихо и шершаво. Потом он сел. Крякнул, словно не был доволен своим пением. Гимн кончился. Женский голос за стеной сказал: «Мент-то наш, бедолага, снова развлекается. Задержанного привел». «Бу-бу-бу-бу», – ответил мужской голос, и раздался звонкий хохот.
– Подошел сюда, – сказал сержант Шнурко.
Сенечка снова вышел из клетки.
– Сел. Будешь подписывать протокол?
– Мы не в Америке, – сказал Сенечка. – У нас цивилизованное государство. Вы нарушаете все нормы поведения должностного лица.
Сержант Шнурко смотрел непонятно.
– Я корреспондент государственного издания, – продолжал Сенечка. – Завтра же вас уволят из милиции. Достаточно будет одной моей статьи и заявления в прокуратуру.
Сержант Шнурко сжал кулаки и взмахнул ими. Но смотрел не на Сенечку. Сенечка даже оглянулся – нет ли кого за спиной.
– Вот так всегда! – закричал сержант Шнурко. И смахнул со стола все бумаги, после чего ударил кулаком по приемнику. Приемник сорвался со стены и разбился. Сенечка отпрыгнул.
– Все вы одинаковы, – сказал сержант Шнурко и погрозил пальцем. В носу у него набухала сопля. – Правила поведения знаете! Прокуратура! Уволят! А меня, между прочим, давно уволили, – вдруг тихо сказал он и вытер нос. – Президентская программа. Облагораживание милиции. А Старобабин ворует! – снова закричал он. – В тюрьме телевизоры понаставили, компьютеры, домой на выходные отпускают. А я, между прочим, свое дело любил. С преступностью боролся. Не пряником, а кнутом..
– Прекратите немедленно, – сказал Сенечка.
Сержант Шнурко побагровел.
– Вот посмел бы ты мне так сказать в добрые времена! Живо бы тебя к порядку призвали. А теперь… Эх! Милиции не боятся. Мимо идут – даже в землю не смотрят. Вообще замечать перестали. Стражи порядка в официантов превратились. «Чего изволите?», «Позвольте вас попросить!» На лыжах бегают. На коньках. Плавают, как бабы. Тьфу… Ничего! Скоро вся уголовная сволочь-то повылезает, позарится на халяву. Вот тут-то мы и поднимемся. Погоним ее, как встарь. Старая гвардия! А такие, как ты, умненькие, – продолжал он, – снова у нас запоете. А ну, встать!..
И он схватил Сенечку за руку.
Сенечка выпрямился.
Сержант Шнурко схватился за стену и выровнял полет. Он был круглый и тяжелый. Остановился, держась за батарею.
Сенечка отдышался.
– Я жил в Америке, – сказал он. – И даже канадцев французского происхождения не боялся…
Сержант Шнурко набычился и потирал вывихнутый локоть.
– А я-то думал, что проснулся, – со смешком сказал Сенечка. – Ты, сержант, молодец. Даже спасибо тебе за приключение. Я словно в своем детстве оказался. Только мираж-то этот вечный. Никакой старой гвардии. Все, прощай…
– Постой, парень!
Сержант Шнурко сопел и смотрел в пол.
– Ну их всех… – сказал он. – Ты, я вижу, тоже ничего в этой новой жизни не смыслишь… Заходил бы иногда, что ли?..
* * *
…бросил собачий череп. Окно разбилось. Я пошел по улице. Потом подошли двое черных. В белых жилетках и трусах. Жмурились на солнышко. Я тоже давай жмуриться. Солнышко для меня далекое и родное, а они – нет. Говорят:
– Ну что? Как там твоя русская национальная идея?
Мне стало интересно. Они что, газеты читают?
– Впервые слышу.
Один худой и подвижный, а другой – баскетболист. Баскетболист говорит:
– Чем расплачиваться будешь?
Где-то я их видел. И они меня видели. Не помню.
У подвижного ножик. У баскетболиста, как ни странно, мяч. Повторил свой вопрос мокрыми губами. Отвечаю:
– Позволю тебе отсосать у меня. Только недолго…
Все было быстро. Подвижный ткнул баскетболиста ножиком. Глубоко. И совсем не в мяч. А потом боднул светофор. Светофор дрогнул и зажегся. Я говорю:
– Выворачивай карманы.
Подвижный (впрочем, уже не подвижный) сморщил рожицу. Протянул свернутую бумажку.
Я пошел в переулок. По стене ползали сороконожки. Присел на лестницу, на пятой ступеньке. В бумажке трава. Закурил. Прижег сороконожку. Стал считать. Тридцать две секунды. Потом подохла.
Вспомнил, где их видел. Кто-то лез в окно. Я подошел. Они стояли. Говорят:
– Это твоя машина?
Смотрю: старый «Форд». Измазан каким-то дерьмом.
– Моя.
Подарил им этот «Форд».
Они сказали, что снимают кино. Машина нужна им для взрыва. Потом они попросили деньги на съемки. Я сказал, что буду в доле, иначе не дам. Потом они…
В небе между домами полетел самолет. Значит, летают еще. Наверное, китайский. Не боятся летать над городом. Впрочем, ракет здесь уже не осталось. Какие рассыпались, какие продали Ирану… А на истребителях, какие еще исправны были, летчики все на Кубу рванули. Загнали их там по тысяче долларов, работу себе нашли. Я об этом в новостях слышал, Си-Эн-Эн тогда еще не закрыли…
Нет, это другие. Видел еще раньше. В колледже. Того, который на нож напоролся, зовут Мак. Он хвастался, что гей. Выяснилось, врал. Потом ему вкололи полторы дозы прямо на занятиях. И он валялся на куче ободранной штукатурки… А второй, Луи, залезал на чердак и блевал там. Пока его не сбросили. У него еще сестра была, у которой серьги выдрали…
Наверху открылась дверь. Выглянула китаянка. Я ошалел, когда увидел. В таком гнилом доме… Может, все-таки японка? Она говорит:
– Иди сюда.
Нет, китаянка. Я поднялся. Спрятал траву в карман.
– Заходи.
Я зашел. Слышу:
– Сюда только черным ходом можно попасть. Это ничего. Подъезд все равно вонял. Теперь обгорел. Почти не воняет. Пак его заколотил досками. Никто не проломит.
– Это почему? – спрашиваю.
– Он гвозди воткнул и смазал чем-то желтым. Ты туда не суйся.
Она маленькая, темнолицая. Все время грозит кому-то пальцем. Не мне. И кожа на лбу во все стороны ползет.
Хвать меня и тащит.
– Я все выкрасила, – говорит. – Кроме потолка. Но ты на потолок не смотри. Ты смотри в окно. Во всем районе только один канадец. Да и тот однорукий. Хороший район. Здесь мэр жил, пока его не переизбрали.
– А теперь он где живет?
Она уставилась на меня.
– Его же переизбрали, – говорит. – Прямо в этом доме. Давно. Хочешь чаю?
Я спросил:
– А если я не захочу смотреть в окно?
Она забегала.
– Так ты что, не покупатель?
– Нет.
Она остановилась.
– Я же сегодня уезжаю, – сказала. – У меня денег не хватает…
Я достал траву. Опять закурил.
– Двести долларов! – крикнула она. – Покупай!
– Мне очень жаль, – говорю.
Она прищурилась:
– Вежливый… А мне насрать. Сто пятьдесят! Выкладывай.
Замолчала. Дергалась, как кобра. Я говорю:
– Пятьдесят.
Она что-то крикнула по-своему. Вижу, рот у нее поехал вниз. Тихо говорит:
– Ведь последний программный рейс. Потом обычные пойдут. Там дорогие места… Ладно! Бери за сотню!
– Ладно, – говорю. – Сотня так сотня.
Взяла. Перестала грозить пальцем. Стала совать лист на владение. Я говорю:
– Ключ давай. И второй тоже.
Сел, играю ключами. Она стала вертеться, собирать сумку. Потом вышла на середину комнаты, вроде как запоет сейчас. Слышу:
– У меня месячные…
Я только привстал. Она давай дальше вертеться. Испугалась. Трава закончилась. Смотрю в окно – те ушли. Баскетболист, наверно, сам ушел. Не мог же тот, второй, его волочить…
Она вещи собрала. Я смотрю вполглаза. Стоит в углу. Беседует с кем-то. Вижу, что-то мокрое. А это зеркало, все в пыли. А по нему слезы текут. Я говорю:
– Ты чего?
Она:
– Раньше я была другая. Красивая. А сейчас зубы гнилые. Если присмотреться. Хочешь, поехали со мной?
– Вот еще, – говорю. – Только я квартиру купил…
Тут до меня дошло. Зачем, думаю, купил? Все равно уезжать собрался…
Она как засмеется! Потом вижу – застыла. И лицо неподвижное. А у двери китаец стоит. На меня не смотрит. Я тихонечко к окну. Невысоко.
Он говорит:
– Ты еще здесь, дура?
Она села на корточки и ну изгибаться, как в коликах. Руки заломила. Он говорит:
– Я тебя везде искал. Достал деньги. Пойдем.
Она – ноль внимания, как в задумчивости. Он шагнул, взял ее за волосы, и они вышли. Про меня забыли. А у меня теперь на сто долларов меньше… Я дверь запер, пол подмел, дохлую собачонку в мусорку бросил и на диван лег. На потолок смотреть и правда нельзя. Я глаза закрыл.
Да, озадачил меня Игорь Вадимович этот, из консульства. Чтобы вышло, как он советовал, так для этого мне пистолет нужен. Без оружия не справиться. А где его взять? Отобрать у кого-нибудь? Так оружие для того и носят, чтобы ничего отобрать нельзя было… К вдове сейчас тоже не сунешься… Ладно! К Вовке, конечно, неохота обращаться, а надо. Только я теперь звонить не буду, а то он опять отвертится. Прямо к нему поеду…
… Нет, вспомнил. Не из какого они не из колледжа. Сидели мы однажды в клубе. Димка все о русской идее говорил. Про то, как он из России тысячу парней привезет, и они здесь порядок наведут. Вовка говорит:
– Да кто сюда поедет, в эту Америку?
В это время свист раздался шелестящий. Димка крикнул:
– Бомба!
И отовсюду дым повалил. Меня кто-то бац по голове. Ну, я свалился. Внизу дыма меньше. Я смотрю – ноги. Много черных ног в сандалиях. Вовка заверещал. А Алекс просто сказал:
– Не тронь видак. Убью.
Потом как выстрелит! И снаружи кто-то выстрелил. А когда америкосы убегали с нашим видаком, я выглянул и хорошо запомнил их. Просто это давно было.
Нет, баскетболист не загнется, наверное. Надо было ему еще добавить…








