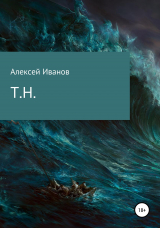
Текст книги "Т.Н."
Автор книги: Алексей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Но это была вовсе не игра! – оправдывался Лёша.
Ведь как и положено лимбическому отделу головного мозга он всегда жил одними эмоциями. Лишь благодаря общению с Филом постепенно сублимируя их в этические нормы.
– Да. Это был бой. И ты его выиграл, – апеллировал тот напрямую к Банану, видя что Лёша уже распустил нюни. – Мысли как самбист. Вспомни, чему в детстве тебя учили. Ты сумел-таки вывернуться, вспотев от напряжения, и уйти от захвата, не дав ей провести удушающий прием. Хотя она, фактически, уже висела у тебя на шее.
– Да, она была так мила! – продолжил Лёша: не понимать, что с этим слюнтяем тут уже никто не разговаривает.
– Только это и помогало ей тебя отвлечь, произвести подсечку и повалить на канвас. Ваших отношений.
– Так а зачем она это делала? – не понял Банан.
– Как это – зачем? Чтобы как только ты расслабишься, закинуть ноги на треугольник и навсегда повиснуть у тебя на шее. Время от времени сжимая в постели хватку, если ты начнёшь ей хоть в чём-то возражать. Так делают все. Им, по сути, больше и нечем тобой управлять. Ведь если они начнут пилить тебе мозги, то как только ты выйдешь из себя от их настойчивости что-либо навязать тебе, я автоматически выйду из сердечной «чаши терпения» и легко разобью любые их доводы.
– Как было уже не раз! – вспомнил Банан. Как Фил отбрил нападавших на него философов на квартире у Шотландки.
– А вся её красота и её окружение – это лишь пряник, вкусив который ты должен был разомлеть и перестать замечать тот кнут пожизненного рабства, который она приготовила для тебя за спиной. Но ты увидел его тень и рефлекторно ударил её копытом своей низшей природы, заставив её ревновать. Так что наслаждайся ветром, пока кто-нибудь снова не попытался накинуть на тебя аркан. Чтобы затянуть тебя своими ласками и мечтами в свой загон.
И он исчез для него так же внезапно, как и появился.
Так что Лёша сразу же намотал сопли воспоминаний на кулак полученного осознания, и стал, разматывая их как страховочную нить Ариадны, спускаться в колодец своей высшей сущности:
«А я со своею изящной графиней
Скитаюсь бездомный, безмолвный, бездонный,
Как танец в пучине. Пучине причин.
И ключом партитуры
Я правлю запавшую клавишу «дула»,
Настроив рояли души.»
Нас трое в рояле души. И это его так расстроило, так что он решил сегодня не ограничиваться, не расстраиваться, а залез в душистый рояль. Но вскоре ему стало душно. И что бы избежать очередного рас-тройства, он принялся себя натурально четвертовать. Потомучка новорожденный Пластилиновый мальчик пропотомучал: руки (Лёша) – ноги (Банан) – голова (Фил) – нет концепции ядра, только эго, как дыра. И предвложился в то, что Лёша всё спускает Банану с рук за их у него отсутствием в унитаз желания, засевшему в интеллектуалете Фила для коррекции команд из эгоцентра, осуществляющего засев ячеек памяти сухим продуктом творческого акта по степени их усвояемости. Чтобы Банан удобрял им свою внутреннюю речь, перегнивая в своих размышлениях. Постепенно становясь Филом.
И вместо предсмертной записки он начертал «Infernal love»:
«Вначале было Слово. И Слово было убого. Убогим был и «бог», пока тьма не объяла его.
Иконопись былого: пластика страстей. Кривая логики теряет свою кривизну, выстраиваясь параллельно последней вымирающей извилине.
Поршень бытия дает энергию для внутреннего сгорания. За счет сжатия тебя в камере проблемы.
Я, конечно же, сгорал и внешне. Но это было до того, как я перепрофилировал себя в автомат по переработке и утилизации воспоминаний. И только стая липких мыслей парит над стекловатой событийности и увлекает за собой – в живописуемое плоскогорье меня-возможного. Что зря: я есть ружье, которое утратило свой инстинкт. Кто, гуманист? Это работник ГУМа. Из сферы обслуживания. Я – лишь остаточная поза. Видимости невидимого. Того, что вне. И как бы над: эксцентрика ногтей, царапающих полировку пустоты (что позволяла сгорать в себе метеоритикам потрясностей и звездкам грёз), куда воткнул я ось себя-грядущего!
Движенье – это жизнь. Цель жизни – продвиженье. Итог движенью – тленье. Давайте ж погнием:
Плиты плоских мыслей, пережив землетрясение отвергнутой любви, провалились в закрома души и, прищемив инакомыслие о ней, завалили вход меня к себе. Я обезрулил и, со все ещё наивно раскатанным парусом нижней губы, был выброшен на мель сознания. Губу скатал и кинул в чемодан: до лучших дней. Сижу на чемодане чувств и в слепокруженьи карусели мыслей впадаю в транс зависания меж двух реальных, в чем-то, плоскостей: себя-возможного и невозможного-настоящего. Она! В душе ехидничают колики тоски. Но это злая игра, игра с собственным одиночеством. «В дурака» – меня: сдавая карты событий играл с ней, а выиграло – оно.
Как заводной, бью себя по башке фактом: Жизнь полна импровизации!
И экранизации тоже:
В разрезе глаза мелькают клубки силиконовых эмоций. Анализ людей на ложь даёт удивительнейшие результаты! Непредвзятость меня-былого поражает. Но она… Она… Она!.. Она!!. Она!!!
– Тихо! Встать! Суд идет. В кино моих иллюзий.
Навязчивая мысль – это бумеранг, танцующий в мозгу под вкрадчивую музыку ностальгии (в данном разрезе моего сердца). И чем сильнее ты отбрасываешь свою любовь, пытаясь сбежать от неё хоть на край земли, тем охотнее она вонзается тебе в затылок.
Честности ради, она – неизбежный итог, фокус любых моих раздумий об окружающей реальности. Вывод: Она – фокус. Который со мной произошел. И она исчезла.
Поползновения символизма:
«Мелодия любви, вдруг, оборвалась в тишине.
Но это – о телесном.
И вот сижу и жду, пока она окончится во мне.
И это даже интересно.
Со стороны, конечно».
С точки зрения психолога: Джонсон, для меня, есть совокупность ряда произвольных внушений, в результате некоей трансформации реальности превратившихся в ряд непроизвольных самовнушений.
Нет сильнее искушенья,
чем игра в самовнушенья.
Вывод: Она, для меня, галлюциноген.
«Зимней вишнею она
В моей душе останется.
Но только кончилась зима,
Как вишенки растаяли».
Да! Да! Да! Мерзлота мерзости сковала разум. И мне приходится ломом мысли выдалбливать в нём извилины. Чтобы просто снова начать жить в мире, который я так дико ненавижу и люблю.
Ведь комфорт – аксиома существования!»
В конце концов, усмехнулся он, никто не стоит того, чтобы я покончил с собой из-за предрассудков. Ибо они – лишь следствия моих привязанностей. О которых мое подсознание от имени Лёши, используя Джонсон как ненаглядный пример, и пытается мне сообщить на языке образов. То есть – в прочувствованном виде, на языке подсознания. Раз уж оно оказалось умнее меня из-за того, что я, оказывается, веду бессознательный образ жизни. Причем, по определению. Отрыгивающийся в виде воспоминаний. И как корову, заставляющий меня моей бессознательностью снова и снова усваивать этот материал, этот запасник моей иллюзорности. Пока он не превратиться в мрамор – осознанность, из которого я, в конце концов, смогу высечь свою индивидуальность. Отсекая от себя всё лишнее.
Ведь привязанность – это ноумен воспоминания о том, куда мы вкладывали свою сердечную энергию. Так сказать, фиксированное сердечное излучение. Призванное напоминать нам (своими выходками) о том, что ранее оказывало на нас столь сильное впечатление. Таким образом, привязанность, как указатель на источник положительных ощущений, есть вектор нашей активности, образующий посредством той или иной привязанности стереотип поведения. А раз уж у меня есть желание покончить с собой, то это есть следствие воздействия на мою падкую до всего красивенького психику, эту наивную прилипалу, шаблона поведения несчастных до безумия (само-) влюбленных.
Я понимаю, усмехнулся он своему подсознанию, отдыхающему в имении Лёши, что любовь для тебя – всё, ибо это для тебя пока что самое положительное впечатление, но неужели твои впечатления носят столь шаблонный характер? Что нового ты можешь тогда создать? Что ты тогда за Художник? Может, ты простой обыватель? А весь твой апломб художника – лишь маска? Которую тебе, как и наивному Дэзу, лишь нравиться иногда надевать. Дабы кичиться своей очевидной в глазах других неординарностью? В то время как сам ты – раб своих привязанностей. Если твоё мышление столь стереотипно, то у кого тогда возникнет желание тебя читать? И тем более – читать после твоей смерти? То есть – по-читать?
Ведь если сознание – это способность предвидеть последствия проявления тех или иных привязанностей при твоем бессознательном участии, а сознательность – способность, предвидя, не допустить действительных проявлений привязанностей, не дать им даже и шанса нас захватить, то осознанность – готовность в любой момент прекратить проявления привязанности через наши действия. Какой бы «полезной» ни казалась нашему воображению (подхлестнутому им и этим ослепленному) его работа. Воображение – предатель, (по слепоте своей) завлекающий нас в сети привязанностей, только и наслаждающийся своим захватывающим дух (в тиски новизны) феерически праздничным месивом впечатлений. И осознанность – меч, рассекающий эти сети. А поскольку общество, завлекая сердечное излучение нашего восприятия в сети стереотипов поведения, программирует желания, то и – узы, связывающие нас с обществом!
То есть осознанность – глаза сердца, одним своим присутствием (света) заставляющие его раскаиваться, узрев серпантин своих голововскружительных заблуждений – эти «американские горки» души – со стороны. Привязанность – эхо, посредством которого в нас откликается наше прошлое, пытаясь завязать диалог с твоей неврастенией. Твое прошлое – один из вымыслов, который (в силу твоей наивности) лучше всего сохранился в твоей памяти. И не нужно превращать свое настоящее в попытку убедить себя в реальности этих домыслов. В попытку – действительно (в новых действиях) – их домыслить. Это как сон, просыпаясь от которого ты ещё некоторое время думаешь о том, как нужно было дальше тебе поступить. Пока не проснешься окончательно. И не вспомнишь Кто ты и где ты. Вместо этого. Прошлое – это грязь, прилипшая к твоим подошвам. Тем более, – усмехнулся он, втаптывая Лёшу в эту самую грязь, – если твоя мечта не реализовалась, то она и образовалась в результате твоих заблуждений. Твоей переоценки своих возможностей её реализовать. И вспоминать о Ней –значит продолжать себя обманывать. Что, мол, когда я стану большим и сильным, я раз-вернусь к ней, и… Но часто ли наступает это завётное там? Джонсон – для тебя (как, собственно, и Белка) – лишь незабываемый упрек в твоем ничтожестве. Которое единственное, что может реально тебя волновать. И пока ты не станешь сильнее, ты приговорён самой судьбой – твоим бессознательным – о ней вспоминать. А ты, вместо того чтобы наращивать свой потенциал, который единственно и может превратить меня из болота (обывателя) в реку – истинного джентльмена, трусливо пытаешься сбежать с Её урока. Своими наивными попытками относиться к своему телу как к отдельному от тебя живому существу. Забывая, что без тебя и твоего лоцманского контроля оно мертво – жадно чавкающая под ногами своих недо-поступков грязь! Не дающая пробиться на свет свободному сердечному излучению скрытого внутри тебя Ангела. Вынуждая постоянно себя обманывать. Хуже того, зная, что урод видит в других уродов, пытаясь своей оценкой ещё больше их изуродовать чтобы через это хоть как-то (и ещё как!) возвыситься, заставляешь себя – своим нежеланием прилагать хоть какие-то усилия – себя уродовать. Коверкая самооправданиями свои же собственные глаза! И через это начинаешь видеть не мир во всей его очарованной странности, а скопище подавленных страстей и их жадные выплески через произведения искусства. Превращая последнее – в единственную отдушину. Заставляя себя от души ему придаваться. Хотя и знаешь, что трудности только закаляют и обостряют восприятие.
Говорят, волны времени лижут раны любви… Но я-то знаю, что цветы спрятаны в стеклышках восприятия, этих контактных линзах сознания. Надо лишь протереть их от жарких испарений любви к себе. Стереть испарину своей жадности. И больше не давать обществу себя провести. Танцуя в хороводе их обрядов, ритуалов и стереотипов поведения. В безотчётной попытке выпросить у этого Деда-Мороза конфетки новых впечатлений. И получая вместо леденца цветную стекляшку, подобно Джонсон. Только так можно навсегда избавиться от давления времени, перестав быть птенцом с его раскаленной глоткой постоянного ожидания подачек от собственной жизни. Этого суррогата воображения. Его атрофирующего вербовкой тебя на службу к желанию. Став вместо этого – всегда – настоящим!
Надо заметить, что вначале Лёшу, для которого на судне почему-то не оказалось свободной каюты, хотели поселить в кают-компании. И он, согласный, как всегда, на всё что угодно, тем более что внутри него неотступно клокотало то, что и заставляло его не обращать уже никакого внимания на все эти бытовые мелочи, уже растянулся было на диванчике возле общественного стола.
В отличии от других перекати-поле, вещей у него не было. И даже положить под голову было нечего. Но затем другие покупашки, зашедшие в кают-компанию выпить чаю и наткнувшись на его неотвратимое присутствие, мешавшее им откровенно между собой поговорить о делах, заставили его пойти возмущаться к Капитану. Мол, за что я плачу вам такие деньги? Пятьсот долларов! Не только за место под машину, но и за амортизацию каюты! Согласно заключённой с директором их компании договором. А не возле двери на коврике! Шумно настаивали они. Его на путь истинный. Социальной справедливости и прочий бред.
И лишь после того, как Лёша громогласно исполнил все эти ритуалы подковёрной борьбы за место под солнцем, его тут же поселили в каюте Старшего Механика. Который до этого жил исключительно один – в двухместной каюте. В силу своего привилегированного социального положения на нижнюю шконку. Как второй человек на судне. После Капитана. И долго отказывался войти в сложившееся положение хотя бы на верхнюю шконку этого попаданца из другого по отношению к членам экипажа мира. За которым стояли незримой тенью более высшие, чем они оба, силы. Объяснял Капитан.
– Взявшие у меня за это пятьсот долларов! – подтвердил Лёша.
Капитан тут же уверил Стармеха в том, что они всем экипажем сейчас что-нибудь ещё придумают. И ушёл. Думать.
– К себе в точно такую же каюту! – скрипел зубами Старший Механик. Всё никак не желая смириться с тем, что ему весь этот долгий теперь – из-за него – рейс придётся терпеть у себя под боком Лёшу. Словно занозу! В заднице.
И пару раз, не взирая на годы, подымался на мостик, раз за разом побуждая Капитана как можно активнее начать думать. Поселить Лёшу в своей каюте. Разумеется, но не говоря об этом вслух. Но – тщетно! Капитан упрямо переключал его внимание от этого, торчащего у Стармеха из задницы вопроса, на решение уже других, не менее насущных теперь задач. «Бессердечная сволочь!» – бормотал Стармех, спускаясь вниз, в свой нижний мир.
И лишь после того, как Лёша попросил Стармеха оценить с литературной точки зрения его «Infernal love», тот надел очки, прочитал и ответил ему, что понял из этого только то, что кто-то, – подчеркнул он, – сделал Лёше очень и очень больно. Шумно вздохнул и, скрипнув сердцем, примирился с этим неудачником. Начав нормально общаться.
«Наши слёзы и страдания вербуют наших сторонников», – ещё раз понял Лёша. И пошёл на ужин.
«Наш язык – врагов», – запоздало понял Иисус, как только священники приговорили его к распятию88
Матф. 26:64-66
[Закрыть]. И больше не открывал рта. К удивлению Пилата.
Во время ужина в кают-компании Лёшу подловила уже знакомая нам Кухарка, которой так и не удалось совратить его пирожками, наконец-то поняв, что тогда ему было просто не до неё. И попытавшись взять реванш, заявила, что они «с девчатами» сегодня вечером у неё собираются. И она хочет его… там… со всеми познакомить. Мол, не бойся. Я буду не одна. И любезно согласилась его сопровождать.
А точнее – отконвоировать. Не отступая ни на шаг.
Так же, помимо всех четырёх женщин-покупашек, в данный «салон» были приглашены ещё парочка симпатичных молодых людей из числа уже опытных бизнесменов. Которые многому могли бы Лёшу научить, подмигнула по дороге Кухарка. Если бы они не выпили пару стопок и минут через десять, когда беседа стала проваливаться в сугубо женскую рутину, не покинули тусовку, сославшись на неотложные дела и необходимость срочно обживать каюты. Пока не наступило на горло время сна. А Лёша…
Ох уж этот Лёша! Которого соседки по коммуналке ещё с детства регулярно обвиняли в том, что он постоянно их подслушивает. Даже тогда, когда он уже достаточно подрос и уже не крутился на кухне, наливая то суп, то чай, то ещё чего, а сидел уже в общем коридоре с ногами на столе и с книгою в руках делал вид, по их мнению, что читает. А сам только и делает, что подслушивает! Пока они шумно общались между собой на кухне, обсуждая свои проблемы.
– И интересно тебе выслушивать бабские сплетни? – мимоходом спрашивала одна из соседок, проходя мимо него в свою комнату. И прихватив сигареты, тут же выходила обратно. – Когда тебе это уже окончательно надоест? Шел бы в комнату и смотрел телевизор. Как все. Книжку-то переверни! – усмехалась она. Исчезая за поворотом.
Он усмехался ей вслед, заметив что книга в руках лежит нормально. Переворачивая восприятие.
И спокойно продолжал читать, между строк, что именно не даёт соседкам покоя.
И теперь чувствовал себя в обществе дам, как дома. И даже иногда смешил их, давая свои наивные, по их мнению, советы. Делая ему скидку лишь на то, что они расценивали это как способ поддержать беседу. Мол, надо же хоть что-то говорить?
– Или напомнить о том, что он не просто так с нами тут сидит? – подмигивала одна из них. И тут же наливала ему в стакан виски. Найдя его очередное замечание как внеочередной отпуск от пересудов о делах, перемывания костей всем своим близким, и повод ещё раз всем вместе выпить.
– Ну, на здоровье!
– Чтобы купить те машины, на которых можно будет навариться! – вставил Лёша свои «пять копеек». В этот автомат, выдававший ему уже не стакан лимонада, как в детстве, а четверть стакана виски.
– Да, за это стоит выпить! – шумно соглашались они.
Понятно, что его терпели возле себя и не решались прогнать взашей только из-за того, что его пригласила туда хозяйка всей этой цветущей от их улыбок накрытой на стол «поляны», для которых Лёша тут стал своего рода любимцем. Видя, что их подружка всё ещё надеется на продолжение банкета. Да и просто ради того, чтобы среди них околачивался хотя бы один представитель мужского пола, превращавший своим присутствием эти сугубо бабские посиделки в культурно-массовое мероприятие. Для тех, «кому за тридцать».
Оставаться одним почему-то становится особенно противно. А других, более молодых девчонок, среди них не было. В силу экономических и других, не мене остро повернувшихся к ним задом причин. Как та «избушка на курьих ножках»99
Сказка, «Баба Яга костяная нога».
[Закрыть], о печальном происхождении которой рассказала Лёше та, которую он, для себя, прозвал «Кухаркой». Ещё на открытой (к ней своими ушами) палубе. Желая не менее сказочно повернуться к Алёше Поповичу (видя как тот страдает по Поповичам): «к лесу передом, ко мне – задом». А затем и все остальные. Но уже – в каюте. Поведав о своих не менее кривых избушках, которые всё ещё держались на плаву в этом болоте жизни благодаря их всё ещё стройным ножкам! Да и не могли ещё молодые и неопытные девушки быть столь же ответственными, чтобы отправится в самостоятельное плавание по волнам свободного бизнеса. Тем более – в реальное плавание. За бугор. Не тянули они это ни умственно, ни эмоционально. Не умея ещё столь часто сталкиваться с цинизмом и хамством окружающих и выходить из этих битв и склок неизменно победительницами. Даже если для этого необходимо было просто переорать своего оппонента! Как те участницы реалити-шоу, что окружали сейчас Лёшу. Всё тесней и тесней. Постепенно вынуждая его общаться на всё более сокровенные для него темы. Откровенно отбрасывая то, что этими профурами давно уже не воспринималось как табу. И даже – грязные намёки.
– Что естественно, то не безобразно! – усмехались они. Над его реакцией. Заставляя Лёшу слегка смущаться. Но не подавать и вида. Что он другой. Раз уж он «каким-то чудом» оказался в их компании. Своим.
Чудо, при этом, умудрялось не менее чудесным образом не терять надежды. В свою Сказку. И подсаживалось к нему всё ближе. Под тем или иным предлогом погадать на руке… «Или – ноге?» – усмехалась её подруга. По мере того, как стали, по одной, выходить в туалет или ещё куда-то её новоиспечённые, не менее румяные от выпитого виски, подружайки. И пропадать в туалете без следа.
Посреди ночи, когда окончилось пойло, Леша тоже неожиданно захотел в туалет. Освоив эту английскую манеру уходить не попрощавшись с российской отдушкой.
Затем очень тихо прокрался в каюту к уже давным-давно спящему Стармеху и тихонько лёг.
Тот шумно вздохнул, дав понять, что Лёша снова ему досаждает своим присутствием и затих.
Но когда Лёша проснулся от того, что уже облюет, и еле добежав до раковины, опрокинул в неё виски вперемежку с пирожками и прочими бабскими закусками, Стармех подскочил в чём мать родила, то есть – в ночной рубашке, стал шумно проклинать судьбу, заставившую его согласится на этого подселенца из низшего мира. А затем, истратив на Лёшу весь боезапас ругани, подвел итог, сказав:
– Теперь я понимаю, почему тебе сделали так больно.
– И – почему? – спросил, умываясь, Лёша.
– Потому что ты это заслужил!
Дал Лёше какую-то тряпку, открыл иллюминатор и снова лёг спать. Пока Лёша молча мыл раковину. Соглашаясь с тем, что Стармех, конечно же, был отчасти прав.
Или всё-таки – целиком и полностью?
Утром он проснулся. Свежий и стремительный!
Судно плющилось о пирс.
В лёгкой романтической дымке утра древнейшая Япония расстилалась у ног во всей своей вечнозелёной свежести декора.
Посреди рейса им изменили порт выгрузки. И поэтому он попал не в НИИ «Гадость», как планировалось, а в… «Миазмы», как усмехались, покуривая на палубе, моряки. Где была только одна автостоянка. Добравшись до которой в числе последних, Банан увидел, что стоящие машины уже раскупили другие.
Пока он стоял с одним из своих вчерашних знакомых возле судна и сомневался вслух, стоит ли вообще им туда ехать? Но в конце концов они уговорили себя скинуться на такси. Хотя бы только для того, чтобы посмотреть на то, что там валяется. Не просто же так они сюда тащились?
Остались только те машины, что торчали по непомерно высокой цене. Банан спросил у своего коллеги по несчастью, с которым он сюда и добрался на такси:
– Какую машину и по какой цене будет выгодно купить? Чтобы потом её можно было с выгодой продать в Городе.
Так как ещё ни разу не был за бугром в роли перекупа и ничего не знал. Они прошли вдоль сверкающих на солнце разноцветных машин и тот, сверкая ранней лысиной, с удовольствием проконсультировал его по каждой.
– А вот эта спортивка, – сказал он предостерегающе, – вообще, тема на любителя. Её нужно брать не дороже пятисот баксов, максимум – семьсот. И то – только из-за «шарманки», – усмехнулся он, заглянув вовнутрь. – Её можно продать на авторынке отдельно за семьсот-восемьсот баксов. Но если хочешь быстро…
– Хочу!
– То за пятьсот она отлетит в тот же день. Поэтому-то дилер и задрал за машину полторы тысячи, – указал он ему на цифры, наспех намалеванные белым маркером на лобовом стекле. – Семьсот шарманка плюс восемьсот сама коляска. Плюс пятьсот за место на корыте, двести долларов погрузка-выгрузка, да пошлина. В итоге, то на то и выйдет. Если не меньше. Так что тема безнадежная. А он не сбросит. Ладно, поехал я на судно. Тут уже ловить нечего.
– Посмотрим, – усмехнулся Банан и стал ожидать дилера. С кислой миной. Которая всегда помогала ему торговаться.
И терпеливо ожидать, недоверчиво пиная колеса, когда дилер подойдёт к нему и сам начнёт впихивать ему свой товар. Ведь если ты пойдёшь его искать и спрашивать, то он обнаружит твою заинтересованность и станет ломить цену. Поэтому-то и надо практиковать незаинтересованность и непривязанность. Что на рынке, что в общении с девушками. Скорчив критическую мину. Что у него получалось уже давно чуть ли не автоматически, когда он жаждал хоть в чём-то усомниться. И рефлекторно тут же начинал сомневаться вслух. В душе благодаря Сократа. После того, как сумел освоить его критический подход (вы бы сказали: развод) на практике.
«Вовлеченность выдает твою нужду, – размышлял он, ожидая дилера. – Которая этим себя и выдает. Превращая тебя в слугу чужих интересов. Поэтому никогда не стоит показывать свою заинтересованность в любом проекте. Иначе тебе придется осуществлять его чуть ли не самому. Заставляя других, вовлеченных их интересами в его исполнение, этому ещё и сопротивляться. Тут же вспоминая то, что у них были ещё и другие интересы! Посторонние. И тихонько ненавидеть тебя, только и мечтая об их осуществлении. Унося их от тебя вдаль. Делая тебя Посторонним. На их празднике жизни».
Тем более, что он уже давно знал, что когда он торговался, удача всегда была на его стороне! В шутку величая себя Гермесом. Ведь у него всегда получалось убеждать и склонять на свою сторону. А на рынке это – главное!
Благодаря позитивному мышлению. И наличию позитивной энергии понимания.1010
«Слепое кино».
[Закрыть] Заставляющую других тебя понимать. И помогать тебе. Так уж и быть, мол. Видя то, какой ты и в самом деле Хороший. И не пытаешься тут пред ними притворяться. Вместо того, чтобы не доверять тебе, сопротивляясь тебе изо всех сил своим изощренным умом и упрямством. Поэтому-то Банану, как типичному земляшке, и нравилось пользоваться идеально хорошим Лёшей (астральным телом) и идеально умным Филом (ментальным телом). В своих интересах, разумеется! Тем более, когда все их интересы здесь и сейчас внезапно совпадали. Помогая ему идеально играть свою роль.
Дилер, как примчал, подошел вначале к дамочке, засевшей в чёрном универсале. Немного галантно с ней по заигрывал, видя что она уже захлопнула дверцу мышеловки и теперь никуда от него не денется. Всё повышая голос. А потом и вовсе что-то громко выкрикнул нечленораздельное и демонстративно махнул рукой. Обиженно отвернулся от неё и неспешно зашагал к Банану.
На что она лишь с улыбкой проводила его своим всепонимающим взглядом.
Дилер неспешно подошёл и озвучил цену.
А Банан – свою. И стал торговаться.
Но дилер упрямо не хотел скидывать цену, всё время тыкая пальцем в новую дорогую шарманку.
– Sound systems, sound systems! – повторял дилер, как заклинание, думая что до того просто не доходит. – Big price! New Wave! Very-very good systems! – тыкал он пальцем то в шарманку, то в мощные колонки.
– Да хорош гудэть, – усмехался Банан. – Ни вэрю я в твою систэмз. Моя вэра – ка! – тыкал он пальцем в кузов. – Да и то я уже начинаю в ней сомневаться, – заметил он, критически сморщив нос. – Как и во всей твоей систэме… обольщения.
Ведь Банан давно уже понял, что люди понимают друг друга более точно эмоционально, чем интеллектуально, как и любое животное. Разумное животное, разумеется! Да и интеллектуально ты скорее внушаешь им свой смысл в прямом общении, чем ждёшь от них понимания. Ведь, на первый взгляд, человек неспособен думать. И ты скорее пробиваешь своим тяжелым взглядом его первый взгляд на твою позицию, чем выносишь её как предмет на обсуждение. Так как обсуждение – это область рассудка, а потому и заставляет долго взвешивать все за и против. А это слишком долго. И менее эффективно! А потому и нет особой разницы на каком языке ты будешь с ними разговаривать. Охотно общаясь с иностранцами на непонятном для них полу русском чтобы они напрягали своё внимание, уходя от своей точки зрения на вещи. И стереотипов поведения, мешающих им скидывать цену. Лишь изредка включая в свою речь английские слова для того, чтобы те более точно понимали его контекст. Более эмоционально, чем интеллектуально внушая им то, чего он от них и добивался. Небрежно входя в беседу и разваливаясь на роскошном бежевом диване их подсознания, вальяжно закинув ноги на подлокотник предпонимания. И подгоняя их сознание его обслуживать.
И Банан упрямо давил на своё, общаясь напрямую с его подсознанием, а не с ним самим. И его меркантильными интересами. Пока он не начал там себе на уме рассуждать, вспоминая ещё и о себе. Забывая о том, что клиент всегда прав! И ты здесь – исключительно в его интересах. А потому, давай, решим тут по-быстренькому, как получится, и погнали дальше. Каждый – по своим делам.
– Файв хандрит! Гуд прайс, – озвучил он свою цену.
Тем более, что даже Банан понимал, что порт маленький. И приходы иностранных судов в такие порта – большая редкость. Да и приход сюда их судна не более, чем оказия. Возникшая из-за того, что компания, экспортировавшая кругляк туда, а машины – обратно, неожиданно сменила порт выгрузки леса. Так что если дилер не отдаст ему эту спортивку прямо сейчас, то будет ждать ещё не менее полу года. И за это время она ещё просядет в цене. И то не факт, что и тогда её купят. Ведь спортивка – тема на любителя. И не каждый захочет торчать на авторынке, ожидая этого любителя. Гораздо проще купить обычную «балалайку», как они меж собой называли седаны, и быстренько её продать. Первому встречному, втерев ему по ушам про бешеную популярность данного экземпляра. Ведь в торговле главное – это товарооборот, а не завышенная самооценка продавца. И как следствие – цена на товар, как его учил ещё Гоголь в своём «Тарас Бульба». Поэтому Банан – шанс её хозяина от неё избавиться. А не сдать на металлолом. Заплатив двести долларов за утилизацию.
– Май бизнес ноу саундсистэм, – повторял Банан. – Май бизнес – ка, – тыкал он пальцем в кузов. – Саундсистемз – май литэл перезент, – уничижительно усмехнулся Банан над «шарманкой». – Май прайс – файв хандрид, – твердо сказал он. – Доллар, – многозначительно поднял он палец к небу. – Амэрикан доллар!
Ведь жест есть компонент речи, а не языка. Который также есть лишь компонент речи, как один из способов её выражения. Когда ты используешь и язык тоже, как бы между делом, для того, чтобы наконец-то донести до другого тот смысл, который ты вкладываешь в вещи, через высказывание. Постоянно оглушая собеседника по голове своими смыслами. Изначально ему чуждыми. Ведь обыватель неспособен думать, обрекая себя на борьбу интересов. Где тот, у кого больше внутренних сил, тот и победитель!
В итоге дилер поломался минут пять и, оглянувшись, увидел что никого из покупателей на стоянке уже нет. Наконец-то прояснив для себя его смысл: неизбежной утилизации. Заставив и его рассматривать этот кусок потенциального металлолома как утиль. А не как хит сезона.








