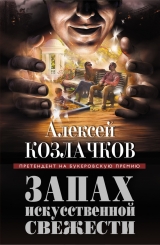
Текст книги "Запах искусственной свежести (сборник)"
Автор книги: Алексей Козлачков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
7
Своей гауптвахты в отдельно стоящем посреди пустыни батальоне не было, и поэтому тяжко провинившихся сажали в обычную яму. Не на гарнизонную же гауптвахту везти в Кабул, как было положено по уставу. Там, может, тоже не санаторий, но туда покуда довезут, потом обратно повезут на перекладных вертолетах – и так к трем суткам ареста добавится еще неделя отдыха в пути. А на такой большой срок из батальона при постоянной нехватке людей ни солдата, ни офицера никто не отпустит – себе дороже. Да и арест в этом случае обернулся бы, скорее, отпуском от войны. Чтобы сделать жизнь солдата еще хуже, чем была, его необязательно везти так далеко, поэтому сажали в яму прямо здесь, в батальоне, никуда не вывозя.
Откуда завелся в батальоне обычай сажать провинившихся в яму, никто не помнил, но своя яма была в каждой роте. К ней прибегали только в крайности, ведь всегда есть чего солдата лишить в целях наказания и без губы: еды, сна, воды, отдыха или всего этого одновременно, но рано или поздно каждый командир пользовался и губой. В военной службе много принуждения, а иногда и крайнего принуждения. У нас не устраивалось даже и общей батальонной губы, поскольку арестованных кто-то должен был охранять, а лишних людей для этого просто не было в отдельном батальоне, где в каждый момент времени спит в лучшем случае только треть батальона, а то и меньше; другие же либо охраняют спящих, либо где-то в горах на задании. Так что если уж какой-то командир подразделения решался посадить своего бойца за тяжкое нарушение дисциплины, то должен был сам его и охранять, своими измученными солдатами, отвлекая их от сна и отдыха, что делало этот вид наказания еще неприятней для провинившегося.
Наказание было очень жестоким, и в батарее капитана Денисова на моей памяти был только один солдат, который сидел в этой самодельной губе до Мухина, это был дезертир. Он и вырыл эту яму. Изначально же губа была просто кругом, начерченным Денисовым на земле, точнее сказать, на каменистом грунте пустыни. Арестованный должен был его долбить и углублять при помощи лома и лопаты все светлое время суток – все по уставу, и даже трехразовое питание при этом полагалось. Ночью спал, если мог. Тяжесть наказания заключалась даже не в этой долбежке ломом и лопатой, а в немилосердном афганском солнце – и в невозможности от него укрыться. Оно начинало жечь через час-другой после рассвета и заканчивало только когда закатывалось за горизонт – и сразу наступала ночная прохлада или даже холод. Зной был главным испытанием и в бою, и на отдыхе, а если ты сидел в яме, работая на открытом солнце весь день с ограниченным количеством воды (арестованному полагалась только полуторалитровая фляга в день, которой бы в Средней России хватило за глаза), то трехдневное пребывание в этой яме превращалось в настоящую пытку. Такая фляга для летней жары афганской пустыни была просто наперстком. После трех суток отсидки – максимума, который мог назначить ротный командир, – из ямы доставали «кости негра», как шутили в батальоне. Заключенный, похудевший на десяток килограммов, был едва жив, с провалившимися сумасшедшими глазами, с черным спекшимся языком.
Кроме попыток дезертирства (если солдата ловили и до отправки под суд), безусловной причиной попадания на губу было еще прямое неподчинение приказу офицера и – курение анаши, по-местному – чарса. Кажется, ничего больше. Так что этим наказанием не злоупотребляли. Но за курение сажали непременно. Такая строгость в отношении анаши была необходимостью для выживания батальона, стоящего посреди пустыни в кольце враждебных кишлаков, гор и племен, вблизи враждебной границы. Дай слабину, сделай вид, что не заметил конопляного дымка, – завтра обкурится полбатальона, просто оттого, что служба здесь тяжкая, почти невыносимая, и даже если ты и не сидишь в яме и не машешь киркой целыми днями, все равно она ненамного легче этого ямного сидения и почти непосильна вчерашним еще школьникам из Рязани и Казани… хочется иной раз и забыться. Зато уж как средство излечения от наркомании яма была очень эффективна; попавшему туда, думается, уже никогда не приходила в голову мысль потянуть косячок до самого дембеля. А не исключено, что даже и после него. Бывало, что и обычные сигареты курить бросали навсегда, вылезши из ямы.
Вот в эту яму и сел рядовой Мухин сразу после батальонного развода на занятия. Денисов вызвал его перед строем батареи и, как положено по уставу, объявил трое суток ареста, приложив руку к козырьку, – бесстрастно и без каких-то комментариев и наставлений. «Есть трое суток ареста», – ответил столь же спокойно Муха, тоже откозыряв. Затем он сдал старшине ремень, напился впрок воды, получил лом, лопату и спрыгнул в яму. У ямы выставили караульного.
Когда минутами двадцатью позже мы с Денисовым выступили на тактические занятия в ближайшие горы, из ямы уже был слышен стук лома и видна мерно всплывающая и исчезающая, наподобие поплавка в море, панама Мухи – сидевший прежде в яме дезертир успел ее существенно прокопать, поскольку сидел он там довольно долго и даже чуть было в тот раз не умер.
А за нами тяжко топала навьюченная минометами наша батарея…
– А какие варианты у вас были, Федор Николаевич? – сказал мне почти злобно Денисов, отвечая на мое молчаливое утреннее угрюмство и переходя, как всегда в таких случаях, на «вы», что в этой ситуации еще и означало: «Отставить сопли, лейтенант!» – Не заметить, что схватил за руку? Не доложить? – проговаривал он очевидное, как будто самого себя убеждая в том, что у нас не было другого выхода, как засадить Муху в яму. Потом после паузы добавил с издевкой:
– Надо было подождать, пока он косяк передаст следующему, и тогда хватать… вон пока бы до Зубилы дошел. Эту падлу я бы с удовольствием в яме сгноил.
Денисов, как и многие, любил Муху и не любил наглого и жестокого солдата того же призыва Зубкова. Но самому мне было не до шуток, даже и горьких. Я с ужасом думал о том, что я могу сделать для Мухи и как это будет выглядеть теперь, после всего, что случилось. Ну что, пойти вечером и бросить ему флягу с водой в яму, чтоб никто не заметил? Глупости, это немыслимо. Мне даже в глаза ему стыдно теперь смотреть. После госпиталя у нас с ним сохранялась определенная полудружеская связь, я к нему подходил обычно вечерами, здоровался за руку, что-нибудь спрашивал и всегда угощал сигаретами или даже дарил иной раз – пачку сигарет, сгущенку, печенье какое-нибудь. Он никогда не отказывался – всегда брал, благодарил, – солдатский желудок бездонный. При этом он обычно добродушно улыбался, ему нравились такие демонстративные особые отношения с офицером, которые, впрочем, этим и исчерпывались. Если бы нас даже и не разделяла субординация, мы вряд ли стали бы с ним друзьями, слишком были разные… А теперь что? И как теперь ходить мимо этой ямы целых три дня… Твою мать… исполнил долг…
Я подумал о том, как несправедлива ко мне судьба, всегда найдет, где подставить подножку. Раньше у меня были неурядицы с прежним командиром батальона: я пришелся ему не по нраву, и он, как мне казалось, преследовал меня. Потом это ранение… А теперь вот все отлично, я выздоровел, я любим, дома меня ждет моя замечательная светловолосая невеста, и по приезде я на ней женюсь, и даже думать об этом нельзя без радостного замирания и перехвата дыхания. С начальством у меня все наладилось – и с Денисовым, и с Никольским, я получил орден, звание в срок, не служба – а радость. Так вот – в довольстве и возрастающем уважении товарищей – дослужил бы оставшийся небольшой срок в Афгане, и с честию, как говорится, домой, к новому месту службы, к своей возлюбленной… И на вот тебе – случилось то, чего и предусмотреть даже не можешь… на ровном месте, черт возьми… И так отравляет жизнь, что просто всякое движение не в радость и уж почти не думается даже о своей невесте… вот сегодня – ни разу не подумал…
Мне уже было жалко не только Мухина, но и себя.
– Да ладно, – сказал Денисов уже серьезно, – что сделано, то сделано. Сильно переживать за него не стоит. Во-первых, сам виноват, гуманоид хренов; во-вторых, Муха не молодой солдат, так что он и в яме ни от голода, ни от жажды не умрет, снабдят чем надо, еще и бабу притащат. Все ж понимают… Ну а мы тоже сильно наблюдательными не окажемся. Так что успокойтесь. Хуже другое – набегут особист с замполитом, начнут кувалдой бить, на траки натягивать, а парню еще и характеристику испортят перед дембелем. Заставят еще строгий выговор в комсомольскую карточку занести. Но ничего не поделаешь, этот выговор неотвратим, как победа Апрельской революции, правда обойдется ему подороже, чем отсидка в яме. А так, конечно, жаль дурака, – рассуждал Денисов.
8
Измочаленные многочасовой беготней с минометами по раскаленным горам, мы возвращались в лагерь к полудню. Войско шло выпучив глаза и вывалив наружу пересохшие языки, сгибаясь под тяжестью минометных плит, стволов и боеукладок; со стороны, наверное, было очень похоже на персонажей картины Репина «Бурлаки на Волге» – только в касках и бронежилетах. Гору, на которой мы упражнялись почти ежедневно в разрешении тактических задач, называли Скакалкой. До нее от лагеря было километров пять и еще около пятисот метров вверх – расстояние, густо политое нашим потом, а сама гора была вдоль и поперек отполирована животами и задами воинов батальона. На ее корявых острых камнях мы учились и началам альпинизма, и стрельбе, и тактике, маскировке, и минированию-разминированию, писали письма на привалах, курили, балагурили – почти во все дни недели, не занятые войной и боевым дежурством. В субботу по традиции в Красной Армии был парко-хозяйственный день, который мы воспринимали как день отдыха. А воскресенье, чтобы не отвыкать от вертикального устроения мира, начиналось с марш-броска на вершину Скакалки. Комбат Никольский выносил в поле позади окопов боевого охранения перископ, направлял его на гору, строил батальон поротно и ставил «оперативно-эротическую задачу»: «Овладеть высотой 149 всеми доступными вам способами (тут уже в рядах солдат раздавался громкий гогот, вопреки тому, что им предстояло далеко не легкое испытание), последний расписывается на груди. А потом… – комбат делал здесь многозначительную паузу, продолжение которой знали все, – скачка́ми назад». Название могло происходить вот от этой заключительной фразы комбата или же оттого, что по батальонным мифам и легендам задача Скакалки состояла в том, чтобы «ускакать» от нас, не дать храбрым воинам собою овладеть. Кроме того, любой процесс перемещения по Скакалке во всеоружии или голышом тоже назывался ска́чками, – так что русское название горы было необыкновенно удачным (было же у нее и какое-то родное, афганское, которого никто не помнил). Соревнование называлось «вдуть Скакалке», победители «ломали целку», отстающие пользовали уже «не девушку», «не свежак», что считалось обидным. Кто ж захочет «не свежак» – ни в жизни, ни в воображении.
Правила были очень просты. Последний солдат подразделения устанавливал на вершине вымпел роты, на котором кроме крупного номера подразделения (необходимый официоз) где-нибудь внизу, в уголке, всегда рисовали «настоящий герб» – чаще всего красочно, с неповторимой фантазией изукрашенный крылатый мужской орган, у каждой роты свой. Наш, минометный, орган было легко изобразить в виде минометного ствола (или даже самой мины, вот Бог-то нам помог!), который «всегда стоит» – с крылышками и парашютом на втором плане. У всех других подразделений не было столь зримого символа выполняемой нами высокой патриотической миссии – разве что у гаубичной батареи. Комбат наблюдал за всеми процессами в стереотрубу, а на Скакалку заранее высаживался замполит с помощниками наблюдать за тем, чтоб никто не увильнул «от оплодотворения», чтобы все было по-честному. Затем запускалась красная ракета, и роты с полной выкладкой вместе с офицерами устремлялись на штурм горы. Победителей, кроме всемирной славы, ожидали двойной обед, двойной ужин и по банке сгущенки на нос участника оплодотворения, иногда по две. После таких «мирных будней» всякая настоящая война воспринималась уже родом прогулки и даже отпуска, тем более что после боевых операций полагалось несколько дней законного отдыха.
Никольского и боялись, и уважали; про любовь говорить не буду, субстанция сложная. По крайней мере, служба под его началом полностью соответствовала любимой солдатской поговорке о том, что «десантник три минуты орел, а остальное время лошадь»; в батальоне майора Никольского это не казалось преувеличением. Разгильдяйства и пренебрежения обязанностями он не спускал, но была одна тонкость во взаимоотношениях Никольского с подчиненными – и солдатами, и офицерами. Ему каким-то странным образом все чувствовали себя обязанными, словно он сделал что-то хорошее для каждого лично. А сделавший что-то не так, пренебрегший чем-то, «недовыполнивший» распоряжения солдат или офицер начинал «сгорать со стыда» под укоризненным взглядом комбата. «И как это ему только удается? – удивлялся я, попав под начало Никольского в батальон и размышляя над своими собственными отношениями с солдатами. – Вот бы научиться, тогда карьера обеспечена».
Трезвый расчет, отвага и удаль (а удаль – это и есть веселая отвага) и еще небывалое везение делали войну под его началом увлекательнейшим и азартным занятием, как охоту… как саму любовь, которую мы всегда при этом изображали. Наверное, везение было в какой-то мере следствием и отваги, и удали, но были и вещи необъяснимые, заставляющие думать, что Никольский действительно был «избранником богов», как его в шутку называли офицеры. Однажды ночью при спуске с гор батальон заблудился; стали спускаться по отвесной стенке почти без снаряжения, кто-то срывался, комбата втихую материли, но когда сползли в ущелье, перед носом оказалась давно вожделенная нашим командованием душманская база с оружием и боеприпасами и почти без прикрытия. Ее взяли с ходу – успех необычайный. А в это время все душманы с этой базы дожидались нас в засаде, и те из наших подразделений, которые пошли правильным путем, набрели на эту засаду, на мины и понесли потери. В другой раз он выскочил с управлением батальона из плотного кольца врагов, когда его уже не чаяли видеть в числе живых. Обманутые им душманы еще долго стреляли друг в друга в том самом месте, из которого только что ускользнул Никольский.
Если подчиненные относились к Никольскому с приязнью и уважением, то начальство завидовало его успехам и раздражалось на независимый нрав. Наверное, были у него заступники (он делал скорую карьеру), но в штабах разных уровней были у него и серьезные враги. Более всего ему не прощалось нарушение древнего обычая (и военного в том числе) вылизывать и ублажать всех заезжих ревизоров. А они несметными полчищами валили с некоторых пор в наш батальон, слывший и самым боевым, и образцовым. Обычно всех ревизоров поят, кормят, пятки чешут, подарками заваливают, девок подкладывают (не буду пересказывать сюжет известной пьесы Гоголя); в нашем случае девок, конечно, не было – в пустыне они не водятся, – но, кроме развлечений, к нам приезжали еще и за наградами. Прилетает из Кабула капитан-майор-подполковник, отдохнет от штабной службы, поест-попьет, а по возвращении сам себе наградной лист напишет о том, как он, «вдохновляя бойцов личным примером, принял командование на себя и вывел роту из окружения», – не знаю точно, что в таких случаях пишут в наградных для штабных и политотдельских. Вполне возможно, при других обстоятельствах Никольскому и в голову бы не пришло нарушать установившиеся веками порядки; но командиру отдельного батальона в кольце врагов есть чем заняться и кроме ублажения многочисленных ревизоров. Никольский был умен и хитер, открытых скандалов не устраивал (да это в армии и невозможно), никому ни на что не жаловался, но и проверяльщиков не жаловал. Он точно рассчитывал, что ему при его положении самого успешного комбата, делающего в значительной степени «показатели побед» в масштабах дивизии, спустят с рук, а что нет; до поры спускали.
Заезжих штабных чинов – «животов», «зрачков» (по батальонной терминологии) – он потчевал «чем бог послал» – жалко, что ли, консервов и браги! – но дальше не церемонился: приехал за орденом, нет ничего проще – зарабатывай его в бою! Делал он это неожиданно и виртуозно, в свойственной ему манере агрессивной клоунады, ставя проверяющего офицера в безвыходное положение. На построении перед самой операцией Никольский призывал уже одетого в броню политотдельского «зрачка», собравшегося ехать соглядатаем в большем или меньшем удобстве вместе с управлением батальона и «давать советы» по партполитработе, – и перед строем батальона нарочито громко – глотка была луженая – говорил: «Ну что, товарищ майор, у вас есть редкий случай показать силу партийного слова вот непосредственно нашим доблестным разведчикам, тем более у них пулеметчика убили… умеете обращаться с пулеметом?» Как правило, офицер терялся от неожиданности и не решался противиться перед строем батальона. Приходилось ему зарабатывать орден «по-честному». Был скандальный случай, когда один заезжий капитан, набравшись мужества, отказался идти в бой с пулеметом и разведкой, за что комбат подал на него рапорт командиру полка о трусости. Капитан оказался не простой, со связями в политотделе ВДВ, может, чей-то высокопоставленный отпрыск, в дивизию спустили нагоняй, и злоба на Никольского затаилась. Зато после двух-трех таких приемов поток «животов» почти иссяк, что высвободило комбату и всем нам огромное количество времени, сил и душевного здоровья. Ревизии эти ведь очень изматывающие мероприятия. Теперь из штабных приезжали только самые отпетые, которые действительно хотели испытать войну на себе (попадались и такие извращения в штабах, не все ж были приспособленцами), либо, зная обычаи Никольского, к нам посылали в наказание с какой-нибудь фиктивной миссией проштрафившихся штабных чинов («Ступайте, товарищ капитан, к Никольскому, он вам доверит душманский пулемет грудью закрыть…»).
9
Но главным афганским несчастьем было все же не начальство и даже не душманы, а жара, особенно на юге. Нам, аборигенам северных широт, не было способа привыкнуть к этому пеклу, хоть проживи в нем изрядно; эта сковородка мучила и изнуряла до конца службы. Прослуживши здесь год или чуть меньше, воин худел килограммов на десять – пятнадцать, научался терпеть и делать кое-какую профилактику; научался экономить воду и пить при случае впрок, не валиться в обморок при всяком перегреве и по возможности чаще проветривать в паху и под мышками, чтоб не образовалась потница – довольно мучительная сыпь от обилия пота. Но не замечать жары вовсе, отвлечься и не думать о ней, наверное, дано было только местным жителям, если это вообще было возможно. Даже при полном дневном безделье, просто лежании под навесом жара сильно изнуряла, и к закату солнца ты был совершенно измотан, даже не шевелясь. А мы ведь еще и воевали, и проводили бесконечные занятия и тренировки. Душманы уже погружались в послеобеденный сон, а русские солдаты продолжали трепать обмундирование об окрестные скалы. Легче всего понять это состояние организма, если представить себя, допустим, в не самой жаркой сауне – градусов 65–70, но без возможности выхода из нее на протяжении десяти – двенадцати часов. Песок, оружие, техника, камни – все раскалено до того, что можно получить ожог, а навес дает лишь относительное облегчение, только защиту от прямых лучей, не уменьшая температуры воздуха вокруг, не уменьшая этого пышущего отовсюду жа́ра. Каждое движение дается с трудом и сопровождается обильным потоотделением, голова все время немного кружится, а если резко встать – мир может уплыть, получается тепловой удар. Бывает, что разум и вовсе отказывает и – либо впадает лишь в некий ступор, почти бессознательное состояние плывущего перед глазами марева, либо действительность начинает восприниматься хаотическими обрывками, звуки и голоса то усиливаются, то утихают, и ты не можешь связать воедино отдельные впечатления происходящего. Тут главное – что-нибудь в себя постоянно закидывать, какую-то еду и воду. Но и это непросто. Сгущенка, выдаваемая на паек солдатам и офицерам и бывшая основной разменной монетой в Афганистане, – продукт замечательный, но она тянет за собой обильное питье, а воды всегда в обрез. Кроме сгущенки можно еще сосать леденцы, иногда комочек соли, иногда сигарету, иногда же можно пожевать листок растения, если уверен, что не умрешь. Но на это можно было рассчитывать, ведя операцию в какой-нибудь «зеленке», густых тропических зарослях вокруг афганских рек, где чаще всего и скрывались душманы, а в абсолютно голых афганских горах ни о каком листочке уже не думали. Вообще солевой дефицит, образовывавшийся от постоянного обильного потоистечения, порождал желание съесть того, не знаю чего: хотелось укусить собственный сапог или попробовать на вкус дерьмо, поскольку ясно было, что чего-то организму все же не хватало, но чего – не ясно.
За прибытием молодого пополнения в конце мая, за его выгрузкой из вертолетов в батальоне собирались понаблюдать как за цирковым представлением. Стояли в панамах бывалые воины, отслужившие здесь полгода и больше, – тонкие, как осы, с загорелыми или, точнее, обугленными до блеска лицами, в белесом выгоревшем и запыленном обмундировании. Садились грузовые вертолеты, вздымалась мелкая афганская пыль, и солдаты, любознательные, как мартышки, отрывающие лапы кузнечику, придвигались поближе, отворив в предвкушении зрелища рты. В следующую секунду открывалась аппарель и происходило самое веселое для батальонных старожилов событие: не ожидавшие резкого перехода из прохладного тела вертолета, летевшего из Кабула (где тоже было существенно прохладней), молодые солдаты, сделав шаг вперед, пятились и слегка приседали, будто их всех разом ударили тяжелым по голове. На лицах появлялась гримаса страдания, а то и отчаяния – тут только они понимали, куда попали. Вот это невольное отшатывание при первых же шагах по земле нашего батальона, повторяющееся из раза в раз, неизменно вызывало громкий смех и зубоскальство. Молодые, непривычно дородные от союзных харчей, которыми их кормили в учебном подразделении, где они провели полгода, в обмундировании слишком густых, не выгоревших еще тонов, с искаженными лицами, на полусогнутых выскакивали из вертолетного брюха и строились невдалеке. По себе помню это первое впечатление навалившейся жары, пригнетающее к земле, как железная плита, заставляющее инстинктивно присесть и бежать в поисках укрытия, – я тоже в первый раз инстинктивно побежал. Но на этой части земной поверхности не было укрытия от жары, бежать было некуда.
Затем, как правило, объявляли общее построение батальона, и происходила торжественная передача боевого оружия молодому пополнению. Дембеля уже стояли разодетые, как для парада на Красной площади, – в нашивках и аксельбантах. Им было еще жарче, чем прибывшим, но они выносили это с неторопливым показным молодечеством; это была великолепная дембельская спесь. Пока замполит батальона говорил принятую в таких случаях зажигательную, но немного туманную речь об интернациональном долге, а солдаты, как обычно, ее вдумчиво слушали, несколько человек из молодого пополнения валились в обморок, пораженные глубиной политической мысли и солнцем. Дело было привычное, и упавших сразу относили в медсанчасть, где все уже было готово к приведению их в чувство. Эти падения в обморок, впрочем не особенно опасные для здоровья, тоже были частью презентации, как сказали бы позже, – презентации жарких стран для новобранцев. Обмороки довершали для них первые впечатления от предстоящего места службы. Почему-то считалось: кто упал на первом построении, тот непременно выживет, – одно из многочисленных солдатских суеверий. Видимо, так бывало не всегда.
Летом на базе батальона в половине первого был обед, поскольку дальше уж пекло настолько, что кусок бы в горло не залез, а с часу и до четырех, а в тяжелых случаях – и до пяти был мертвый час для всех, не занятых на службе. Солдаты обливались водой из бочки и лежали, изнывая, в лагерных палатках с откинутыми пологами. В это время можно было не опасаться, что воины от безделья что-нибудь натворят, – здесь каждое движение давалось с трудом. Спать, даже в тени навесов, днем было почти невозможно, этому мешали еще противные кусачие афганские мухи. Накроешь от них физиономию платком или тетрадным листком, чтоб заснуть, – через две минуты в глазных впадинах лужицы пота, под затылок тоже натекло. Встаешь, утираешься, льешь на голову воду, ложишься опять. Засыпать днем научались лишь самые матерые воины, уже перед дембелем, в войсках их называли «Рексами ВДВ». Название это было не от латинского rex («царь, вождь») – а считалось, что это подходящее имя для злой собаки. А может, и от латинского, кто знает… Если про кого-то говорили «Настоящий Рекс ВДВ – дрыхнет после обеда», это означало, что воин закалился настолько, что из него самого можно уже лить пули и делать танковые траки.
Офицеры для послеобеденного отдыха собирались в «доме офицеров» – так в шутку называли огромный надувной бассейн, расположенный возле палатки командира батальона под плотным навесом из маскировочных сетей, что защищало его от солнца, но не от приятного обдувающего ветерка. Для какой цели был предназначен этот бассейн изначально, так и осталось не проясненным в моей голове. Надо сказать, что тогдашняя моя нелюбознательность сейчас, спустя много лет, меня удивляет. Но это я, подумав, отнес на счет того, что в психологических сочинениях называется «измененным состоянием сознания». Война – это в принципе «измененное состояние сознания», как и любовь, а если еще мозги постоянно подогреваются паяльной лампой – и подавно. Вполне возможно, что бассейн был каким-то переправочным саперным средством для форсирования, например, Днепра или – чего там – Амазонки, но нам оно замечательно пригодилось и для другого. В этом бассейне разом помещались почти все офицеры батальона, не занятые по службе, – человек десять. Плавать было, конечно, нельзя, все просто висели на надувных бортах лицом и ногами к центру: комбат, замполит, ротные, взводные – офицерское собрание батальона. В основном перекидывались шуточками, иной раз просто спали в воде, иногда проводили нечто вроде совещаний.








