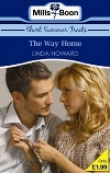Текст книги "Волею императрицы"
Автор книги: Александра Щепкина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– Не могу ещё, повинюсь тебе, – с сожалением сказала Степанида. – И смотрят за мною, велят вкусить чего-нибудь.
– Придёт время, что вольно будешь жить. Пока потерпи, а постарше будешь, в скит тебя примем.
– Где же скит задумала устроить? – спросила боярышня.
– На Дон идём, к казакам, а может, и до Тобольска странствовать придётся. Ты ещё жди, много лет готовься, а пока помогай нам, чем можешь.
– Вот припасла, что мне боярин, дед наш, дарил на гостинцы и на ожерелье меховое соболье, – сказала Степанида, вынимая из кармана небольшой кошель и показывая Нефилле золотые монеты.
– Спаси тебя Боже! – говорила Нефилла, принимая помощь и крестясь двуперстным знамением. – Надолго я уйду теперь из вашего края, но к тебе вести присылать буду через наших: придут к тебе от Нефиллы.
– Куда же уходишь? – с сожалением спрашивала Степанида.
– Вести пришли дурные. Отец Аввакум прощён был, возвращён в Москву и был в милости у самого царя; теперь, слышно, снова пострадал за правду. Не послушал он соборных увещаний, ни ласке царской не поддался: просил его царь покаяться, слёзно просил признать новые книги; жалел его царь за все вынесенные им страдания. Но не поддался отец Аввакум. Сказали в Москве, что он юродив стал и народ ради его смущается. Иду я, не встречу ли его на пути его в дальний край, – может, придётся ученья его послушать и поклониться ему.
– Пошла и я бы с тобой… – робко предложила боярышня.
– Погоня будет за тобой, – и вмиг остановка. Читай пока Святое Писание по старым книгам.
– Читаю, но не вразумил ещё меня Господь, не вижу разницы между старыми книгами и новыми, всё слово Божие…
– И я не разумею, только вера у меня есть в книги старые! И дщери духовные Аввакума, боярыня Морозова и сестра её Евдокия Урусова, обречены на заточение, за то, что твёрдо держались нашего учения. И ты…
Но сладкие беседы были прерваны неожиданным появлением мамушки Игнатьевны.
– Что тебе, мамушка? – спросила Степанида удивлённо.
– Я вот с этой святой душой потолковать пришла. Знаешь ли, мать-черница, что есть такой у нас боярин, что вас больно не любит!.. – спрашивала Игнатьевна.
– Пусть простит ему Бог, по неведению люди зло творят!
– Нет, он ведает, что вы зло разносите, отрываете народ от Церкви Православной… Вы-то все отступники…
– Брани, брани! За гонение возлюбит нас Господь! – говорила Нефилла кротким голосом; но сквозь далеко ещё не усвоенную кротость в голосе её слышны были звуки, напоминавшие о вражде и ненависти. Степанида растерянно смотрела на ссорившихся старух.
– Уйди! Уходи, Степанида Кирилловна, если нежелательно тебе, чтоб я выдала эту чёрную ворону боярыне и боярину! – говорила мамушка, силою стараясь вывести из кухни боярышню, взяв её за руку.
Разъярённая черница опередила их на дороге к двери. Она стала на пороге и с сверкающими глазами из-под надвинутого на лоб платка подняла руку и послала Игнатьевне двумя перстами крестное знамение.
– Прочь, прочь! – кричала старая мамушка, открещиваясь по-своему, закрывая глаза, чтобы не видеть такого нечестия. Степанида освободилась из рук её и, обняв черницу, быстро увела её в сени. Она указала Нефилле небольшую лестницу, по которой можно было сойти на внутренний двор, где были конюшни и черница могла найти Захара. Нефилла быстро исчезла, а Степанида, заплаканная, бросилась в терем к родительнице и жаловалась ей на суровое обращение со странницей.
– Вечером расспрошу Игнатьевну, а пока помоги мне попоить деда душистой травкой, – спокойно ответила ей Ирина Полуектовна. Игнатьевна вошла, готовая к допросу, но разбор неудовольствий между нею и боярышней Степанидой был отложен до вечера.
Старый боярин Никита Петрович Стародубский, вернувшись из Москвы в свою вотчину за дряхлостию и слабостию, жил уединённо и скучал без сына. От скуки он ссорился с приказчиком, с крестьянами и вошёл в препирательство с воеводой Костромы за посадских людей, поселившихся на его земле. Возвращаясь из Костромы, заглянул он к Савёлову и застал больного в невесёлом расположении. Лариону Сергеевичу только что решилась Игнатьевна донести о посещениях Нефиллы.
Испросив позволения посетить больного, она приотворила дверь его комнаты и просунула голову; боярин прочёл на её добром лице следы тревоги и беспокойства.
– Войди! – сказал он, поправляя подушки, на которые облокачивался, сидя на своей высокой постели.
– Великого блага и здоровья тебе от Господа! – говорила, входя, Игнатьевна и, кланяясь до земли, просила боярина выслушать верную слугу его.
– Коли дело есть, говори! – сказал Ларион Сергеевич.
– Дело немалое, речь моя будет о боярышне Степаниде Кирилловне…
– Что с нею приключилось? – спросил боярин испуганно, приподымаясь с подушек.
– То, что повадила она к себе черниц и странниц, сбивают они вашу голубушку с толку: научили креститься двумя перстами и их книги читать. Началось то ещё на Унже, а вчера и сюда пробралась чёрная, мать Нефилла! Слышала, что подговаривала она нашу голубку вступить в скит, посетить их сборище! Рассуди, боярин, как нам сберечь её.
Вся в слезах мамушка ждала ответа боярина, который выслушал всё молча и задумчиво и ответил спокойно:
– Не плачь, беды большой нет! И если то было невдомёк Ирине Полуектовне, так мы здесь сбережём боярышню. Вели запереть у лестницы теремные двери, а на лестнице посадить сторожа…
– Не годится Захар… – робко прервала речь боярина Игнатьевна.
– Найдём понадёжней, – возразил боярин, – сказочника моего посади, он будет и сказки сказывать! Поговорим с родительницей и с соседом посоветуемся: всё по молодости, думаю. Отдадим замуж, поумнеет. Ступай, ты не в ответе, только не болтай о том.
– Спасибо за милостивое слово, спаси нас Господь, отведи беду! – кланяясь, проговорила Игнатьевна и скользнула в дверь, чтобы незаметно вернуться в терем. Едва успел обдумать, что слышал, Ларион Сергеевич, как доложили о приезде Стародубского.
– Получше ли тебе, боярин? – спрашивал, входя за слугою, Никита Петрович.
– Сил нету прежних! – жаловался Савёлов.
– Приободрись, переломи недуг, вот я не балую себя, дома не сижу, хотя и одряхлел по воле Господа, и ты бодрись!
– Не в охоту мне! – проговорил боярин Савёлов, и в болезни сохранивший кроткий взгляд и спокойную речь. – А где же ты побывал, Никита Петрович? – спросил он.
– В Костроме. Вызывал меня воевода.
– Что нового там?
– Всё то ж! Недостаёт, вишь, войска и денег на ратных людей. И ещё бы наложил деньгу воевода, да не на кого, посад без людей остался! Семейные разбрелись по вотчинам, одинокие уходят к раскольникам, а раскольники уходят на Дон и в Сибирь, скиты устраивают в пустынях.
– Спугнули их напрасно, они на местах бы молились, дома! – проговорил грустно Савёлов.
– Да ты одурел, что ли, боярин? – крикнул Никита Петрович. – Ведь они на месте наших попов не хотят!
– По глупости, по слепоте, – возражал Савёлов, – одумались бы сами и поняли, что Господь один и все люди братья!
– Ты не слыхал, видно, о них… Где им одуматься, когда ни епископов, ни царя слушать не хотят! Знаешь, чай, что за протопопом Аввакумом сколько ухаживали в Москве, чтобы новые книги признал, не мутил бы народ…
– Пройдёт время, и к новому народ привыкнет… – кротко возражал Савёлов.
– Ты этого уразуметь не можешь, ослаб ты! – крикнул Стародубский. – Не одних челядинцев сманивают, и боярыни в раскол идут! Знаешь, что боярыню Морозову сам патриарх увещевал, и царь уговаривал, и все отступились от неё, ради её бешеного упрямства!
Боярин Савёлов слушал, бледнея и что-то обдумывая про себя.
– Всем опасаться надо, – заговорил он вдруг тревожно, – и у нас есть боярышни!
– Чего ж тебе за твоих-то опасаться? Сидят в тереме с мамушкой!.. – смеялся Никита Петрович.
– Скажу всё тебе и спрошу совета. Ты у нас старший! Посещали нас черницы и с боярышней Степанидой беседовали…
– Пробралися на родину Аввакума? Да к тебе они как зашли, боярин? – удивлялся Стародубский.
– На Унже принимала странниц Ирина Полуектовна, – высказал Савёлов.
– Знать, у Савёловых в роду у вас, все вы недомекаете! – воскликнул Никита Петрович.
– Чем Бог наделил, тем и живём, – смеясь, сказал Савёлов. – Смолоду в походах бывал и на царских пирах место было, теперь пора грехи отмаливать!
– Не попади на грех снова: поистине опасливо! Помни ты про боярыню Морозову! – грозил Стародубский.
– Наша смиренна, как голубка! – возразил Савёлов.
– Они вначале все смиренны! Слыхал ты, что в Сибири, в скиту запёрлись, обложили себя соломой и сожглися? Чтобы не допустить забрать себя, сколько народу погубили!.. Не погубить бы и тебе боярышню.
– Я чаю, хорошо бы повенчать её с кем-либо поскорее, под защитой жила бы… – робко высказал боярин Савёлов.
– Да, – подтвердил Стародубский, ободряя его, – за человека разумного, и наградить её не откажись, – говорил Никита Петрович, которому по мыслям было намерение Савёлова выдать внучку.
– Наградить я не прочь, но за кого же?..
– Надели невесту своими поместьями, а я жениха привезу, как вернётся Алексей с похода!
– Чувствую твою ласку и милость, – говорил умилённый Ларион Сергеевич, – умру спокойно.
– Другим внукам твоим ещё останется довольно, а меньшую боярышню на себя возьмёт наградить Ирина Полуектовна. И будь покоен за Степаниду, будет она за моею зашитой! До греха её не допустим.
Судьба боярышни Степаниды и Алексея была решена на этом совещании, и бояре простились довольные.
Но не так довольна была Степанида, когда решение это было объявлено ей через родительницу несколько времени спустя. Невесело приняла эту весть и сама Ирина Полуектовна; боялась она за судьбу дочери в доме Стародубских, и ни света, ни радости не виделось ей в этом сватовстве. Степанида не кручинилась при матушке и не промолвила ни слова.
– Что же ты на это молвишь? Что думаешь, Степанидушка?
– На всё воля Божия. Чаю, что Он того не допустит! – промолвила она.
– Может, Господь счастье посылает тебе, сироте, дай же ты мне ответ… – неохотно уговаривала её матушка.
– Рано про то задумываешь, – и жених ещё с войны не вернулся; дозволит ли то Господь, уйдёт ли он от турок иль ляхов, – того не ведаем! И грешно пока о том задумывать! – уклончиво отвечала Степанида.
– Не прекословь больному деду и не гневи его до времени, – просила боярыня.
– Не стану гневить, – тихо сказала Степанида.
Но не то говорила она сестре и мамушке; на расспросы их о сватовстве она высказалась им не таясь:
– Слушай, мамушка! И не думай, чтоб я повенчалась с кем-нибудь, а не только с боярином Стародубским! Семья их живёт не так, как угодно Богу. Молодой боярин и теперь своих братьев христиан убивает! Ты что скажешь про то, сестра Паша?
– Что на войне он, – в том боярин неповинен; и отец твой, и крестьяне ходят на войну, когда царь приказывает! – высказала Паша.
Степанида усмехнулась молча, словно хотела сказать: ничего вы не разумеете!
– Все живут в суете и грехах, – промолвила она.
– Ты не смыслишь того, боярышня! Пришло время, выбрали тебе суженого, а твоё дело в послушании оставаться у родителей. И Бог пошлёт тебе за то счастье, – говорила Игнатьевна.
– Этого счастья я не просила у Бога! Ежели сестра Паша от такой доли не отвернётся и суженый по ней придётся, так я отдам ей своё счастье и всё, чем меня дедушка милостиво наделить думает, – закончила Степанида.
– С нами крестная сила. Да оборони Бог, услышал бы тебя Никита Петрович! – воскликнула мамушка.
Паша смутилась вдруг; яркий румянец выступил у неё на всём лице, она смотрела испуганно.
– Лучше бы тебе выйти за боярина… – проговорила она.
– Никогда того не будет, – горячо ответила Степанида. – Пока не говорите про то никому; матушку не печальте и деда не гневите!
– Будь по-твоему, боярышня; но ты всё обдумай, чтобы не жалеть тебе после. – Мамушка ушла с этими словами, и сёстры остались вдвоём.
За последнее время узнали они много нового, испытали много неприятного и тяжёлого. До этой поры они повиновались матери, и незаметно было вмешательство чужой руки. Теперь проявилась власть деда и начинала тяготеть над ними ещё одна чужая воля. Степаниду сильно журили за опасные сношения с черницами, и запрещено было принимать их; служащим при доме запрещено было допускать черниц близко к усадьбе. Захар был заподозрен, и за ним присматривали. Внизу, на пороге лестницы, ведущей в терем, сидел старик, сказочник боярина Савёлова; он же сторожил лестницу и ночью.
Сама Ирина Полуектовна выдержала допрос Никиты Петровича о том, не потакала ли она дочери. Долго после того она ходила растерянная, не спала и не ела. Обе боярышни редко выходили даже в огород или в сад с мамушкой, несмотря на хорошие дни в начале октября.
Обе сестры сидели за вышиваньем, чтобы сократить время. Паша замечала, что вянет сестра, болеет душой, и, чтоб утешить и рассеять её, читала ей вслух Евангелие по совету священника их, отца Максима, который указал на это чтение как на спасенье для боярышни.
– Не жалей, что не видишь черниц, – говорила Паша сестре, – и без них можно читать святые книги. Я немного поучилась у тебя, а уж читаю Евангелие и всё понимаю.
– И я рада. Сказывал отец Максим, что в Евангелии самой можно узнать, о чём проповедь Христа была, – сказала Степанида.
– Мы с тобой прочли всё Евангелие, и нигде апостолы не указывали, чтобы двумя перстами креститься должно было… – высказала меньшая сестра.
– Правда, но после их святые отцы так положили, – так и должно быть! Так сказал протопоп Аввакум; у меня листочки были, списанные с его слов, – говорила Степанида.
– Отец Максим говорит, что только Божие слово помнить должно и то, что Господь от нас требует; приказывает он любить ближнего, делать добро и властям повиноваться. А ты не слушаешь ни родительницы, ни деда; не был бы то грех на душе твоей.
– Вот это меня и сокрушает! Не знаю я, кто правду говорит, родительница ли, черницы ли или батюшка Максим? Думаю, думаю, и голова у меня разболится! Не пойму, где правда! – с сокрушением и ломая руки горячо высказывала Степанида.
– Зачем тебе понимать стараться, – отец Максим говорит, что надо веровать и не думать о том, чего понять мы не можем! И Господь от нас больше ничего не потребует. Евангелие надо помнить и заповеди исполнять, – убеждала меньшая боярышня.
– Апостола Павла ты не читала или не помнишь, – сказала Степанида, вскинув вдруг глазами на Пашу, что всегда пугало сестру; в глазах Степаниды Паша провидела много тайного и непонятного.
– Указывает, что лучше не женитися и не выходить замуж тому, кто желает спастись. Этого нам батюшка Максим и не сказывал. Вот я и думаю, что и по Евангелию тем же путём спастись можно! – закончила Степанида успокоенная, и по лицу её разлилось выражение тихого довольства.
– Вот ты сама нашла себе путь, а черницы твои на него не указали; может, и сами они не по хорошей дороге идут, – спешила доказывать Паша.
– Господь простит им, если они ошибаются. По вере вашей дастся вам, сказал Господь! – задумчиво ответила Степанида.
– Да худо, что они других всех сманивают, не знающих слов Христовых, – заметила Паша.
– В том нет вины, – по усердию старались они; Бог им то простит!
– Пусть Бог им простит! А ты, сестра, не должна видаться с ними! – просила Паша.
– Я больше никогда не увижусь с ними, но буду о них всегда молиться: они привели меня к спасению! – был ответ сестры.
Паша порадовалась про себя такой перемене и повеселела. Она открыто взглянула в лицо сестры, чего давно не в силах была сделать. Она знала теперь, что у неё на душе, и не опасалась заглянуть ей в глаза. А прежде она боялась увидеть в них что-то суровое и непонятное, словно затаённое.
Время шло. Наступила зима; первый снег посыпался большими хлопьями, и Паше вспомнилось их катанье в санях. «Позволят ли нам кататься в эту зиму, не помешает ли старый боярин Стародубский?» – вот о чём она тужила. Но добродушный дед подумал о ней.
– Не запрещай боярышням прокатиться в санях на воле, – говорил он Ирине Полуектовне, – ты только одних их не отпускай. Пусть катаются с ними и сенные девушки, и Феклуша чтоб их провожала.
Какой радостью было для Паши такое позволение! Она позабыла всю принятую с возрастом степенность и, как в хороводе, пронеслась кругом по комнате, притоптывая ножкой. Её радость вызвала улыбку даже у Степаниды.
– И ты поедешь с нами, сестра, ведь в этом нет греха или вреда! – говорила ей Паша.
– Поеду. Ты веселись, а я на тебя порадуюсь! – ответила сестра.
И снова начались катанья по берегу Ветлуги. По окрестности раздались звонко песни все молодых голосов сенных девушек и вышивальщиц Ирины Полуектовны, провожавших боярышень. Голоса эти были и грубоваты, и крикливы, но в них слышалось, что то молодость веселится и радуется жизни.
Молодости люб и морозный ветер, и снег, забелевший в поле, и гладкая, как скатерть, дорога, по которой санки катят, скользя без задержки. Ветер разносит песню в просторе ненаселённых полей, едва охватываемых глазом. С песней проникает вдаль и порыв души, и молодость яснее сознает себя, сама прислушиваясь к этим вырвавшимся у неё звукам. Так забывали боярышни и душный терем свой, и подавленную волю, тешась песнями и катаньем.
Ларион Сергеевич начинал выздоравливать, но родные были ещё неспокойны за него; силы его крепли понемногу, он выходил из своей комнаты, но был безучастен к жизни и ежедневным делам. Словно он о живом не думает, казалось Ирине Полуектовне. А жизнь и всё живое двигалось вперёд, и перемена следовала за переменой и к лучшему, и к худшему. Так, в феврале, в средине зимы этого года, разнеслась весть, тревожно шевельнувшая русских людей. Вся Русь почуяла, что оборвалось что-то, за что крепко держалась она, и опустело всё. Чего-то не стало, а впереди было всё неведомое! Такое чувство объяло всех при слухах о кончине царя Алексея Михайловича, и охватила народ тоскливая боязнь.
Много уже бед случалось на Руси при кончине царей. Русь отдыхала и собиралась с силами в это многолетнее царствование, и снова спрашивали теперь русские люди: что же будет с нами дальше?
Боярин Стародубский привёз эту весть в вотчину Савёловых; вошёл он в хоромы мрачный и казался сердитей прежнего.
– Что сумрачен, боярин? – спросил его Ларион Сергеевич, в первый раз вышедший в свою большую палату.
– Чему радоваться! Не слышал ты разве? Государь наш великий преставился… Что ты, что ты? – бросился вдруг Стародубский, прерывая речь, видя, что Савёлов пошатнулся вдруг и едва успел схватиться за дверь.
– Ошеломил ты меня этою вестью, боярин! Словно обухом по лбу, – дрожа проговорил слабым голосом Савёлов. – Что же теперь будет? За кем мы остались?..
– За царём Фёдором Алексеевичем! Вчера прибыл гонец из Москвы, объявил о том воеводе в Костроме.
Боярин Савёлов перекрестился.
– Ну, смуты не будет, коли уж царь есть! – проговорил он, обнадеженный, и тихо перекрестился снова.
Глава IV
Прожив почти до двадцати лет в костромской вотчине своего отца, Алексей, сын боярина Стародубского, незаметно из мальчика обратился в сильного и статного юношу. Лицом и ростом он был, как это все находили, похож на отца и был таким же молодцом, каким был отец его в молодости. И нравом он был в отца: добр, но с норовом. Иной раз ему перед отцом не хотелось покориться; часто приходилось увещевать его.
– Ты знаешь, – говаривал ему отец, сдерживая его пылкий нрав и толкуя ему про обычаи своего времени, – ты не только мне, но и всему нашему роду должен покорным быть! Дяди ли, старшие ли их сыновья – все над тобою старшие!
Алексею досадно было считаться меньшим в роде.
Когда-нибудь выслужусь на ратной службе, – думал он, – и стану наравне со старшими…
Но пока приходилось покорно жить при отце. Тогда поздно начинали учиться; двенадцати лет Алексей только начал учиться читать, писать и счёту у своего приходского дьякона. В пятнадцать лет от дьякона перешёл он к другому учителю, пленному поляку, шляхтичу Войновскому. Боярин Стародубский принял к себе пленного поляка править дела по хозяйству, но потом поручил ему также обучать Алексея всему, что он мог преподавать. В то время пленные поляки нередко попадали учителями в знатные дома бояр. Многих же оставляли в Москве, как слесарей и живописцев, находя, что они работали не хуже немцев; и немало их работало во дворце царя Алексея Михайловича.
Шляхтич Войновский выучил Алексея читать по-латыни и по-польски. Чтением и переводом сокращали они длинные зимние вечера. Днём шляхтич вместе со своим учеником пропадал на охоте в окрестных лесах. Упражняясь ежедневно, Алексей уже в пятнадцать лет был ловок в стрельбе и верховой езде.
Часто он бесстрашно ходил с крестьянами в бор на медведя и находил это тогда занимательнее латыни и математики. Но зато насколько он любил в детстве слушать сказки жившего у них старца Дорофея, настолько он слушал теперь с пылким любопытством рассказы шляхтича о польской жизни, обычаях и о странствиях Войновского в чужих землях или рассказы его об училищах и коллегиях Рима, где он учился когда-то; затем шли описания великолепных храмов Италии и Германии, где также много было диковинок. Много видевший шляхтич, не любивший Россию, презирал в душе её невежество, только не позволял себе открыто высказывать это презрение перед боярами Стародубскими. Если он проговорится, бывало, наедине с воспитанником, то тут же поспешит прибавить, что и в России изменятся порядки, когда заведут в ней училища и коллегии, и будут тогда и в России учёные и образованные люди. Войновский передавал воспитаннику, что всё это готовилось в Москве; он слышал о том, когда оставался там после освобождения пленных поляков и сам работал в «Книгопечатне», основанной при Посольском приказе.
– И теперь, – говорил Войновский, – в Москве работают монахи, пришедшие из Киевского братского монастыря: их призвали исправить церковные книги, сличив их с греческими подлинниками.
– Да, – прерывал его Алексей, – я слыхал про это от батюшки. Когда отец был в силах и жил в Москве и ко двору являлся с боярами, то видел там и монаха из Полоцка, Симеона, учителя царевичей и царевен.
– Он и теперь ещё в Москве и в милости у царя Алексея Михайловича и его царевичей.
Из беседы со своим случайным учителем, заправлявшим хозяйством отца, Алексей познакомился и с другими взглядами, подробно слыхал о жизни в чужих землях. И нравились, и непонятны были ему нерусские обычаи, и понимал он, что Войновский порицал всё на Руси, называл её обычаи варварскими, толкуя ему это нерусское слово.
Когда война на Украине с Дорошенкой и турками требовала всё новой и новой силы, то по всей стране велено было забрать в ратные люди всё, что было молодого и сильного, и Алексей должен был поступить на службу. Никита Петрович поехал сам проводить сына в Москву и отдать его под покровительство знакомым и сильным людям, пользовавшимся милостями самого царя. В Москве просил он за сына у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, приближённого ко двору. Молодой Стародубский хотя и прожил детство и годы юности в глухой вотчине отца, но был смышлёнее многих боярских сынков, проживавших в Москве, в виду у царя, или служивших в ратных людях. Он был смышлёнее, вдумчивее их и с особым уважением относился к более развитым людям; особенно интересовало его всё, что он видел и слышал в доме боярина Матвеева, который радушно принял его отца и ласково обратил внимание на Алексея. К нему ласково относились и все бояре, знавшие давно его отца; молодость, красивое лицо и разумная, сдержанная речь располагали в его пользу. Кроме того, он ехал в дальний поход и ни у кого не стоял на дороге к местам и чинам в самой Москве; не намерен был остаться всем бельмом на глазу своим статным видом и старинным родом. Несколько месяцев, однако, пробыл в Москве молодой Стародубский, прежде чем сформированы были новые полки и нашлись деньги для отправки их в поход. В эту бурную для России пору накопилось много тревожных вопросов и дел. Предложившие царю свою покорность, гетманы запорожские снова колебались и призывали на помощь турок и крымцев. Польша неискренно относилась к перемирию, заключённому с Россией, и тайком от неё вела переговоры с турецким султаном. Большое войско посылалось на помощь к Ромодановскому, идти с ним за Днепр на гетмана правой, ещё не покорившейся, стороны Днепра – на Дорошенко, собравшего около себя в Чигирине остатки не принявшего русского подданства казачества.
Наконец молодой Стародубский получил из Разрядного приказа назначение на службу в полк Шепелева. Среди зимы 1674 года Стародубский, приняв благословение отца и поклонившись святым храмам Кремля, выступил из Москвы с отрядом, к которому был причислен. Отряд шёл, как сказано, в войско Ромодановского, стоявшего на берегу Днепра; недавно воевода прогнал за Днепр Дорошенко, опустошавшего города левобережья, и стоял теперь, ожидая помощи и новых распоряжений из Москвы. Полк Шепелева, к которому причислен был Алексей, двигался медленно по глубоким снегам, оставляя по пути в городах немало больных и ослабших на попечение местных воевод.
Продвигаясь на юг почти по всей России, Стародубский собственным опытом убеждался в непорядках, царивших на всей Руси, о которых прежде знал по слухам. Сама живая жизнь убеждает глубже, пробуждая жалость к страдающим и утеснённым. Везде, где только случалось Алексею толковать с местными жителями, были слышны жалобы на воевод. Их обвиняли в поборах, в жестокости при взимании податей с посадских людей и горожан. В городах встречались населения из одних боярских детей, а посадских почти не было, – все они разбегались, находя, что невозможно заниматься ни торговлей, ни ремеслом при постоянно возрастающих поборах. Причиной этих налогов была постоянная война на окраинах.
Посадские люди переходили на землю помещиков, закабаляли свой труд, а податей в городах собирать уже было не с кого; в казне чувствовался недостаток в деньгах.
Непривлекательные и неутешительные картины пришлось видеть Алексею и дальше, на Украйне, и на самой родине шляхтича, порицавшего так громко все русские порядки.
В древней русской столице Киеве, вновь оставшемся тогда уже за русским царём, полк, с которым шёл Алексей, расположился на отдых; город был сильно разорён частыми нашествиями; теперь в нём был русский воевода, встретивший русское войско. В Киеве, на улицах, пестрели разнообразные одежды польских панов, евреев и других иноземцев; впервые видел здесь Алексей свободно выходивших по лавкам и на прогулку польских панночек в красивых платьях, обтягивавших стройный стан.
На улицах Киева стояло ещё много развалин прежних домов, разрушенных и ещё не поправленных вновь; русские воины пошли поклониться Печерской лавре и принять благословение митрополита; монахи имели унылый вид, – они жили постоянно в страхе, опасаясь новых нашествий и разгрома.
Храмы лавры, возвышаясь на древней Печерской горе, видны были из-за окружавшей их стены и сияли золотыми куполами; глубокий овраг, поросший лесом, теперь обнажённым, безлиственным, отделял от дороги старую Киево-Печерскую лавру; окружавшие её стены местами были полуразрушены и примыкали к крепким, недавно восстановленным воротам; русские воины вошли в храм, и вместе с ними молодой Стародубский преклонился перед мощами основателя лавры, св. Феодосия; провожавший их монах провёл их также к гробнице митрополита Петра Могилы, похороненного в Печерской лавре; возвращаясь к своим квартирам, русские любовались на город, лежавший у подножия Старокиевской горы; улицы постепенно понижались по её скатам; нижняя часть города состояла в то время из бедных мазанок, наполовину разрушенных пожарами во время разгрома; в зимнее время сторона эта не представляла особенно живописного вида. Вернувшись в квартиру, Алексей наскоро пообедал и не ложился отдыхать по общему обычаю, но пошёл осматривать город; он направился отыскивать в нижнем городе древний Братский монастырь с духовной академией, о которой он наслышался в Москве, где предполагали уже устроить такую же академию и школу для детей бояр и духовенства; монахи радостно встретили русского воина и боярина, всею душой радуясь, что были возвращены под защиту русского царя и его войска; здесь показали ему храмы, а ректор академии пригласил его осмотреть здание внутри. В обширной трапезной сидел Алексей, окружённый монахами; ректор и архимандрит монастыря расспрашивали его о вестях, касавшихся войны; вместе с другими рассказами о Москве, только что им покинутой, он мог сообщить им, что знал о намерении царя окончательно покорить Украйну, не доверяя более мирным договорам и лукавым обещаниям поляков; слова его вносили мирные надежды в их встревоженные и утомлённые головы.
Разнообразные лица старцев, толпой окружавших пришедшего к ним русского боярина, представляли резкую противоположность с ясным лицом молодого Алексея, ещё не ведавшего никакой печали, а их чёрные рясы оттеняли его цветную одежду, украшенную золотом; статные воины, ратные люди, нередко появлялись в Киеве и в стенах Братского монастыря, но не с таким мирным настроением, не с такими ободряющими речами, какие слышали они теперь о добродушии и набожности русского царя; дорога была им весть, что желал набожный царь навсегда освободить от власти католиков Киев и его святыню!
Алексей, с своей стороны, с любопытством выслушал из уст архимандрита историю учреждения Братского монастыря и академии. Краткий рассказ его открывал перед Алексеем те времена, когда сиротела православная церковь под польским владычеством.
– Тогда, – рассказывал Алексею архимандрит, – православные в Киеве учредили братства, по примеру других городов. Братства были уже во Львове, Вильне и других местностях. Главною целью их было давать религиозное воспитание, и Киевское братство основало свою школу и воспитало борцов в защиту православия; далее школа эта была обязана своим развитием митрополиту Петру Могиле, посвятившему себя служению православию и развитию школ; мы чтим память основателя нашего братства и молимся за него, – докончил набожно архимандрит, осеняя себя крестным знамением.
На следующий день, провожая выступавший из Киева, посланный вперёд, сотенный отряд молодого Стародубского, монахи Братского монастыря надели на шею Алексея образок с изображением архангела Михаила, вырезанным на кипарисовой овальной доске, на тонкой серебряной цепочке немецкой работы.
Выступив из Киева, отряд Алексея повернул снова на левую сторону Днепра, направляясь к Переяславлю; невдалеке от него шёл за ними другой отряд сотенного – боярина Стрешнева; оба отряда принадлежали к рейтарскому полку Шепелева; чем дальше продвигались ратные люди в глубь Украйны, тем реже попадались им города и селения.