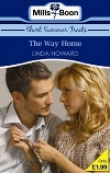Текст книги "Волею императрицы"
Автор книги: Александра Щепкина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Нет, зачем же? – отказывался Яковлев. – Я бросил эти привычки с переездом в Петербург. Сегодня же надо бы особенно избегать этого, – уговаривал Яковлев, который не любил этого настроения у Ломоносова и знал, как оно вредило его здоровью и мешало ему работать.
– Зачем пить! Ведь это лишнее! – возражал он хозяину.
– Разве может это быть лишним в стране, где вас прохлаждают более двадцати градусов мороза? Вино согревает кровь, даёт ей должное движение! А чем был бы мир без движения? Его бы вовсе не было… Не отказывайтесь, – предлагал снова хозяин.
– Лучше не станем пить, право, будет лишнее… – повторил Яковлев, желая напомнить хозяину, что и так уже заметно, что он силился забыть свои огорчения, запивая их.
– Нет, это неизбежно у нас, когда в русской Академии наук сидит столько немцев! Они задерживают ход русскому человеку своею ненавистью к нему. Да! Не дают места прирождённому русскому человеку! – воскликнул Ломоносов, энергично ударяя себя в грудь. – Мне легче было бы жить с моржами, оставаться у Белого моря, на родине. Либо их уж туда отправить! Нам нужна русская наука, а они и нашу русскую историю переделывают на немецкий лад! Как же не пить тут с горя? Да и никто не придёт ко мне сегодня…
Но Ломоносов едва успел выговорить последние слова, как послышался стук у наружной двери, ведущей в его квартиру с улицы. Жена его поспешно вышла на стук этот из соседней комнаты. Эта скромная, нетребовательная подруга его жизни, на которой он женился во времена своего студенческого труженичества за границею, куда он был послан для обучения наукам, когда в нём были замечены особенные способности, – эта добрая, простая по привычкам женщина много вытерпела вместе с ним во времена его бедности и теперь часто брала на себя обязанности прислуги. Она вышла отворить дверь на лестнице. В передней послышался говор, и вслед за тем в комнату вошёл красивый молодой человек в шитом золотом, придворном кафтане и с напудренными волосами. Его живые глаза, высокий, открытый лоб, тонкий нос с едва заметным горбом на нём, особенно же приятное выражение всего лица тотчас обращали на него внимание всех, кто в первый раз встречал его. Но Яковлев не в первый раз видел это лицо и часто встречал его; он знал, что это был молодой Шувалов, ум и образование которого имели для него большое значение при дворе. Яковлев почтительно приподнялся со своего места и встретил его с поклоном. Но другой господин, вошедший вместе с Шуваловым, одетый в такой же богатый кафтан, весь вышитый золотом по краям и на рукавах, был совершенно незнаком Яковлеву и сразу не понравился ему гордым и чопорным видом.
– Ах, ваше превосходительство… – проговорил Ломоносов, обращаясь к Шувалову и с трудом приподнимаясь с места.
– Без чинов! Сидите… – сказал ему почтенный гость, внимательно посмотрев на него и живо оглядывая всю комнату. – Сидите, сидите… – повторил он с лёгкой улыбкой.
– Иван Иванович!.. – заговорил Ломоносов, собираясь сказать что-то, как бы извиняясь.
– Без церемоний, – перебил его снова Шувалов. – А, а… Яковлев!.. – проговорил он, кивнув головой артисту.
– Неужели актёр Яковлев? – живо спросил другой господин, сопровождавший Шувалова. – Вот рад встретить! – продолжал он, подходя к Яковлеву без малейшего поклона и рассматривая его, нимало не стесняясь и говоря: – Никогда ещё не видел актёра не на сцене, – так и кажется, что ты нам что-нибудь сыграешь!
Яковлев молча поклонился человеку, смотревшему на него как на зверя, вывезенного из далёких стран.
– У нас и тут сцена! – раздражительно проговорил Ломоносов. – Разве это не представление? – продолжал он, подмигнув Яковлеву. – В мире, знаете, где жизнь – там и сцена и представление.
Шувалов улыбнулся своею тонкою улыбкой; сопровождавший его господин продолжал наивно улыбаться с удивленьем.
– Право? – спросил он. – А ведь, пожалуй, случается. Любо, право, занятно видеть, как вы, учёные, живете и говорите у себя дома.
– Да-а-с! Почти как все люди! Как вам кажется? А то как те люди, что видели что-нибудь на своём веку, чему-нибудь понаучились! Вот вы… в чужих краях изволили…
– Полно вам, Ломоносов, – перебил его Шувалов. – Что терять время, прочли бы нам что-нибудь!
Шувалов спешил перебить Ломоносова, зная его привычку выпускать когти, когда он был чем-нибудь раздражён, а такое расположение было теперь очень заметно. Шувалов знал, что сопровождавший его богатый вельможа никогда ничему не учился и в последнее время числился в отпуске и проживал в своей далёкой вотчине.
– Простите! Читать сегодня не могу! Измучен сегодня! – извинялся Ломоносов. – Да теперь и поздно, ничего не успеем прочесть…
– А комната у вас маленька! – заметил знатный барин, приехавший с Шуваловым.
– Извините-с, прощенья просим, другой у нас нет!
Зная Ломоносова, Шувалов предвидел, что дело кончится бурей при наивных замечаниях его спутника. Все знали вспыльчивость Ломоносова, если его возмущала надутость или несправедливость. Известна была его ссора в академии и что он находился под арестом за сильную брань, которую позволил себе относительно одного немецкого профессора, притеснявшего Ломоносова. Ожидая бури, Шувалов поспешил выжить своего спутника.
– Знаете ли, что мне пришло в голову? – сказал он, обратясь к нему. – Пожалуй, наша добрейшая генеральша Глыбина заждалась нас да и ждать перестанет к ужину! Мы запоздали, а мне надо ещё перетолковать здесь о деле. Ступайте к ней и предупредите её. Скажите, что я должен был долго пробыть в конференции при высочайшем дворе; но здесь, у Ломоносова, останусь очень недолго, к ужину буду к ней.
Спутник Шувалова легко и быстро приподнялся со своего места, несмотря на свой пожилой возраст, при мысли, что он может пропустить прекрасный ужин с хорошей порцией вина: он спешил исполнить поручение Шувалова.
– Милый! – кликнул он, обращаясь к Яковлеву. – Сбегай, скажи, чтоб кучер подавал карету!
Яковлев посмотрел на него в недоумении; он молчал, но глаза у него загорались…
– Ступайте одни, батюшка! Ведь кучер у подъезда и подаст вам карету. Хозяйка затворит за вами дверь, таков уж её обычай! – говорил, смеясь, Шувалов и спешил выпроводить гостя.
– Да-с, – говорил, провожая его, Ломоносов, – если вы желаете, чтоб артист прочёл вам что-нибудь, спуская вас с лестницы, – это другое дело! А кликнуть кучера – можно и не имея таланта. Ведь актёр не носит только шпаги, а для услуг не нанимался.
– Кто же вас разгадает, учёных людей! Ха-ха-ха! – смеялся гость собственной шутке, тяжёлой походкой выходя из комнаты, едва справляясь со своей грузной фигурой и вышитым кафтаном и шпагой.
– Оставьте его, успокойтесь, Ломоносов! Вот вы в каком раздражении, а я спешил к вам душу отвести, из заседания.
– Простите, не могу гнуть спину! На море с детства, я сам был себе господином – и вовек не привыкну изгибаться!..
– Успокойтесь! Яковлев человек умный, простит невежеству; только посмеётся с товарищами, передразнит этого барина на сцене. А вот есть у нас беда посерьёзней!
– Что у вас, что? – встрепенувшись вдруг и забывая свою досаду, заговорил Ломоносов и, спрашивая, участливо подсел ближе к Шувалову.
– Как кажется, нам готовится война, – проговорил Шувалов, наклонившись к Ломоносову. – Нет возможности избегнуть её! Прежде намеренно старались восстановить императрицу против короля прусского, – это были партии… А теперь король прусский сам неожиданно делает захваты, и нам нельзя избежать войны: мы обязательно должны помогать нашим союзникам – австрийцам.
– Война – зло, зло абсолютное! Но если обстоятельства вынуждают, то так и быть: открывайте войну против личного врага моего, Фридриха! Я не забыл ему, как он завербовал меня силой в солдаты своей армии, когда я спасался от долгов и бежал из Марбурга в Голландию, чтоб морем проехать в Россию и начать работать на родине. Ведите войну, коли так нужно, но не забывайте нашего новорождённого университета! Выхлопочите вы для русского народа…
– Мы обговорим всё это в другое время, – прервал с улыбкою Шувалов. – Обо всём перетолкуем, долго переговорим! – уговаривал он вспыхнувшего Ломоносова. – А теперь прощайте, надо исполнить обещанное и спешить к нашей генеральше. Ведь вы знаете, кто эта генеральша? Это недавно вышедшая замуж фрейлина императрицы, Анна… – Шувалов остановился на минуту, готовясь произнести её фамилию.
– Харитонова?.. – невольно подсказал Яковлев в волнении.
– Анна Ефимовская, – поправил Шувалов, – она вышла замуж за генерала Глыбина.
Шувалов сказал ещё несколько ласковых слов и дружеских увещаний, обращаясь к Ломоносову, желая ему быть покойней и здоровей, ласково поклонился Яковлеву и вышел.
Яковлев стоял ошеломлённый вестью о замужестве Анны: сердце у него упало. Отчего же, думал он, не радует меня эта весть? Что ж это мне так больно? Он молча сел на прежнее место против Ломоносова, собиравшего листы рукописи, которую он готовился прочесть.
Отчего бы действительно было падать сердцу Яковлева? Он не был влюблён в Анну, хотя любовался ею. Скорей это было от участия к ней: за кого вышла она, по её ли воле свершилось это замужество? И, сверх того, он был разлучён теперь с обеими старыми знакомыми. Милый ему когда-то хутор опустеет навсегда. Ему представлялся добрый старик, теперь одинокий. Ну что же делать, говорил он сам себе, ведь и всё должно проходить когда-нибудь на этом свете. Но и эта мысль не очень поддержала и утешила его; он сидел молча, в раздумье.
– Что? И ты приуныл, друг Яковлев! – сказал ему хозяин дома. – Вот мы опять одни, и оба невеселы.
Ломоносов принёс графин и две рюмки и налил обе как можно полнее. Яковлев не отказывался на этот раз; он подвинул к себе рюмку и выпил её молча. Ломоносов, напротив, разговорился, припомнив свою жизнь за границею, подробно описывая своё бедственное положение, когда он жил там, не получая вовремя назначенных на его содержание денег. Потом он припомнил юность и детство, жизнь у отца, вспомнил рыбную ловлю на Двине и на море, в рыбачьей ладье, то подымавшейся бегущими на неё волнами, то опускавшейся снова. Он говорил о дивной северной ночи. Все эти рассказы увлекли и оживили бы Яковлева в другое время, но тут он слушал безучастно; они казались ему печальны почему-то, под влиянием нашедшей на него апатии. Просидев у Ломоносова далеко за полночь, он вырвался от него, уходя от его угощения с головной болью и обессиленный! На другой день даже он не мог явиться на репетицию, за что получил выговор от начальства, – от распорядителя театра, Сумарокова, который потребовал его к себе.
– Господин Яковлев! – обратился он к нему, встречая его у себя в квартире, между тем как Яковлев входил к нему смущённый, сознавая, что он поступил беспорядочно. – Господин Яковлев! Я хочу дать вам благой совет: артист не должен избегать репетиций, это одно ложное самолюбие, ложная гордость; она мешает усовершенствованию таланта!
– Я не пришёл на репетицию не из гордости, а по болезни, господин Сумароков. Вчера вечером я засиделся у Ломоносова и вернулся от него с головною болью.
– А-а! Теперь я всё понимаю! Михаил Васильевич пил и заставлял вас пить вместе с ним. Прошу вас, посещайте как можно реже такие компании. Он приобрёл уже предосудительную привычку к вину и может сообщить вам такую же привычку!
– Я давно не позволяю себе лишней рюмки, знаю, что для актёра это может испортить дело и не идёт. Но вчера мне было так не по себе и тяжело на душе, вот я и…
– Выпил с горя! – докончил за него Сумароков, не дав ему договорить. – Это хуже всего! Пить ещё можно с радости, но с горя никогда не следует, потому что оно случается гораздо чаще радости; и потом можно надолго остаться при воспоминании о горе! Но что у вас за горе? Садитесь, сударь мой, расскажите всё откровенно.
– Я был дурно настроен, – уклончиво отвечал Яковлев, избегая откровенных объяснений; он не хотел рассказывать об Анне, о близком знакомстве с ней и о замужестве, неожиданность которого его поразила. Но чтобы ответить чем-нибудь на вызов Сумарокова, он рассказал ему о встрече у Ломоносова с каким-то знатным господином, который посылал его на улицу кликнуть его кучера, и сообщил также об ответе Ломоносова; смеясь, помянул и насчёт шпаги, которой недоставало артистам, по его замечанию.
– Да, ведь это дело; справедливо! Если бы вы, артисты, носили шпаги, то общество обращалось бы к вам почтительнее. Обещаю вам похлопотать о дозволении артистам носить шпагу и надеюсь, что мне удастся выхлопотать это право.
Яковлев рассмеялся, видя, что Сумароков принял так серьёзно замечание, сделанное мимоходом.
– Нет, шпага ничему не поможет, – сказал он, – пока общество не приобретёт более верных взглядов на актёра. Теперь они считают актёра игрушкой, он их приятно забавляет; они не понимают, что он честный труженик и трудится над их образованием. Какое им дело до этого, им лишь бы позабавить себя, а иногда полезно обратить его и в лакея.
Сумароков беспокойно забегал по комнате, будто измеряя её быстрыми шагами. Умное лицо его, с прямыми длинными чертами и остро глядящими глазами, подёргивалось от волнения. Он напряжённо смотрел перед собою вперёд, вытягивая шею и нагибаясь всем корпусом. Бегая в тесной комнате, он походил на запертую куницу, которой нет выхода из клетки.
– Да! – заговорил он наконец. – Вы думаете, что только актёрам тяжело столковаться с людьми? А писателю, автору, разве легче? На него разве не смотрели как на плясуна по канату? С ним разве не обращались как с прислугой? А мало ли вытерпел Тредьяковский наш, с его мякеньким, гнувшимся существом? А меня разве не затёрли бы в грязь, если бы я не боролся каждую минуту? Вы слышали о моей жизни за границею? Знаете, какие у меня были знакомства и связи? Я был уважаем в среде гениальных писателей! Монтескьё, – он великий мыслитель, – был моим коротким знакомым! Вольтер был мне другом! Они пишут похвальные отзывы о моих драматических произведениях. А у нас? Разве меня понимают? Где я вижу почётный приём? Где встречаю оценку? Ведь я не ради хвалы себе говорю, не за себя жалуюсь: я жалуюсь за русского учёного, за русского писателя!
– Вы ещё можете похвалиться приёмом, – заметил Яковлев, – ваши пьесы ставят на сцене при дворе, их играют и слушают?
– Да, да. Играют и слушают. Да ведь нечего было бы и играть-то без них! Я ведь всю жизнь трудился, чтобы создать русскую драму и русский театр! И вот, положим, меня сделали распорядителем русского театра; но что же вышло? Я бьюсь как рыба об лёд, весь день бегаю, чтоб выпросить средства для постановки пьесы. На завтра назначено представление, а у актёров нет платьев! Я рад бы истратить и свои деньги, – да и мне-то не выдают жалованья!
– Да кто же тут распоряжается, кто тут виноват? – спрашивал Яковлев.
– Никто, и всё! – воскликнул Сумароков, рассмеявшись каким-то невесёлым смехом. Общее невнимание-с, общее равнодушие! Для нас нет обозначенных положений, мы вне закона, как сказали бы французы. Да, – продолжал он задумчиво, – скоро ли можно обуздать, воспитать общество? Для вас, артистов, я непременно выхлопочу шпагу. Только ведь и нашего! И то трудно достать.
– Воображаю, каков я буду со шпагою при бедре! – смеясь, говорил Яковлев. – Рыцарь, да и только! Тогда уж никто не посмеет послать меня за каретой на улицу. Пожалуй, начнут приглашать на балы в боярские дома!
– Нет, батюшка, этого не скоро дождётесь! Дмитревского кое-где принимают, да и то из того, что он уроки даёт: это придаёт ему вес, на него смотрят как на учителя.
– Да, признаться, и на меня находит раздумье! Хорошо ли я сделал, что увлёкся страстью к театру, зачем не остался при занятиях наукой! Теперь у меня пробудилась страсть к знанию, к занятиям… – откровенно высказался Яковлев.
– Если вы только ради положения почётного желали бы переменить занятия – так ничего бы вы не выиграли! Вот если бы вас послали воеводой или каким-нибудь начальством куда-нибудь – так вы бы накопили себе, то есть награбили бы, кучу казны несметную, гремели бы золотом и были бы в почёте! Ведь этих артистов, по этой-то части, принимают и почёт им оказывают! А мы с вами будем довольны тем, что несомненно приносим пользу. Ляжем мы самыми первыми ступеньками для великой лестницы: будущей русской литературы и искусства! Ну можно и на этом успокоиться! – Сумароков закончил свою горячую выходку и замолк на минуту, продолжая бегать по комнате.
– А я вас опять попрошу, – начал он через минуту, остановясь перед Яковлевым, – не пропускайте вы репетиций да пореже ходите к Ломоносову.
– Первое я вам обещаю, но второе не могу исполнить! – возразил Яковлев. – Где же мне душу отвести, где умом пожить? Михайло Васильевич ведь каждому русскому готов уделить своего ума и знания! Ведь его заслушаться можно, – говорил Яковлев, будто извиняясь и оправдывая свои посещения Ломоносова.
– Гм, – откашлялся Сумароков, быть может неохотно слушавший похвалы Ломоносову. – Ну прощайте, – прервал он Яковлева, – приходите же на репетицию. Так берётесь играть Тартюфа?
– Согласен, согласен, – отвечал Яковлев, – Дмитревский прослушивал меня вчера, смеялся, говорит, что я как живой! Ну, конечно, живой, не мёртвого же я играю.
– Вот посмотрим, – проговорил Сумароков, потирая руки, – я тотчас прибегу, проглочу что-нибудь наскоро и тотчас прибегу за вами!
– До свиданья, и благодарен за участие, – сказал Яковлев, раскланиваясь и выходя от Сумарокова.
«Всё это хорошо, – думал он дорогою, – одно жаль: оба хорошие люди, оба трудятся без устали на пользу общества так усердно, точно кто их подталкивает! А друг с другом не уживаются!»
Так думал Яковлев, отправляясь прямо на репетицию «Тартюфа» и стряхнув на время вчерашнюю тоску.
На следующий день, вечером, представление «Тартюфа» прошло блистательно; в обществе потом только и было говору что о новой пьесе, и, быть может, многие, посмеиваясь, узнавали между собою тартюфов и украдкою указывали друг на друга.
На представлении зал был полон публики. Посещать театр было почти обязательно для высшего класса, и все старались угодить этим императрице, так как сама она поощряла спектакли и развитие вкуса в обществе. У отсутствующих спросили бы на другой день: почему вы не были? И даже могли подвергнуть их штрафу. Многим рассылали билеты от двора. Во время представления «Тартюфа», пьесы Сумарокова, написанной в подражание Мольеру, Яковлев видел Анну в креслах, рядом с генералом, её мужем. Здесь надо сказать по правде, что при первом взгляде на неё что-то сдавило ему грудь, стеснило дыхание; но он быстро оправился, стараясь избавиться от этого неожиданного ощущения, и потом спокойно всматривался в Анну, стоя за кулисами: он убедился, что она весела, довольна. Выходя на сцену, он видел, что она указывала на него мужу, смеялась его игре и аплодировала. Всё это было приятно, пока длился спектакль; Яковлеву весело было опять видеть близкое лицо и обращать на себя внимание Анны; но по окончании спектакля снова всплыли в нём прежние тяжёлые чувства и мысли, когда он один шёл к себе на квартиру. Он видел Анну в числе зрителей, но никогда не придётся ему видеть её где-нибудь как хорошую знакомую: да, житейская волна подняла её вверх и унесла из прежнего уровня. Бедному артисту не подняться было с тою же волною.
На Яковлева нашла апатия, самое тяжёлое душевное расположение для артиста: он охладевал к своему занятию, чувствовал тяжёлое одиночество и не знал, куда деваться. В один сумрачный петербургский вечер, когда здания скрывались в тумане, ветер дул с моря, с Невы летели мелкие брызги в сыром воздухе с порывами ветра, а в улицах был мрак, Яковлев бесцельно и один бродил по набережной Невы с чувством одолевающей тоски. «Куда же деваться мне? – спрашивал он, глядя вокруг. – Уж не в Неву ли?» – ответил он сам себе печально, поглядывая на её тёмные волны и перебирая в мыслях всё представлявшееся ему впереди в его существовании. Среди унылых представлений мелькнул какой-то просвет, приятное воспоминание, – и он повернул к этой светлой точке и пошёл к Васильевскому острову, к квартире Ломоносова! Легче и теплей становилось ему, чем ближе подходил он к знакомому домику; особенно хорошо стало ему, когда свет ночника, поставленного в передней, бросил перед ним слабый свет свой на тёмную улицу.
«Мне не ходить к Ломоносову! – повторил он про себя слова Сумарокова. – Да тут для меня и свет и жизнь моя! Без того же уж прямо в Неву! Так жить нельзя, в одиночку!»
И как утопавший схватился бы за соломинку, Стефан Яковлев ухватился за мысль, что спасенье его в этом доме, где радушный хозяин не затворял дверей русскому человеку из низшего слоя. И с какой-то набежавшей радостью Яковлев схватил руку скромной хозяйки, всегда радушно отворявшей ему дверь свою, и крепко сжал её.
– Простите! – сказал он. – Я так рад, что вижу вас! Но, простите, на этот раз забыл захватить «Кухен», принесу скоро, завтра же принесу непременно!
– Ну хорошо. Уж вы добрый, вас можно прощать, – ласково говорила хозяйка, ломая по-своему русский язык. Она не могла выучиться чисто говорить по-русски, хотя давно жила в России и разделяла скромную долю мужа, за которым последовала на чужбину из Германии.
Яковлев вошёл в небольшую приёмную, где скромно сидело несколько человек, неблистательно одетых и робко взглянувших на вошедшего. Это были ученики и почитатели Ломоносова, они упросили его прочесть им недавно написанное им слово «О рождении металлов от потрясения земли». Слово это было читано публично в следующем сентябре того года, но в этот вечер он читал его немногим любимым своим ученикам и некоторым скромным почитателям. Яковлев тихо вошёл, с отрадным чувством взглянув на Ломоносова, сидевшего подле простого, небольшого стола, прикрытого пёстрой вязаной скатертью, работой жены его. В руках он держал листы своей рукописи, прерывая на минуту только что начавшееся чтение, чтоб ласково кивнуть головою Яковлеву. Стефан Яковлев сел в углу, рассматривая слушателей: это были ученики академии и один знакомый ему ученик из Шляхетского корпуса. В этом «Слове» серьёзного научного содержания, в котором излагались объяснения естественной жизни природы и её явлений, не всё было понятно, но всё было интересно Яковлеву. Все слушали со вниманием; особенно бросился Яковлеву в глаза один ученик академии, лицо которого дышало одушевлением и глаза блистали от удовольствия. Всё было ново для них, всё одушевляло учеников академии. Яковлев пожелал в душе быть между ними, на ученической лавке, чтоб снова учиться и слушать такого профессора и с ним вместе узнавать тайны жизни природы. Изложение мыслей профессора шло не так легко и свободно, как бывает в наше время; русский язык ещё не развился и не образовался для более связной передачи мыслей, особенно тяжела была конструкция речи, перестановка слов, мешавшая ясной передачи мыслей. Но местами чтение шло простым, разговорным языком. В «Слове» профессор описывал жизнь природы, перед слушателем проносилась буря с грозою и громом, земля потрясалась и извергала из недр своих много веществ, необходимых для жизни. В чтении объяснялось, как всё сгорающее на поверхности земли с дождём посылало пепел свой снова в низшие слои земли, и подземные токи воды уносили составные части пепла в море. Оно говорило о том, как электричество порождало бури, очищавшие воздух и облегчавшие дыхание всего живущего. Всюду указывалось на новую жизнь, новые силы; много прежде неизвестного или незамеченного являлось объяснённым как новый источник для благосостояния общества. Из грозных явлений природы и землетрясений следовали не одни только бедствия; в последствиях их профессор указывал источники, обогащающие жизнь человека, и уничтожал страх перед этими грозными явлениями; он указывал как на последствие их на богатую растительность, на животворные целебные источники и на всюду употребляемые для удобств жизни металлы и минералы, создавшиеся в недрах земли при её преобразованиях и потрясениях. Таково было содержание «Слова», имевшее пробуждающее влияние на мысли и чувства учеников.
Чтение кончилось, ученики подходят к профессору, теснятся около него, горячо благодарят его за труд! Профессор устал, устал естественно, от труда и умственного возбуждения. Яковлев также подходит и обнимает его, Михаил Васильевич улыбается ему и говорит: «До свиданья, до свиданья, приходите ко мне почаще; спасибо и вам за вашу игру в новой пьесе!» Но Михаил Васильевич не приглашает его остаться и пить. Уж поздно, все расходятся, и Яковлев сходит с лестницы вместе с учениками профессора. Они идут с ним рядом, шумно разговаривают между собою.
– Ведь вы актёр Яковлев? – спрашивает один из них, застенчиво заговаривая с Яковлевым.
– Да, я актёр Яковлев, – отвечает он, – рад познакомиться, к вашим услугам!
– Я вас видел на сцене в Шляхетском корпусе, – говорил ему молодой человек, – у меня есть там родственник, он провёл меня на представление. Играете вы на диво!
– Познакомь и меня! И меня! – шёпотом просят ещё два ученика, шедших вместе с ними, и все подходят к Яковлеву ближе. – Имею честь кланяться! – говорят они, участливо глядя на него.
– Если б нам послушать вас где-нибудь! – говорят эти двое, не слышавшие его.
– Приходите ко мне на квартиру, я у себя дома прочту вам что-нибудь. Или, если хотите, я проведу вас за кулисы, вы всех увидите и услышите.
– Вот спасибо! Вот отлично! – раздаются восклицания около него.
– Славный малый вы, Яковлев, – говорит ему один ученик, обнимая его одною рукою на ходу! Другой дружески ударяет его по плечу.
– Вот профессор у вас славный! – говорит им Яковлев.
– Профессор наш – редкий человек, знаменитый учёный, – говорит один из учеников.
– Нет, он у нас просто диво какое-то! – восклицает ученик, который глядел так одушевлённо во время чтения. – Он у нас чудище морское, о каких он сам говорит иногда. Ведь подумать только: откуда взялся такой учёный! Из архангельской деревни, у мужичка в избе родился. А заговорит – так перед вами горы двигаются, трава растёт, гром слышен из тучи!.. Как наслушаешься его, так после посмотришь вокруг себя и понимаешь, что всё живёт вместе с тобою да и сам ты не мог бы жить без всего этого, что живёт вокруг тебя. Вот он у нас какое чудо!
Так наивно и странно высказал ученик своё глубокое удивление к таланту профессора и вызвал весёлый смех двух остальных товарищей.
– Весело как на душе, когда его послушаешь; я бы запел теперь что-нибудь погромче! – продолжал ученик, восхвалявший профессора.
– Что ж, запоёмте хором! – подхватили другие.
– Пожалуй, пожалуй, – говорил Яковлев, заражаясь их весельем. – Вот я начну, а вы за мною…
И русская песня громко раздалась в тёмных улицах города. Ученики взяли Яковлева под руки и шли вместе, с весёлой песней, пока не выдвинулись на освещённую хотя и мутным фонарным светом улицу, где их окликнул сторож.
– Кто тут орёт по ночам! Говори кто? Перепились, что ли?
– Убежим, надо бежать, чтоб ещё не взяли! – говорили притихшие ученики академии. – Прощай, Яковлев! – и свернув в сторону, они исчезли в темноте ближайшей улицы. Только третий из них оставался и убеждал Яковлева бежать с ним. Яковлев не счёл это нужным.
– Бегите одни, – сказал он. – До свиданья, приходите же к Яковлеву!
Сторожа подходили ближе, всё окликая шумевших тут.
– Кто такой? – спрашивал один из них Яковлева.
– Актёр Яковлев, – ответил он, – я завтра должен играть на придворном её величества театре.
– Комедиант, значит, – вдумчиво проговорил сторож. – Так ты днём представляй, а по ночам не ори, не мешай другим спать! – прибавил он внушительно.
– И я пойду спать! – объявил Яковлев и быстро двинулся вперёд, скрываясь в темноте, как скрылись его товарищи.
Он действительно поспешил домой, спать. После напряжённого вниманья при чтении, после ходьбы и пения его одолевали естественная усталость и дремота. В сообществе молодых учеников академии ему вспомнились некоторые весёлые дни между товарищами бурсы. Новое знакомство оживило его, хандра исчезла, и он заснул спокойным, здоровым сном молодости. На другой день его не оставляла бодрость; он встал освежённым ото сна и понял к тому же, что вчера он пробил себе окно, из которого всегда будет веять на него свежий ветер и чистый воздух: он примкнул к бедной, но учащейся с интересом молодёжи и не останется более одиноким в жизни.
Скоро оказалось, что ему по многим причинам не суждено было оставаться одиноким. Нашлось ещё существо, прибегавшее к его помощи и поддержке. Через несколько дней его вызвали в канцелярию генерал-полицмейстера. Он шёл несколько смущённый, не понимая, какая могла быть в нём надобность и не последует ли какого взыскания или внушения. Многое придумывал он, и одно только не могло прийти ему на мысль: что он получит известие о своём старинном друге, о давно исчезнувшей Малаше.
В канцелярии генерал-полицмейстера Яковлеву сделали такой вопрос: он ли был Стефан Барановский, поступивший на театр актёром под прозванием Яковлева?
На вопрос этот Яковлев с изумлением, выслушав его, отвечал, что он действительно Стефан Барановский. Затем его спросили, есть ли он уроженец Нижегородской губернии и владетель стольких-то душ крестьян, приписанных к его фабричному производству железных изделий?
Когда Стефан и на это дал ответ утвердительный, который сличён был с показаниями крепостного его крестьянина, кузнеца Артема, ему прочли заявление из Оренбурга, что находившаяся в бегах крепостная из крестьян его, последовавшая за бежавшим мужем своим Борисом и другими крестьянами, ныне в той губернии приписавшимися к поселенцам, овдовела и пожелала возвратиться к прежнему своему владельцу, Стефану Григорьевичу Барановскому, и водвориться на прежнем местожительстве.
Весть, через столько лет полученная о пропавшей Малаше, взволновала и растрогала Яковлева. Как принять её к себе и как доказать своё право? И вправе ли он был взять её от другого владельца, к которому она перешла с своим мужем? Но в заявлении упоминалось о том, что Малаша вольна была поселиться при отце, так как помещику, владевшему её мужем, были зачтены в число рекрутов в будущие наборы бежавшие от него крестьяне, и крестьянин его, Борис Галкин, приписавшийся в казаки при крепости на Оренбургской линии. Таким образом, уверившись в своём праве приютить Малашу, Яковлеву оставалось только изъявить на то своё согласие и дать письменное позволение Малаше оставаться при его фабричном производстве в Нижнем Новгороде. Матери Стефана уж не было в живых, он наследовал её имущество вместе с двумя братьями, за воспитание которых он платил.