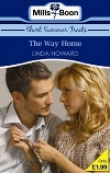Текст книги "Волею императрицы"
Автор книги: Александра Щепкина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Яковлев вернулся из канцелярии обер-полицмейстера столько же обрадованный, сколько озадаченный, не зная, как быть и что делать дальше! Ему предстояло взять отпуск и ехать в Нижний, чтобы устроить там Малашу. Отпуска ему не дали, потому что некем было заменить его в новых, только что поставленных пьесах. Так прошло несколько времени, Яковлев писал к старшему брату и получил от него ответ: он сообщал, что «овдовевшая Малаша вернулась к отцу своему, а муж её, Борис, был убит башкирами в одной из крепостей Исетской провинции, с помещиком, владельцем Бориса, дело было улажено, и он никакими требованиями Малашу не тревожил».
Письмо брата было новой радостью Стефану. Но он считал, что безопаснее было бы для Малаши удалить её из прежнего местожительства, и написал брату, чтобы он привёз Малашу в Петербург, если она будет согласна. Из ответа брата Стефан узнал, что Малаша очень обрадовалась такому предложению. Но прошло около двух месяцев прежде, чем брат Стефана мог привезти Малашу в Петербург, – а Стефан Яковлев не мог оторваться от службы при театре. Малаша так много странствовала, что это последнее путешествие уж не затруднило бы её; но потрясения, пережитые ею за все годы, не прошли бесследно для её организма. На Малашу находил по временам страх без причины и даже странное расстройство, похожее на помешательство. На пути в Петербург, дорогою, она иногда не узнавала брата Стефана и называла его башкиром, который насильно увозил её в степи. Скоро она снова приходила в себя, но впадала в сон и спала более суток, не просыпаясь. Стефан не узнал в ней прежней Малаши, хотя она обрадовалась ему по-прежнему! Она долго и пристально смотрела на него, брала его за руки; по-прежнему обнял он её при свидании, но в ней не было прежней весёлости. Она часто набожно крестилась, была тиха; на глаза её навёртывались слёзы, всё настроение было тревожно. Леченье и внимательный уход Стефана взяли своё: болезнь Малаши исчезала видимо, она привыкла к спокойной счастливой жизни, и припадки страха не появлялись. Как на верный признак выздоровления смотрел Стефан на проявившуюся в ней снова деятельность. Она принялась за работу, вникала во все потребности Яковлева при городской жизни и взяла на себя все занятия домовитой хозяйки: она начала мыть и гладить по-прежнему, шить, мести и чистить всё в его квартире. Яковлев едва мог сдерживать её усердие, которое смущало его; он не желал пользоваться её трудом, тем более что она не шла ни на какие условия и уклонялась от подарков Стефана, довольствуясь самым необходимым. С нею Стефан Яковлев чувствовал себя менее одиноким, они вспоминали старое житьё и родной дом, он веселее возвращался домой после спектаклей и репетиций, зная, что кто-то ждёт его дома. Прошёл год такой жизни, Малаша привыкла к Петербургу, не дичилась знакомых Стефана, актёров и учеников академий. Но Стефана заботили слухи и толки, начавшие ходить о ней между его знакомыми, слухи, которые были небезопасны, как казалось ему, по тому времени. Он советовался с друзьями и долго обдумывал, как ему поступить в таком случае. Предупредить всякие слухи женитьбой на Малаше казалось ему самым лучшим решением, и он положил сообщить ей этот план.
– Знаешь ли, какая у нас новость, Малаша? – начал он. – Ведь тебе нашёлся жених! – сказал он, смеясь.
Стефан не ожидал, чтоб такое шуточное начало его предложения уже так взволновало Малашу. Она посмотрела на него с испугом, лицо её переменилось.
– Нет, нет! Сохрани, Господи! – залепетала она и напугала самого Яковлева своим испугом.
– Я пошутил, пошутил, Малаша, – успокаивал он её. – Но чего же ты так испугалась?
– Как же? Ведь я была замужем, я уж боюсь опять взять такого мужа! Да ещё, пожалуй, и прежний-то жив… Ведь только калмыки видели, что он убит, а кто знает наверное…
– Нет, успокойся, это верно, мы справлялись о нём. И тебе выдано свидетельство, что ты овдовела.
– Три года, как я получила свидетельство в Оренбурге от губернатора Неплюева, благослови его, Господи! Он меня выслал на родину, так что могу служить старому хозяину и отца повидала! А мужа другого мне не нужно, я сама лучше проживу и при хозяине останусь.
– А если я за тебя посватаюсь, Малаша?
– Ты барин, тебе нельзя на мне жениться, – ответила Малаша так же, как ответила когда-то, много лет тому назад, и поспешила уйти, чтобы прекратить разговор.
Но Яковлев часто возобновлял этот разговор в виде шутки, чтоб приучить Малашу к этой мысли. Малаша слушала его спокойнее и доверчивее, она начала понимать, что у него было сильное желание никогда не расставаться с ней, чего она так же желала, как одного возможного для неё счастья и покоя. Он втолковал ей наконец, что он не барин, а сын фабриканта, почти такой же кузнец, как отец её, только выучившийся грамоте да другим наукам.
– Так, это всё так, и я с тобой вовек бы сама не рассталась, – высказалась она наконец, – ты для меня всё равно что родная моя семья! Да не грех ли это будет нам, вот мой страх: муж-то неизвестно где умер. Только видела я крест его да одно ухо отрубленное!
– Полно, полно об этом, – спешил прервать Яковлев опасную нить воспоминаний. – Вот мы пойдём к священнику и с ним потолкуем.
Так и сделали; и после обстоятельного разговора со священником Стефан принёс Малаше его согласие обвенчать их, так как препятствий к браку их не находилось, хотя она сама при смерти мужа лично не присутствовала, но достаточно было выданного ей в Оренбурге свидетельства и удостоверения о его смерти.
Яковлев тихо справил свою свадьбу, в присутствии немногих хороших приятелей, в глазах которых женитьба его на бедной, пострадавшей Малаше, друге его детства, вполне дорисовала его чистую, добрую натуру.
Замужество с Яковлевым будто воскресило и оживило Малашу. По-прежнему считая его несравненно выше себя, она старалась во всём следовать его советам. Она приняла другую одежду и приёмы, со степенною важностью выходила она навстречу к его приятелям, между тем как на её наивно-добродушном лице сияла та же доброта в улыбке и глазах её, по-прежнему глядевших несколько исподлобья сквозь свесившиеся на крутой лоб её тёмные, кудреватые волосы. Простота её не отталкивала друзей Яковлева; сами они были почти все из небогатых семейств или вышли из простого сословия, она скорей привлекала их в дом Стефана Яковлева. В этой обстановке, в семейном кружке нашёл наконец Стефан мир душевный. Заботы его были разделены; он с новым увлечением отдался театру, утешенный в потере прежних знакомых, отделившихся от него. Спокойно встречал он иногда пышную карету Анны, изредка с ней раскланиваясь. У него была своя отдельная жизнь и свои интересы в жизни, полной хороших стремлений.
Глава X
Из писем сестры Ольги Анна должна была убедиться, как твёрдо и неизменно было её намерение, которое навеки должно было отнять её у семьи и у всего живого мира. На все увещевания Анны, ответы её были коротки и сухи. Единственно возможное для них свиданье должно было произойти в монастыре, по желанию Ольги. Ольга желала поступить в Смольный монастырь в Петербурге, под покровительство той самой настоятельницы монастыря, у которой Анна нашла приют на несколько недель до поступления своего ко дворцу. Ольга поступала в Смольный послушницею, сожалея, что она не могла тотчас постричься, по давно изданному закону, запрещавшему постригаться ранее тридцати лет от роду. Ольга приехала наконец в Петербург; после долгой разлуки сестры свиделись, но не при весёлых условиях. Анна нашла такую перемену в наружности Ольги, будто над ней пролетели десятки лет со времени их разлуки. Она не только похудела, но преждевременные морщины на лбу её и глаза, потерявшие всякую живость, казались чем-то неестественным в её лета. Она крепко обняла сестру при первом свиданье; но вслед за тем заговорила с нею равнодушно, слова её звучали так ровно и размеренно, и в лице её не было того согревающего взгляда и участия, которые Анна привыкла видеть бывало.
– Боже мой! Здорова ли ты, Ольга? – вырвалось у Анны.
– Здоровье телесное водворяется вместе с нравственным здоровьем, – я надеюсь на благодать свыше. Скоро настанет время, когда ты увидишь меня исцелённую от всех недугов.
– Как это прискорбно, Ольга! После такой долгой разлуки такое свиданье! И мы не можем поговорить свободно, без свидетелей.
– Нам не о чем говорить, сестра Анна. В разговорах с тобою я нашла бы ту суету мирскую, от которой я бегу. Такие разговоры неуместны теперь.
– Но ты ещё не отреклась от мира, по крайней мере не отреклась от семьи своей! Расскажи мне об отце… А ты разве не желаешь знать, как мне живётся здесь?.. Ведь ты не перестала принимать во мне участия?
– Я никогда не перестану желать вам земного счастья и никогда не перестану молиться о вашем спасении. Мы можем сесть здесь, – сказала Ольга, опускаясь на деревянную скамью поодаль от других посетителей в приёмной комнате игуменьи и указывая Анне место рядом.
– Отец посылает тебе своё благословение, – продолжала она, – он желает видеть тебя. Теперь ты одно его утешение, и ты должна посетить его.
– Я уж давно посетила бы вас обоих, если бы получила на это отпуск и позволение, будучи ещё фрейлиной! – говорила Анна со слезами. Она не могла равнодушно вынести видимую перемену во всём существе молодой и любимой сестры, превратившейся во что-то отжившее. Анна горевала и сердилась внутренне и не смела проявить всего, что кипело в ней. Она хотела бы воскликнуть: «Ольга! Это не ты! Эти речи и голос – это всё накинуто на себя, чтоб оградить себя от любви и привязанности к близким и кровным родным лицам!» Но она боялась оскорбить сестру и сразу испугать её; боялась, чтобы она совершенно не отдалилась от неё. Анна постаралась овладеть собою и спокойно слушать эту чужую речь и незнакомые звуки голоса из уст сестры Ольги.
– Отец найдёт силу вынести испытанье, которое посылается ему, он благословил меня на прощанье. – Голос Ольги смягчился, и она отёрла невольную слезу. Анна быстро прильнула головою к плечу её, но Ольга тихо отстранила её голову: – Расскажи мне, Анна, довольна ли ты своею судьбою или о чём ещё надо молить для тебя перед Богом?
– Я молюсь за тебя, Ольга, молюсь, чтобы Господь возвратил нам тебя такою, какою мы тебя знали и любили!
– Что миновало, то уже не возвращается. Всё минует по воле Божией, и наступает новое время, и сам человек обновляется. Не смущайся же переменой во мне.
– Оставим такие разговоры, Ольга. Скажи мне, здоровы ли все дома? Здоров ли был отец, когда ты оставила его, и как поживает тётушка? Я так давно их не видала, что мне дорого всё, что ты можешь рассказать о их жизни, – прервала Анна сестру, недовольная её холодными размышлениями.
– Все были здоровы, когда я их оставила, верно, здоровы и теперь. Тётушка посылает тебе поклон и велела сказать, что очень желает видеть тебя. Всё хорошо и мирно у них. Благодарю тебя, сестра Анна, что ты написала мне об этом монастыре. Со вчерашнего дня, с тех пор как я приехала, сёстры выказали мне много вниманья. Сама Шумская приняла меня так приветливо, что мне кажется, я нигде не могла бы найти лучшего пристанища.
– Сожалею, что ты искала пристанища, отдельного от родной семьи! – с упрёком проговорила Анна.
– Оставим это, Анна. Ты не можешь понять, какое стремленье всесильно влечёт меня к этой новой жизни. Для меня нет другой жизни, не может быть другой семьи. Не возражай мне и не огорчай меня. Оставь мне мою жизнь, как я оставляю тебе твою. Простимся пока. Посети меня, когда я устроюсь и буду жить в своей келье; тогда мы можем больше сообщить друг другу, и ты расскажешь мне о своих семейных обстоятельствах. Быть может, мне нужна будет твоя помощь, чтоб приготовить рясу и покрывала.
Анна не слушала Ольгу; ещё при слове «келья» она закрыла лицо платком и плакала, тихо всхлипывая, удерживая рыданья, чтоб не привлечь к себе любопытство присутствовавших здесь лиц, кроме неё и Ольги. Эта небольшая приёмная составляла род сеней при помещении игуменьи; на узких, белых деревянных скамьях, тянувшихся вдоль стен, сидели монахини и приходившие навестить их родственники или знакомые, нуждавшиеся в их помощи.
Все смотрели теперь в их сторону; Ольга встала, недовольная волнением сестры; она желала, чтоб безмятежное спокойствие было вокруг неё.
– Простимся, сестра Анна, – сказала она, слегка приложив свои губы ко лбу сестры. – Прошу тебя, не разговаривай ни с кем обо мне, не упоминай нигде моего имени, если ты желаешь мне душевного покоя, пусть никто не знает о моём существовании. Мы увидимся после.
С этими словами Ольга обеими руками придержала Анну, не давая ей встать со скамьи, встала сама и быстро вошла в ближайшую дверь, которая вела в комнату игуменьи; Анне нельзя было следовать за нею без особого приглашения. Она осталась на скамье, всё ещё вытирая глаза, полные слёз, и собираясь с силами, чтоб выйти из приёмной и просить свой экипаж.
– Позвольте мне помочь вам, проводить вас до вашего экипажа, наша обязанность помогать страдающим… – так говорила старая монахиня с желтоватым лицом с длинными высохшими чертами.
Анна пошла за нею, расстроенная, ни на кого не глядя и не слушая утешения старой монахини, похожей на восковую фигуру своими неподвижными глазами и жёлтыми худыми руками.
– Придёт день для каждого человека, когда наступит час страдания его… – говорила монахиня, идя с ней рядом, – и тогда надо покориться Господу!
Мрачно и тоскливо раздавались слова эти над ухом Анны. Выйдя из сеней, украшенных деревянной резьбой и изображениями святых, перед которыми в тёмных уголках вспыхивал синеватый огонёк лампадки, Анна очутилась на крыльце, освещённом ярким солнечным блеском. Когда она возвращалась домой и карета, запряжённая прекрасной парой серых сильных лошадей, уносила её от монастыря в шумные улицы города, ей казалось, что она уезжала с похорон, где она оставила навсегда дорогое, близкое ей существо.
Муж Анны, генерал Глыбин, встревожился, когда она вернулась домой заплаканная.
– Где ты была так долго, Анна? – спросил он с испугом. – Не сообщил ли кто-нибудь тебе дурных вестей?..
Вопрос этот уже часто приходилось Анне выслушивать от мужа, так что она начинала удивляться и сердиться этому вопросу.
– Ты, друг мой, всегда спрашиваешь у меня одно и то же! Каких же вестей ты ожидаешь? И от кого ещё? Не довольно ли мне уже одного горя, что я должна… расстаться с сестрою! Я была у неё, в Смольном монастыре.
– Ну успокойся, это горе уляжется, мы привыкнем к нему! Пойдём к нашей маленькой девочке. – И добрейший генерал старался увести негодующую супругу свою к дверям детской, как он всегда делал, чтобы развлечь её.
Пока Анна действительно развлекалась и успокаивалась, глядя на маленькую дочь, в детской, генерал неспокойно расхаживал по большому залу своего дома с полами блестящего паркета, украшенного мозаичными рисунками из чёрного дуба и перламутра. Лоб его был наморщен, губы крепко сжаты, и он, видимо, работал над какою-то мыслию.
– Надобно же будет наконец сказать ей когда-нибудь, – говорил он тихо, – это необходимо, и чем скорей, тем лучше. Сегодня же, кстати, уж она плачет; или на днях всё скажу ей; хуже, если эти вести дойдут к ней от других! – И генерал терял свою храбрость, свойственную ему во всех других случаях, при мысли, что жена может услышать от кого-нибудь тревожившие его вести.
Но какого же рода были вести, которые так тревожили храброго генерала? Дело в том, что, не имея огромного богатства, генерал несколько лет увлекался общим обычаем и желанием угодить молодой жене и вёл дом на роскошную ногу, гоняясь за другими. Состояние его не выдержало, всё покачнулось, он был в долгах и тщательно скрывал всё это от жены. Но скрывать дальше было уже невозможно. Поддерживать прежние связи при дворе, разъезжать в каретах четвернёю цугом, давать балы было уже невозможно. Доходов и именья недоставало, долги росли. Для поправления дел оставалось общее тогда всем средство: проситься в отпуск для того, чтобы поселиться в деревне, бывшей у генерала в Тульской губернии, где до сей поры хозяйничала в его отсутствие его тётка. Но как было приступить к жене с таким предложением? Ведь ей и в голову не приходило, чтобы у них когда-нибудь недостало денег на все их траты. Вот над чем задумывался генерал, бегая взад и вперёд по комнате. Но он не терял надежды, что с её умом Анна скоро поймёт их положение и сумеет приноровиться к нему. Страшно было только первое объяснение и первое время перехода от ненужной роскоши к более скромной семейной жизни, которою они могли довольствоваться. Каждый день почти приготовлялся генерал приступить к этому объяснению с женою, между тем проходили месяцы и годы, и приближался уже роковой год для России, год войны с Пруссиею. Анна грустно проводила эту зиму; с одной стороны, её томили свиданья с сестрою, с другой стороны, её удивляла задумчивость её мужа и загадочность его распоряжений. Он часто сердился на прислугу и отпустил, рассчитав, большую часть её под видом их негодности. Он уверял Анну, что любимые лошади её испортились и получили привычку пугаться, причём едва уже не разбили карету при его последнем выезде без неё. Он заявил даже, что продаёт эту прекрасную четвёрку серых и не заведёт других лошадей, а подождёт, пока ему не пришлют лошадей из деревни, от тётки. В марте генерал считал себя больным, хотя никто не замечал особенных признаков болезни в его внешнем виде. Однако он уже выхлопотал себе годовой отпуск за военную службу, собираясь ехать на излечение в деревню. В таком виде генерал представил сначала жене своей необходимость оставить Петербург и переселиться в деревню в Тульской губернии, принадлежавшую частью ему, а частью тётке его. Анна приняла эту весть довольно благоразумно. Жизнь её в Петербурге мало приносила ей удовольствия за последнее время. Балы и танцы начинали наскучивать ей. Свиданья с сестрой были редки и то проходили в том, что Ольга беседовала о суете и греховности жизни мирской и порицала всё, что занимало Анну. Анна смотрела на Ольгу, как на больную, впавшую в меланхолию, и боялась заразиться её взглядами на жизнь. «Право, она и на меня тоску нагоняет, и самой приходит мысль от всего отказаться, особенно теперь, когда при твоей болезни дома у нас невесело», – говорила Анна мужу. При таких обстоятельствах она почти обрадовалась, когда генерал предложил ей провести лето в деревне у тётки. Она надеялась, что это поможет здоровью мужа и здоровью ребёнка; девочка её часто болела от сырой весны в Петербурге. Она была искренно привязана к ребёнку и к мужу, несмотря на то что генерал, муж её, был почти вдвое старше её; в семейных привязанностях обнаруживалась лучшая сторона Анны, легкомысленной, но сердечной и мягкой. Она ценила его добрые качества и заботливость о ней.
– Когда же мы едем в деревню? – спросила она генерала, когда они сидели вдвоём за утренним чаем в своей уютной столовой.
– Тётушка вышлет нам лошадей в конце мая, недели через три; она же вышлет и денег на это путешествие; иначе… нам трудно будет справиться.
– Так у тебя недостаёт денег? – спросила удивлённая Анна.
– Надо сказать тебе всю правду, душа моя, что у нас уже давно большой недостаток в деньгах. В деревне были неурожаи, подошли плохие года, и другие были неудачи по хозяйству. Мы в последние годы так мало получали денег из деревни от тётки, что должны были войти в долги, чтоб не изменять свой образ жизни. Теперь я решаюсь признаться тебе, потому что я часто боялся, чтоб все эти вести не дошли до тебя стороною.
– Так вы лучше бы сделали, если бы давно сказали мне обо всём! – проговорила Анна с горячностью. – Я бы не тратила денег попусту, и давно мы могли уехать в деревню. Удивляюсь, что вы всё скрывали от меня! А я не могла придумать, что за причина тому, что вы давно ходите пасмурным! В какое положение вы меня ставили! Вы позволяли мне проматывать ваше состояние и не остановили меня хоть бы одним словом! Как обидно, что вы поступали со мной таким манером! Что же вы думали обо мне?..
– Тут нет ничего обидного, ровно ничего! – уговаривал генерал жену. – Молодость всегда любит повеселиться, неужели я должен был жалеть денег! Да и долог ли век наш? Я человек военный, нынче жив, завтра убьют меня в армии, – так стоило ли беречь деньги?..
– Нет, уже это не молодость причиною, это была бы глупость моя, проматывать ваше! Да и нечестно! – горячилась Анна, принимаясь плакать. – Мои деньги у отца не тронуты, возьмите моё приданое, заплатите долги…
– С какой стати буду я тратить ваше добро? Вы ещё так молоды, вам ещё долго жить впереди, – с чем же вы тогда останетесь? Я ваше берегу.
– А своё бросаете для меня! Что обо мне другие говорить будут! Что я безумная, что я трачу ваше состояние на свои прихоти! – Анна закончила свою горячую речь слезами и всхлипываньем.
Генерал зашагал по комнате, озадаченный, не зная, чем унять этот припадок женской слезливости. Недаром и боялся он этого объяснения, но и ожидал такого взрыва, – только, правда, он не ожидал, что взрыв этот будет выходить из других соображений и другого источника. Он вызван был деликатностью и честным чувством Анны, не желавшей пользоваться легкомысленно его имуществом; взрыв этот обнаружил её гордость и щекотливость в этом отношении. Это нравилось генералу, это была новая хорошая сторона в жене его; но всё же это кончилось слезами, которых он не любил, и он тем более жалел плачущую Анну, что уважал причину её слёз. Несколько раз пройдя по всему дому, измерив зал своими шагами, генерал направился обычным путём в детскую и вернулся оттуда с ребёнком на руках. Он не придумал ничего нового, – это было всегдашнее его оружие: «Анна! Возьми, пожалуйста, девочку; она потянулась ко мне на руки, а держать её я не умею! Кажется, и она собирается плакать…»
– Ты напрасно разбудил её, – сказала Анна, приостанавливая слёзы.
Муж между тем смотрел на неё пытливым взглядом своих мягких серых глаз, желая угадать, удастся ли на этот раз манёвр его? Кажется, он удаётся… Она уже начала говорить с ним на ты, это был признак миновавшей тучи: вот жена отёрла глаза платком и протянула руки к ребёнку.
– Возьми, возьми её! Славная девчонка какая! – говорил генерал, передавая ребёнка, краснощёкую девочку с густыми бровями отца.
– Славная девочка, – согласилась Анна, – а всё же глупо было скрывать и болеть! – прибавила она, уже примирённая.
– Так решено все; едем в деревню, покончив тут все дела! – заговорил генерал бодро. – Ну, прощай, пока, – прибавил он, целуя Анну в щёку. – Иду за отпуском в канцелярию.
– Я сегодня же буду укладывать вещи, – проговорила Анна, вставая и унося полусонного ребёнка.
Супруги разошлись примирённые на этот раз. Генерал ушёл с облегчённым сердцем, после исповеди. Он отправился взять свои бумаги в канцелярию Военной коллегии. Дорогой он обдумывал и о путешествии в дальнюю деревню, и как примется он поправлять хозяйство. Он думал и о том, нельзя ли будет после продлить свой отпуск ещё на год и более?..
Несколько недель прошло в сборах в далёкий путь, прощались с знакомыми и родными. Путешествия совершались так трудно в те времена и так медленно; они были так небезопасны, что, расставаясь на полгода, люди прощались друг с другом со слезами, будто им не суждено уже было свидеться. Даже Ольга прослезилась, прощаясь с Анной, надевая ей на шею маленький образ как напутственное благословение. Она сообщила Анне при расставании, что ей обещали выхлопотать позволение постричься через год или два ради её болезненного состояния. «Ты поймёшь, какая это радость для меня – не ждать этой церемонии целых десять лет!» – сказала при этом Ольга.
С пожеланием счастливого пути от всех родных и знакомых выехало семейство генерала Глыбина из Петербурга. Путешествие шло скучно и медленно, на своих лошадях, с отдыхами и кормлением. Единственным развлечением в дороге была для Анны их маленькая девочка; она начинала узнавать их и улыбаться. Старого генерала, привыкшего к долгим, скучным походам, не так томило это путешествие и дорога по однообразной лесистой местности между Москвой и Петербургом. В Москве они останавливались на одни сутки, они торопились в деревню, на место, и избегали лишних трат. Чем ближе подъезжали они к вотчине старого генерала, тем нетерпеливее желал он поскорей взглянуть на неё, на место, где он родился и провёл детство. Уже более десяти лет нога его не была в этом имении, которым тётка заведовала как старшая в роде из немногих оставшихся у него родных.
Все имения вокруг находились также в управлении женщин или очень престарелых отставных военных, не способных продолжать службу. Ещё находившийся в силе закон Петра I требовал, чтобы дворянин всю жизнь проводил на службе; дворяне поступали на службу в полк с самого раннего возраста и оставались до тех пор, пока позволяли силы и здоровье. Иногда в шестнадцатилетнем возрасте они получали отсрочку для окончания своего образования; случалось, что с десяти лет мальчик записывался на службу, находился в полку при отце и делал с ним все походы, возвращаясь к матери, если ему случалось потерять отца и осиротеть. В деревнях дети воспитывались у матерей очень незатейливо, да и трудно было приискать возможность к хорошему воспитанию и обучению по недостатку в знающих учителях. Грамоте учил их пономарь, находившийся при деревенской церкви. Ученье шло трудно, неуспешно; пономарь, желая подвинуть дело, лучшим средством считал не терять времени и держал детей за азбукою целый день, прибегая к розгам, если они позволяли себе оставить книгу, чтобы побегать немного около дома.
Иная семья отсылала сына своего к родным или соседям, заслышав, что у них в доме был учитель, немец или француз. Ребёнок оставался в чужом доме без присмотра; иногда он даже ничему не учился, привыкал к праздности, вырастая, шатался по околотку и проделывал всякие проказы, пока его похождения не доходили до слуха родителей. Хорошо, если родители находили случай пристроить избалованного сынка в Шляхетский корпус в Петербурге или в Школу Заиконо-Спасской академии в Москве. В провинциях ни школ, ни гимназий не существовало, кой-где учреждались духовные семинарии, в которые охотно помещали детей своих жившие по деревням дворяне. Учителей было мало и в столицах; и там появлялись учителя с старыми приёмами в преподавании, каждый учил по-своему, не имея правильной системы. Так трудно было найти средство к образованию, пользу которого начинали понимать как пользу практическую, помогающую в жизни; но не было, однако, заботы о нравственном развитии личности. В деревнях было безлюдно, всюду бросалась в глаза запустелость; в домах дворян оставались жёны с малыми детьми или престарелые родственники служивших на военной службе. На стариках этих лежала обязанность заботиться об имуществе и доставлять служащим средства к жизни в полку, добывая их трудами крестьян и своими хлопотами. Так тётка генерала Глыбина, госпожа Каверина, десять лет силилась хозяйничать и извлекать как можно более дохода из имения своего племянника – гвардейца, но в последние годы не достигала желанной цели. Она терпела постоянные неудачи: то неурожай, то кражи и поджоги, эпидемически распространившиеся по всему краю, так как везде бродили толпы беглых, проживавших в окрестности. Неудачи повлияли на характер госпожи Кавериной. Её письма к генералу были полны жалоб, она порицала и новые порядки, и всё на свете. Она жаловалась на мотовство племянника, которое замечала со времени его женитьбы, и приписывала это влиянию жены его, которая, по её мнению, по всей вероятности, была модница и ветреница. По этим письмам генерал наш предвидел, какие столкновения могли произойти в тихой деревенской жизни между его тёткой и женою; он уже дорогой приготовлял Анну к тому, какого рода взгляды и привычки она найдёт у его тётки, и старался внушить ей снисходительность к её выходкам, убеждая, что, при всей грубости их, они клонятся к тому, чтобы улучшить их состояние, и вытекают из желания им добра. Анне наскучила дорога, она рада была поскорей поселиться в деревне и готова была примириться со всеми слабостями тётки генерала; ведь уживалась же она с Афимьей Тимофеевной. Хотя это могло быть скучно, но зато все хозяйственные хлопоты не падали на Анну. Так раздумывала Анна, всё ближе подъезжая к деревне, видневшейся в полях, в стороне от дороги. Деревня разбросалась невдалеке от пруда, обсаженного ивами; позади усадьбы помещика виднелась густая зелень сада.
– Вот и поворот, – сказал генерал, – эти старые ивы нарочно насажены на повороте, чтобы легче было отыскать дорогу в метели. Помню, как в детстве я, бывало, взбирался на эти ивы, на самую верхушку, и сиживал там, поджидая отца или матушку, уехавших в гости к соседям! – Вспомнив родителей, генерал прослезился. Экипаж их подвигался между тем к дому.
Анна была приятно удивлена, когда на крыльце дома появилась хорошо одетая пожилая дама с образом в руках: на голове её надет был чепец с высокими украшениями, волосы приподняты на лбу, зачёсаны назад и напудрены, из-под пудры виднелась натуральная белизна седины. Тёмное шёлковое платье и большой платок составляли остальной наряд, вместо измятого ситцевого капота, который Анна думала увидеть на экономной деревенской хозяйке. Лицо, красное, с загрубелою кожей, было серьёзно, но несердито; губы госпожи Кавериной готовы были даже подёрнуться улыбкою, когда генерал поднёс к ней ребёнка, но она сдержала улыбку и чинно поднесла к нему образ; когда генерал приложился к образу, она обратилась с образом к Анне. Приложившись и приняв от тётки образ, Анна последовала за нею в дом. Он делился на две половины большими сенями, в которые они вошли прямо с крыльца. По одну сторону сеней вела дверь в гостиную и столовую, по другую сторону была дверь в комнаты тётки, и рядом с этою дверью была другая, немного отворенная, и сквозь неё виднелись две комнаты с окнами в сад. В конце сеней помещались кладовые, с тяжёлыми, висячими замками на засовах, которыми крепко припирались эти двери. Вот всё, что составляло дом зажиточного генерала и тётки его, помещицы того времени. Комнаты были оклеены бумажными обоями, очень пёстрыми, а иные были просто выбелены.
– Вот ваши комнаты, – указала тётка Анне на комнаты, видневшиеся из дверей; они были пусты, без всякой мебели и без занавесок на окнах; несколько простых стульев стояло около стен. Анна подумала тут же, что нетрудно будет убрать эти маленькие комнаты всем запасом ковров, занавесок и мебели, ехавшим при них в обозе из Петербурга.