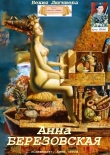Текст книги "Анна Герман"
Автор книги: Александр Жигарев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
А тут эта милая пани сказала: "интересное предложение..." Да еще где в Москве! Что она имела в виду? Просто жутко подумать – неужели они хотят записать с ней пластинку?! Как себя вести? Надо не выдавать волнения. Не показывать, что творится в душе.
Через день-два обе Анны встретились на улице Станкевича, где в глубине старого московского дворика расположена старая кирха, переоборудованная в студию грамзаписи. Все слова и чувства, которые Анна пыталась скрыть, вернее, прикрыть завесой равнодушия, неожиданно сами собой прорвались. Она заговорила быстро и невпопад:
– Ой, я так счастлива... Просто не верится... И за что...
– Я тоже счастлива, – ответила Качалина, – у вас редкий талант! – Она сказала это просто, естественно и вместе с тем как-то искренне и весомо, будто они говорили об обычных житейских делах. – Надо выбрать репертуар, установить тональность, я приглашу композиторов. Мне кажется, вам бы удался советский репертуар...
Если бы Анне всего несколько месяцев назад сказали, что она способна выдержать такую колоссальную нагрузку, она бы, пожалуй, не поверила. Концерты каждый день, а в субботу и в воскресенье – по два, при этом напряженная работа над репертуаром для пластинки с композиторами, оркестровщиком, звукорежиссером, редактором Анной Качалиной. Правда, Анна никак не могла назвать все это "работой". Это было вершиной счастья, которое не сравнишь ни с чем. Настоящая жизнь начиналась для нее с того самого момента, когда начинала звучать музыка... Ее раздражали интервью. Анну буквально осаждали журналисты, она отбивалась, как могла, жаловалась на усталость, говорила о том, что уже поделилась всем, чем могла, советовала обратиться к другим польским артистам...
Зато когда она приходила в студию, то чувствовала небывалое блаженство, чуть ли не физическое, призывала сама себя к благоразумию, уравновешенности. Она любила проводить свободное время с Качалиной и ее друзьями звукорежиссером Виктором Бабушкиным, превосходным мастером, тонко разбирающимся в музыке, с симпатичным застенчивым Борей Метальниковым, страстным знатоком и поклонником ее творчества. Борис работал продавцом в магазине "Грампластинки". Аню очаровала мать Качалиной – Людмила Ивановна женщина с удивительно живыми глазами и ясным, острым умом. Вообще от всего этого московского общества веяло какой-то удивительной чистотой, добродушием и доброжелательностью.
"Бездуховность"", "бездушие", "равнодушие". О, как боялась Анна этих слов и всего, что за ними кроется! Она уже достаточно насмотрелась на людей холодных, циничных, способных не только не заметить страданий окружающих, но и со спокойной совестью перешагнуть через дружбу во имя корыстных устремлений. А эти ее новые московские друзья просто любили искусство и жили им. После концерта они забирали Анну к себе, в небольшой старый дом на улице Герцена, где на столе – домашние пирожки с капустой, умело приготовленная селедочка, глядя на которую просто слюнки текут, крепкий, хорошо заваренный чай...
Почему сходятся люди, вчера не знавшие друг друга, а сегодня ставшие близкими, почти родными? В силу ли профессиональных интересов они нуждаются друг в друге? Или их притягивает схожесть характеров и интересов?
Анна понимала, что в Качалиной она нашла подругу, к которой можно прийти с самым сокровенным, глубоко личным. Барьеры, разделявшие еще вчера совершенно не знавших друг друга людей, рушились с удивительной быстротой. О чем бы они ни говорили – о музыке, творчестве, песне или о вещах житейских, обыденных, – им было интересно. Были записаны первые песни для будущей большой пластинки. Правда, работу над ней на время пришлось отложить: Анну Герман отзывали из Советского Союза в Польшу. В Министерстве культуры решили что в этом году она вновь должна петь в Сопоте.
Нынешний приезд в Сопот резко отличался от прошлогоднего. На вокзале (она приехала скорым из Варшавы) ее встречала целая делегация представители оргкомитета, журналисты. Кто-то подхватил ее чемоданчик, кто-то взял под руку и повел в направлении огромного черного "мерседеса". Ее поселили в "люксе" роскошной сопотской гостиницы, с двумя ваннами, тремя диванами и спальней, сплошь выложенной персидскими коврами. "Ax, – с грустью подумала Анна, – когда же у меня будет своя, пусть малюсенькая, но квартира?"
В Варшаве она пыталась дозвониться до Збышека, но телефон не отвечал. Из гостиницы она заказала Варшаву, даже телеграмму маме отправила и попыталась вздремнуть (в поезде спалось плохо). К тому же путешествие ранним рейсом из Москвы в Варшаву самолетом, а потом поездом в Сопот оказалось утомительным.
А через три часа ей позвонили и попросили спуститься вниз: надо ехать на репетицию. Ей сообщили, что Польшу будет также представлять Эва Де-марчик, по Аниному убеждению, певица очень сильная, темпераментная и, что самое главное, мыслящая. Эва впервые в послевоенной польской песне обратилась к лирической поэзии – начала исполнять песни и баллады на стихи Тувима, Галчинского, Броневского. Она не просто пела, она играла на сцене, создавая яркие драматические моноспектакли...
– Ты, конечно, будешь петь "Эвридики"? – галантно раскланявшись, спросил Люциан Кыдринский (и в этом году ему было поручено вести программу фестиваля).
Анна лишь улыбнулась в ответ. Конечно, "Эвридики" она любила, это была выстраданная ею песня. Но ведь надо обновлять репертуар, нельзя же оставаться исполнительницей одного-единственного музыкального произведения! В словах Кыдринского она почувствовала иронию, и хорошее настроение, которое, несмотря на усталость, сопутствовало ей, омрачилось. Что поделаешь, если среди десятка клавиров, которые больше года она добросовестно возит за собой из города в город, она не может отыскать ни одной песни, к которой бы у нее лежала душа? За которую хотелось бы бороться, отстаивать ее, как, скажем, это было с "Эвридиками"?
Всеобщее внимание в Сопоте было приковано к двум представительницам Польши – Эве Демарчик и Анне, по утверждениям прессы, бесконечно одаренным, непохожим по манере друг на друга певицам, способным удивить мир. От их выступлений организаторы фестиваля ждали многого.
Дело в том, что признанным звездам западной эстрады Сопотский фестиваль казался мелким – и с точки зрения престижности и с финансовой стороны. Зато десятки ловцов популярности – американских, английских, бельгийских, голландских, западногерманских певцов и певиц, кочующих из страны в страну, с одного конкурса на другой, бесталанных подражателей, – начинали задавать тон на эстраде "Лесной оперы". Они шумели, визжали, кричали на сцене, напяливали на себя немыслимые убранства, силясь не так, так эдак завоевать симпатии зрителей. И, надо сказать, немалого успеха достигали у дилетантов. Профессионалы же хмурились, высказывая справедливые упреки в адрес организаторов фестиваля. Те же в свою очередь отвечали: ничего не поделаешь, конкурс!
Певцы из социалистических стран отличались прекрасными вокальными данными, строгостью репертуара, хорошим вкусом. Но им не хватало легкости, изящества, артистизма, присущего знаменитым певцам Запада... Но вот даже наиболее осторожные в своих прогнозах журналисты начали писать о возможной сенсации в Сопоте: о массированном наступлении восточноевропейских исполнителей на "незыблемые" бастионы западной "поп-музыки"!
Однако опытные импресарио из США, ФРГ и Италии (а их было на фестивале трое) лишь посмеялись над подобными утверждениями. Смешно, дескать, мечтать о каком-то "наступлении". Да еще где – в Сопоте, чье реноме абсолютно не ценится в могущественном "шоу-бизнесе", при мизерных средствах пропаганды: фестиваль транслируется только по системе "Интервидения". Пластинки с записями выступлений участников фестиваля, которые довольно быстро выпускает фирма "Польске награня", отличаются разве что... крохотными тиражами да в придачу плохим качеством.
"Когда же я наконец научусь не волноваться? – с тоской подумала Анна (только что певицу предупредили, что следующий выход – ее). – Внешне все выглядит вроде бы вполне пристойно – воплощенное спокойствие и уверенность. А внутри? Дрожу как осиновый лист, голова словно в обруч закована, слова забыла... А сейчас Сопот, "Лесная опера" и, может быть, самое важное в моей жизни выступление".
Огромный зал рукоплещет, когда Анна появляется на сцене. Аплодисменты сбивают, хочется, чтобы как можно скорее заиграл оркестр и взметнулась дирижерская палочка. Анна видит краешком глаза Стефана Рахоня. Он, как всегда, спокоен, галантен, доброжелателен. Ободряюще кивает ей головой. И снова Анна рассказывает слушателям, до отказа заполнившим зал, прекрасную сказку о "Танцующих Эвридиках". Кажется, сегодня получится все. Оркестр звучит превосходно, и хочется как можно дольше быть на сцене. Как жаль, что на фестивале не разрешено бисировать – сегодня она пела бы еще и еще...
Поезд увозит Анну в Варшаву. Попутчики приветливо улыбаются ей, поздравляют с премией. Разные люди, не сговариваясь, подходят, говорят, что в этом году в Сопоте она была лучше всех. Да и вообще сейчас она лучшая польская певица. Подошел аккуратный старичок в старомодной соломенной шляпе, в пенсне и в накрахмаленной белой рубашке.
– Вы восхитительны! – воскликнул он. – Поверьте, Анна, мне довелось на своем веку повидать многих хороших певцов. Я счастлив, что слышал вас!
Что греха таить, приятно слышать такие слова от совершенно незнакомых людей, далеких от ее мира, в котором ей постоянно приходится вращаться. В Сопоте ее уже представили двум импресарио: один – низкорослый брюнет, прекрасно говорящий по-польски, Эндрю Джонс из США, другой – веснушчатый итальянец Пьетро Карриаджи.
– Браво, браво! – сказал американец. – Мы очень надеемся, что скоро увидим вас в Чикаго. Почему в Чикаго? Там живут пять миллионов поляков. Ваше пение доставит им удовольствие... Что же касается настоящих американцев, то перед ними вам выступать пока рановато. Славянскую манеру они не примут. Если хотите петь в Нью-Йорке, надо будет поработать и изменить репертуар.
Карриаджи ничего не предлагал, он долго и восторженно что-то твердил, целовал ее руки и постоянно хватался не то за сердце, не то за карман. Анна поблагодарила Джонса за приглашение, сказала, что она с удовольствием поедет и в Чикаго, и в другие американские города, где живут поляки. Но всеми зарубежными поездками занимается "Пагарт".
– О, я все это знаю! – улыбался американец. – Уверен, все будет о'кэй! – Но хотя Эндрю Джонс и улыбался и говорил донельзя вежливо, в его тоне чувствовались покровительственные интонации. Будто он не приглашал на гастроли, а делал одолжение.
xxx
Анна сразу заметила Збышека на перроне. Он тоже увидел ее и отчаянно замахал рукой, в которой был зажат крохотный букетик фиалок.
– Поздравляю! – Он поцеловал ее. – Я все видел по телевидению. Ты явно в ударе. Везде – на работе, в кафе, даже в пивных – только о тебе и говорят. И только в превосходных степенях!
– А ты что, часто бываешь в кафе и пивных? – улыбнулась Анна.
– Так ведь приходится как-то коротать время, когда тебя нет рядом, – в тон ей ответил инженер.
– Пани Герман, а большой у вас багаж? – справился носильщик.
Она отрицательно покачала головой.
– Видишь, тебя уже все знают! – обрадовался Збышек. – Наверное, трудно быть знаменитой?
"Знаменитой"!.. Это слово кольнуло ее.
Конечно, существует немалое число артистов, которые буквально упиваются своей славой, которые бывают счастливы, если на них оглядываются на улицах, выпрашивают автографы. Не то чтобы она осуждает такое тщеславие, но, во всяком случае, сама им не страдает. Сцена стала для нее любимой, но очень трудной работой, поглощающей всю ее без остатка. Здесь сразу видно, чего ты достигла, а что начинаешь терять. Была ли Анна довольна новой победой в Сопоте? Конечно же, была! Хотя по результатам ее обошла канадская певица умелая профессионалка, с отлично поставленным голосом. Но без изюминки, без своего творческого "я". Одна из многих у себя на родине. И первое место, присужденное ей жюри, было, скорее, как об этом говорили в кулуарах, стремлением оргкомитета придать Сопотскому конкурсу международное значение.
– Победительница – представительница Нового Света. Ну а тебе, Анна Герман, – сказал ей Люциан Кыдринский, – придется завоевать первые места в Италии и Канаде. Он усмехнулся чуть печально и добавил: – Как там говорят наши братья на Востоке? "Нет пророка в своем отечестве...".
Анна провела со Збышеком целый день в столице. Для нее был забронирован номер в гостинице "Бристоль" (его оплачивал "Пагарт": суточная стоимость номера как раз укладывалась в ее двухнедельный заработок). Они поехали в парк Лазенки, потом бродили по улочкам Старого Города, обедали в том самом ресторане, где она встретилась с Марком Бернесом. Вечером Збышек отвез ее в аэропорт Окенче. Вечерним рейсом Анна улетала в Москву...
И снова студия на улице Станкевича. Удивительно милая, доброжелательная обстановка. И снова пирожки с капустой в доме Качалиной, в короткий срок ставшей для нее почти родным человеком. С композитором Арно Бабаджаняном они встретились в студии. Он сыграл Анне свою новую песню на стихи Евгения Евтушенко "Не спеши". Правда, предупредил, что ее уже "сделал" Муслим Магомаев. Но, в принципе, это не важно. Женское исполнение будет ведь совсем другим.
Песня ей понравилась – и музыка и слова. Был в ней какой-то трогательный, грустный лиризм. Обидно, конечно, что ее исполнение не будет первым, но что поделаешь...
Каждой репетиции Анна ждала, как праздника. Конечно, если бы не концерты, которые отнимали много сил, записи могли бы стать более насыщенными, более яркими, но поневоле приходилось совмещать записи и концерты. Потом работу над пластинкой пришлось на некоторое время отложить: польских артистов ждали в других городах Союза. И если почти все ее товарищи не скрывали радости от мысли, что через несколько часов будут купаться в Черном море, то Анна прощалась с Москвой с затаенной грустью.
В поездке она особенно сблизилась с балериной Барбарой Битнерувной, в недавнем прошлом солисткой варшавского Большого театра, гордостью польского балета. Барбара до этого выступала несколько месяцев в Союзе, и в Москве ее подключили к их группе. Какими бы утомительными и долгими ни были переезды, как бы поздно ни заканчивались концерты, каждый день рано утром Барбара надевала черное трико и отправлялась на репетицию. Репетиция "до седьмого пота" продолжалась по четыре-пять часов. А ведь Барбаре далеко за сорок. Лицо у нее немолодое, сплошь изрезанное сетью морщин. Но фигура, движения почти девичьи, изящные, легкие.
Однажды (это было в Одессе) после концерта сквозь толпу зрителей, как всегда, карауливших ее у служебного входа, к Анне прорвалась пожилая женщина, совсем седая, с бледным усталым лицом. Анна сразу же обратила на нее внимание – внешне она резко отличалась от молодых зрителей. Женщина сжимала в руках картонную коробку, аккуратно перевязанную алой ленточкой.
– Это вам, – сказала она, протягивая коробку,
– Что это? – удивилась певица.
– Подарок за ваш голос, – произнесла женщина. – Ничего особенного: пластинки с нашими русскими песнями. Если какая понравится – может, споете. А нет – так просто послушаете. Тут мой адрес, – продолжала женщина, – если у вас найдется время, черкните пару слов...
Через несколько месяцев жительница Одессы Варвара Николаевна Плотникова получила письмо из Варшавы. "Дорогая Варвара Николаевна! – говорилось в нем. – Огромное Вам спасибо за Ваш подарок. Он оказался бесценным. Видно, Вы действительно любите песню, если сумели сохранить такие старые пластинки в хорошем состоянии. Правда, у меня было множество хлопот с проигрывателем. Где сейчас достанешь проигрыватель со скоростью 78? Но у меня множество кавалеров в Польше, и один кавалер, по имени Збьшек, притащил мне патефон... Я поставила самовар, завела патефон и... Ах, если бы Вы знали, сколько удовольствия я получила! Как хорошо, как искренне, как сердечно поют и Леонид Утесов, и Клавдия Шульженко! Знаете, мое детство прошло в Советском Союзе, далеко-далеко, в Средней Азии. И вот услышала я эти песни и как будто снова вернулась в детские годы, и сердце сжалось. Может быть, через какое-то время, когда я стану старше и, как принято говорить, "созрею", – я попытаюсь спеть все эти песни с позиции сегодняшнего дня, но очень бережно, чтобы не обидеть людей старшего возраста, которым эти песни, наверное, бесконечно дороги. Если мне посчастливится выступать снова в Одессе, обязательно увидимся.
Еще раз спасибо за подарок. Ваша Анна Герман".
Сколько было хлопот с этим патефоном} Збышек позаимствовал его у приятеля, который коллекционировал старые вещи – самовары, часы, фотоаппараты, – и привез во Вроцлав. Патефон долго не заводился, очевидно, как говорил Збышек, "сдохла" пружина. Он чертыхался, что-то разбирал, собирал, смазывал. И наконец послышалось шуршание. "Брестская улица на запад нас ведет, – запел хрипловатый голос Утесова, – значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога..." Потом – "Раскинулось море широко". А на следующей пластинке – "Ай да парень, паренек, с этим парнем выйдет толк!"
Мама с бабушкой оставили домашние дела и подсели ближе к патефону. Мама мечтательно и грустно улыбалась.
Анна вспоминала детские впечатления, одновременно подмечая индивидуальные оттенки исполнения, манеру, настрой песен, восхищаясь мастерством русских певцов. Клавдия Шульженко пела знаменитый "Синий платочек", незабываемые "Дороги", мужественно-лирическую песню-воспоминание "Где же вы теперь, друзья-однополчане...". Анна почувствовала, что у нее к глазам подступили слезы.
xxx
Когда Анна вернулась из Москвы, родные наперебой начали расспрашивать ее:
– Ну, как там, на родине? Как вас принимали, что видела, расскажи!
Как принимали? Принимали здорово! Пожалуй, даже незаслуженно здорово. Иногда делалось обидно, что она не в состоянии по-настоящему отблагодарить этих людей за их доброту и сердечность.
Что Анна видела? Да, в сущности, очень мало! Переезды из города в город, из одного концертного зала в другой, репетиции накануне выступлений, когда заранее знаешь, что тебя ждут. Две недели находиться в Москве – и только раз совершить двухчасовую экскурсию по городу, побывать в Третьяковской галерее, в Музее имени Пушкина!.. А все остальное время было занято работой. Как, наверное, слушателям смешно рассуждать со стороны! Подумаешь, песня! Продолжается всего-то две с половиной – три минуты... А сколько за этим кроется, не говоря уже о муках творчества, еще и чисто организационных дел, которых, к сожалению, многим даже очень талантливым исполнителям решить так и не удается,
Музыкальный редактор. Для людей, далеких от искусства, эта должность, название которой мелькает в титрах кинофильмов и телевизионных передач, вписано мелкими буквами в тексты конвертов к грампластинкам, кажется если не абстрактной, то, во всяком случае, малозначительной, "прикладной". Между тем от музыкального редактора, от его художественного вкуса, нравственных критериев, зависят и репертуар певца, и его творческое лицо...
Анна Качалина оказалась тем идеальным музыкальным редактором, который смог увидеть в молодой польской певице огромные потенциальные возможности, спустя несколько лет с таким блеском раскрывшиеся в интерпретациях песен советских авторов и русских старинных романсов.
Юлиана Кшивку Анна встретила в "Пагарте", когда приехала туда за иностранным паспортом. Он явно был в хорошем настроении, выглядел отлично, от него пахло дорогим французским одеколоном, глаза скрывались за цейсовскими стеклами.
– Как живешь, Анна? Вспоминаешь нас? – похлопывая певицу по плечу, говорил Кшивка. – Мы вот тоже не теряемся. Только что вернулись из ФРГ, через месяц едем в Швейцарию.
– Вспоминаю, и очень часто, – приветливо ответила Анна. – И не только вспоминаю, но и скучаю...
– А ты здесь какими судьбами? Читал, читал о твоих успехах в СССР. Опять туда?
– Увы, нет, – ответила Анна. – Совсем в другие края, в США
– Тогда почему же "увы"? Увидишь, как люди живут, заработаешь пару долларов. Возьми с собой польскую водку, фотоаппарат...
Анна прервала его:
– Пан Юлиан, ну какой из меня торговец! Вы же знаете...
– Эх, Анна, Анна... – Лицо Кшивки подернулось насмешливой печалью. – Не на земле ты живешь, а в облаках витаешь. Ты сейчас, именно сейчас должна сделать себе состояние. Через три-четыре года и захочешь, да не сделаешь. Ты сейчас на вершине – так пользуйся! – Он подумал. – А хочешь, я брошу все и стану твоим импресарио? Дай мне полную свободу действий – и через год мы будем в полном порядке! Пока все, что ты имеешь после Со-пота, – это ноль, зеро... Квартиры нет? – спросил он. – Нет. Зато, говоришь, Збышек есть? Эка невидаль! Смешно сказать! Звезда польской эстрады – в таком загоне...
– Пан Юлиан, зачем вы говорите со мной в таком тоне? Я вам благодарна за все, но это не дает вам права... – И уже совсем тихо она пробормотала: Я вполне довольна тем, что имею. Было бы здоровье.
Кшивка понял, что хватил лишку, и заговорил совсем по-другому:
– Ты пойми, Анна, я желаю тебе только счастья. Меня просто бесит, когда вижу, что те, кто твоего мизинца не стоят, берут от жизни все, а ты... – Он замолчал. – Короче говоря, я в любую минуту готов бросить все и стать твоим импресарио!
Анна очень не любила, когда разговор заходил о материальной стороне творчества. Выступления в СССР дали ей возможность отложить довольно значительную сумму. Но и этих денег было бы явно недостаточно, если бы дело коснулось таких серьезных трат, как, скажем, покупка кооперативной квартиры.
Поездка в Соединенные Штаты, казавшаяся такой заманчивой в финансовом отношении, вопроса все равно бы не решила. Польские артисты получали суточные, которых едва хватало на питание и небольшие сувениры. Правда, возможность пересечь океан на роскошном пассажирском лайнере "Стефан Баторий" предвещала несколько недель безмятежного отдыха и приятного времяпрепровождения среди коллег. "В сущности, – думала Анна, устраиваясь в комфортабельной каюте лайнера, – я ведь еще ни разу в жизни не отдыхала. Даже в университете в летние каникулы была практика. А уж как вступила на стезю служения музам, так закружило, понесло...".
Как бы угадав ее мысли, соседка по каюте, талантливая певица Катажина Бовери, быстро заговорила:
– Самое главное, Аня, в жизни – это отдых, витамины, здоровый сон, легкий флирт... Вот отоспимся здесь как следует и пустимся во все тяжкие! Она озорно подмигнула Анне, изо всех сил затискивая под койку огромный, неподъемный чемодан.
Анна не поняла, серьезно говорит Катажина или шутит. Но она была так рада предстоящему путешествию, что не обратила на эти слова никакого внимания.
Путешествие из Гданьска в Нью-Йорк действительно было и увлекательным и приятным. Если не считать трех дней морской болезни, когда почти все пассажиры лежали в лежку. Но и это прошло. Ярко светило солнце. А когда становилось нестерпимо жарко, можно было побарахтаться в бассейне. Прямо отдых миллионеров... Соседка по каюте действовала ей на нервы. Она говорила без умолку, посвящая Анну в свои бесчисленные приключения и задавая бесконечные вопросы: "А ты как думаешь?", "А ты как считаешь?"
Куда интереснее было проводить время с Люцианом Кыдринским. Это был человек знающий, эрудированный. Он сравнивал ее манеру исполнения с творческой манерой других певиц, которых она не знала, интересно рассказывал об их судьбах, взлетах и падениях. Ему нравилось рассказывать об одаренных, талантливых музыкантах, которых он знал лично. Он мог часами с восторгом говорить о Ханке Ордонувне, той самой, чью пластинку маленькая Аня слушала в родном Ургенче. О ее удали, бесшабашности, огромном даровании, о ее женственности, изяществе и самоотверженности.
В нью-йоркском порту их встретил Эндрю Джонс. Он бодро всем улыбался и без конца повторял свое жизнерадостно-безразличное "о'кэй". Когда все расселись в автобусе, Джонс снова торжественно приветствовал "польских друзей на территории Соединенных Штатов". И тут же перешел к делу:
– Все вы прекрасно знаете пословицу "время – деньги". В нашей стране она стала реальностью. Программа насыщенная. Вечером концерт. Ночью сон. В восемь утра переезд в следующий город. О финансовых условиях говорить не буду. Они оговорены в "Пагарте". Прошу сверить часы. Сейчас по нью-йоркскому времени пять часов. В девять у нас концерт для поляков Нью-Йорка.
Его короткую речь выслушали молча. Их разместили в маленькой грязной гостинице на окраине Нью-Йорка, с общей ванной, туалетом на этаже, "прекрасной" слышимостью, сразу напомнившей Анне ее поездки по польской провинции. Краем глаза она посмотрела на Катажину Бовери, пытавшуюся поднять свой тяжеленный чемодан, и невольно улыбнулась. Катажина была явно удручена. Хоть она и не бывала в США, но во время плавания на "Батории" с восторгом рассказывала о Штатах, о комфортабельных гостиницах, шикарных авто, исключительном сервисе...
От гостиницы до зала, где им предстояло выступать, два часа езды на автобусе. Они ехали по переполненным людьми и машинами нью-йоркским улицам, и Аня вдруг почувствовала себя ничтожной пылинкой в пустыне этого огромного, суетного, торопливого мира, подсвеченного сейчас ослепительной рекламой и мигающими огнями. То же, по всей очевидности, происходило и в душах ее товарищей.
На концерте атмосфера разрядилась. Их ждали! Сотни американизированных поляков, истосковавшихся по родине, неистово свистели, топали ногами, изо всех сил били в ладоши. Атмосфера в зале чем-то напомнила Анне московский "Эрмитаж": такая же доброжелательность, благодушие, готовность полюбить, понять. Но в отличие от Москвы разнузданность в поведении, вседозволенность эмоций. В середине песни в зрительном зале могли истошно завопить, попытаться запеть вместе с артистом. Как недавно в Москве, слушатели восторженно встретили "Эвридики". Поляки хлопали Анне, требовали петь еще и еще. На сцену летела мелочь. Несколько человек подбежали к краю сцены, протягивая певице зеленые долларовые купюры... Анна отрицательно мотала головой: "Нет, нет, что вы, что вы..." Зрители все равно тянули руки, размахивая ассигнациями как символом высшего одобрения.
Примерно так же в концерте "прошел" и певец из Варшавы Ежи Поломский, ровесник Анны. Людвик Семполинский, воспитатель целого поколения польских артистов, не особенно верил в Поломского: по его мнению, он был лишен природного дарования. Но Ежи оказался прилежным учеником. То, в чем отказала ему природа, он восполнял феноменальной работоспособностью, занятиями вокалом по пять-шесть часов в день, уроками у хореографа, отнимавшими не меньше времени, неустанным поиском своего репертуара.
Он быстро стал одним из кумиров эстрады. Оригинальная манера исполнения, бравшая истоки в польской песне конца 30-х годов – чуть сентиментальная, искренняя, эмоциональная, – снискала ему популярность не только в Польше, но и далеко за ее пределами. Что бы ни пел Поломский "Пусть только расцветет белая черемуха", "С девушками никогда неизвестно, хорошо или плохо" или советскую "Три года ты мне снилась", – во всем ощущались разносторонность дарования, актерское мастерство.
Поломский много ездил по миру, ему предлагали участвовать в шоу-программах в модных ресторанах Лас-Вегаса. Ежи решительно отвергал эти предложения, заявляя импресарио, что в тот момент, когда он споет на потребу жующим и пьющим, он кончится как певец...
Спустя полтора месяца, уже на родине, Анна отчаянно пыталась вспомнить, что же ей больше всего запомнилось в Америке. Там она постоянно чувствовала усталость: от резкой ли перемены климата и часовых поясов или от бесконечных переездов из города в город. Импресарио не давал им ни сна, ни отдыха. Внешне он всегда выглядел веселым и добродушным. Но в нем чувствовалась какая-то нервозность, напряженность, которые в любой момент могли выплеснуться наружу. Его преследовал панический страх опозданий. И он тормошил артистов, поглядывая на часы, бранил шофера, если их автобус обгоняли. Артисты заразились этой изматывающей нервозностью, и даже время отдыха казалось им непозволительной роскошью. Америку они видели преимущественно из окна автомобиля – Америку, бешено суетящуюся, вечно мчавшуюся куда-то и, как показалось Анне, однообразную и заземленно-прозаичную по сравнению с Европой.
Их концерты шли с успехом. Американцы польского происхождения настолько неистово аплодировали, что порой создавалось впечатление, будто их волнует не столько искусство, сколько возможность услышать польскую речь из уст поляков, живущих "там".
После концертов десятки зрителей пробирались за кулисы, приглашали артистов отужинать вместе, вспомнить родину. Однажды Анна согласилась и потом очень жалела. Ужин получился утомительным, сентиментальным, каким-то даже унизительным. Ее собеседники – седенький старичок, эмигрировавший из Европы после окончания войны, и его спутница, Анина ровесница, американка польского происхождения, говорившая по-польски с сильным акцентом, поначалу долго расспрашивали о Варшаве и Кракове (Анне казалось, что вот-вот они расплачутся). А потом как-то забыли о родине, и началась обычная похвальба американским благоденствием. При этом старичок, стараясь заглянуть ей в глаза, прилипчиво выспрашивал: "А что вы имеете? А какая у вас квартира?" Ей вдруг захотелось их подразнить:
– Шикарная! Вилла на Маршалковской, с окнами на Вислу. Сейчас строим подземный гараж!
Граждане США заметно стушевались, разговор увял, и они судорожно старались придумать, чем бы еще поразить в самое сердце певицу из коммунистической Польши.
Однажды после концерта Эндрю Джонс пригласил Анну на ужин. Это показалось ей странным: за две недели их странствий по Америке менеджер никого никуда не приглашал. В обеденное время он неизменно куда-то испарялся, никто его не видел и во время совместных ужинов после концертов. Анна сначала отказалась. Она чувствовала себя измученной после семичасового переезда на автобусе и двух концертов. Джонс настаивал, уверяя, что действует в ее же интересах. Когда они спустились в гостиничный бар, Эндрю представил ее моложавому, коротко подстриженному человеку в темных очках.
– Майкл, тоже Джонс, – представил его Эндрю, – по-польски не говорит: он ирландского происхождения. Зато Майкл – большой знаток искусства. Он был на концерте и считает, что у вас все задатки стать звездой в Америке.
– Я польщена, – растерянно ответила Анна.