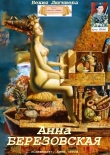Текст книги "Анна Герман"
Автор книги: Александр Жигарев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Что бы было. Анна не услышала, и трудно было догадаться, шутит он или говорит серьезно.
– И все-таки, пан Юлиан, – сказала Анна, когда они вернулись к столику, – это еще не "мой" Сопот. Не сочтите меня излишне самоуверенной, но я чувствую, что могу выступать лучше. Вот если бы "Танцующие Эвридики"...
Пан Юлиан не отвечал, он лишь безмятежно и счастливо улыбался.
xxx
Оформление документов в связи с поездкой в Италию заняло несколько месяцев. За это время как будто ничего не изменилось. По-прежнему автобус колесил по провинциальным городкам и поселкам. Дома Анну практически не видели. Несколько раз она приезжала в Варшаву по вызову Министерства культуры и неизменно навещала пани Янину в консерватории с тайной надеждой хоть часик посидеть с ней у рояля.
Кшивка без лишних слов отпускал Анну в Варшаву, хотя концерт от этого сильно страдал. Во-первых, у Анны не было замены, а во-вторых, многие зрители, прослышавшие про талантливую певицу, шли на концерт специально, чтобы послушать Анну Герман. Когда она не участвовала в концерте, возникали недоразумения: молодые слушатели стучали ногами, свистели, не желали расходиться. Трудно сказать, когда впервые ощутила Анна отчужденность некоторых артистов из их труппы – своей ровесницы, миловидной блондинки Анели Капусник и мужа Анели, лысеющего пианиста Анджея, во всем потакающего своей супруге. Однажды, когда после концерта Анна задержалась в гардеробе (никак не могла найти туфли, случайно застрявшие в проеме между зеркалом и шкафом), в автобусе в присутствии всех артистов Анеля грубо набросилась на нее.
– Нам теперь все можно, – визгливо, как на базаре, тараторила она, – мы теперь гастролерши, лауреаты, мы теперь по Италиям ездим, плевать нам теперь на товарищей, пусть мерзнут в автобусе.
– Ну что ты говоришь, Анеля, – пыталась оправдаться Анна, – просто я никак не могла найти туфли, прошу всех меня извинить.
Теперь после концертов она старалась как можно быстрее собраться, чтобы, упаси бог, ее не смогли упрекнуть в зазнайстве. Но Анеля и ее муж не давали Анне проходу.
– С какой стати, – шумела Анеля накануне очередной поездки Анны в Варшаву, – мы должны здесь за нее отдуваться, трястись в этой чертовой колымаге, а она в Варшаве будет распивать кофе! Это она только с виду тихоня. Знаем мы таких тихонь!
От этого откровенного хамства Анна растерялась и, с трудом сдерживая навернувшиеся на глаза слезы, обращаясь к Кшивке, сказала:
– Больше никогда не буду отпрашиваться. И в Италию не поеду!
Потом Кшивка долго утешал ее, гладил по голове, шутил, убеждал не обращать внимания на зависть и хамство, потому что, увы, живем мы не в безвоздушном пространстве, а люди, как известно, разные. И, к сожалению, среди них есть непорядочные, желчные, завистливые. Рецепт один – не обращать внимания, а продолжать назло им работать, идти к успеху... "А от зависти, лукаво намекнул Кшивка, – люди, как известно, умирают".
Но Ане совсем не хотелось добиваться успеха кому-нибудь назло. Она никак не могла понять: почему одно только ее появление вызывает у Анели раздражение и озлобленность?.. Перед отъездом в Рим она предприняла попытку помириться с Анелей, устроив прощальную пирушку в кафе.
– Вот увидишь, в следующий раз обязательно поедешь ты, – убеждала Анелю, как будто пытаясь перед ней оправдаться, Анна. – Скажи, что тебе привезти из Италии? Я обязательно привезу...
К тому моменту Анеля уже достаточно выпила и смотрела на Анну исподлобья мрачными стеклянными глазами.
– Есть у меня один грех, – положив руку на Анино плечо, принялась исповедоваться она, – не люблю я тебя, ох, не люблю. Ничего мне от тебя не надо! – И добавила после короткой паузы: – Катись ты к черту!
Анна в ту ночь не могла сомкнуть глаз. Все – и успехи на столичной сцене и сказочная, как представлялось многим, поездка в Италию, – все это казалось ей ничем по сравнению с ненавистью партнерши по сцене, ее откровенной наглостью, перед которой отступали, рушились, как карточные домики, многие Анины представления о жизни, отношениях между людьми в искусстве...
Анне начало казаться, что Анеля ее сглазила, – все чаще кружилась голова, сдавливало виски, по телу пробегал озноб... Один знакомый отвез ее к известному профессору. Профессор внимательно осмотрел Анну.
– Ничего страшного, – успокоил он Анну, – обычная болезнь молодости: не щадите себя, переутомляетесь, давление очень низкое – семьдесят на пятьдесят. Ну куда это годится? Кофе пьете? – поинтересовался профессор.
– Очень редко. Иногда по утрам, с молоком. От кофе начинает сильно биться сердце...
– Постарайтесь достать советское лекарство пантокрин, очень эффективное. Побольше гуляйте, – посоветовал на прощание профессор. Думайте о хорошем. Вы же певица... Должны веселить людей – это ваша профессия, как моя – лечить. Так постарайтесь веселиться и сами... Положительные эмоции! – Он поднял палец и в первый раз улыбнулся. Положительные эмоции – это посильнее, чем пантокрин...
Когда Анна садилась в самолет, в варшавском аэропорту Окенче дул сильный ветер, февральская метель слепила глаза, морозила щеки. А в Риме было солнечно, по-весеннему зеленела трава на летном поле, весело щебетали птицы. В Риме она уже однажды была – три года назад, в составе студенческой делегации. Но эта недельная поездка ей мало запомнилась – она проходила в ураганном темпе, из одного музея в другой, от одной дискуссии к другой. Теперь у нее появилась счастливая возможность брать уроки пения у непревзойденных мастеров эстрадного жанра – итальянцев.
В самолете она познакомилась со своей ровесницей Ханной Гжещик из Люблина – реставратором произведений искусства, тоже едущей в Италию по стипендии Министерства культуры. Ханна была живой, энергичной, доброжелательной молодой женщиной, открытой, разговорчивой, но ненавязчивой и тактичной. Они как-то сразу сблизились. Может, потому, что обе чувствовали себя одиноко на чужой земле.
Их никто не встречал. К тому же официальных представителей, которые помогли бы им снять комнату в Риме, на месте не оказалось. Наконец им повезло. К концу рабочего дня явился разговорчивый, веселый молодой человек. Он посадил женщин в маленький, пропахший бензином "фиат" и отвез в каменный двухэтажный дом на шумной виа Кавур. Хозяйка квартир синьора Бианка оказалась приветливой, милой дамой. Она накормила двух голодных иностранок спагетти и, попросив деньги за две недели вперед, пожелала им спокойной ночи и удалилась.
Ох уж эти деньги в Италии! Нет, и на родине ничего не давали бесплатно. Но уже в первые часы самостоятельной жизни за границей они почувствовали, что само понятие "деньги" окружено здесь какой-то магической, не совсем понятной им силой.
Синьора Бианка (Анна и Ханка с трудом понимали по-итальянски) только и говорила о деньгах. С ними было связано ее личное счастье, счастье ее детей. Сын ее, парикмахер, собирался в ближайшее время отправиться в США, где хорошие знакомые подыскали ему хорошо оплачиваемую работу, связанную со стрижкой породистых собак.
– Ах, наконец-то, – патетически восклицала синьора Бианка, – у этого мошенника будут деньги и он не будет обирать родную мать. Ему совершенно наплевать на меня, на сестру, он готов послать нас на паперть, лишь бы у него были деньги на пьянство с такими же оболтусами, как он!
На два месяца Анна получила шестьдесят тысяч лир; этих денег едва хватило, чтобы заплатить за квартиру да купить пару теплых носков, так как квартира не отапливалась и ночью квартирантки тряслись от холода. Об уроках пения не могло быть и речи. Как оказалось, за них тоже надо было платить, и когда Анна услышала об этом из уст Карло Бальди, ответственного чиновника "Радио Итальяна", она просто рассмеялась. Карло Бальди удивленно посмотрел на нее сквозь очки, потом произнес скороговоркой:
– Да-да, как же, понимаю... У вас, конечно, нет денег. Сочувствую. У меня их тоже нет. У Доменико Модуньо, который был здесь перед вами, их тоже нет. Денег нет ни у кого. А все живут. Вертятся. Обедают в дорогих ресторанах. Ездят на такси... Хотите знать? – вдруг сменив официальный тон на доверительный, почти шепотом продолжал он. – Деньги есть у тех, кто не обедает в дорогих ресторанах, кто не ездит в такси, кто всю жизнь копит на черный день... И черный день у них такой же черный, как и вся жизнь!
Протирая очки розовым платком, он продолжал:
– Я не верю, что у вас нет денег. Вы, конечно, провели за нос таможенников, и наших и своих. Что вы сюда привезли? Икру? Русские иконы? Так раскошеливайтесь! Я познакомлю вас с прекрасным педагогом, будете петь, как Аделина Патти. А через год все вернется к вам в десятикратном размере, только научитесь платить.
– Но у меня действительно нет денег, – пыталась объяснить Аня.
– Ах нет? Что ж, тогда любуйтесь красотами Италии! Надеюсь, на музеи-то у вас хватит? Гуляйте, дышите свежим воздухом, ешьте апельсины. Вон вы какая бледная. Кстати, почем продаете черную икру?
– Вы меня оскорбляете!
– И не думаю! – смеясь, возразил синьор Бальди. – Не оскорбляю, а шучу. У нас, знаете, здесь все шутят. Итальянцы вообще шутники.
Потом, по-видимому, поняв, что он несколько переборщил, синьор Бальди предложил Анне чашечку кофе и сам вызвался провести ее по студиям Итальянского радио. В студиях кипела работа. Шли записи песен. В помещении звукорежиссера стоял такой шум и гвалт, что Анне показалось совершенно невозможным работать в такой обстановке. Певец кричал на звукорежиссера, звукорежиссер – на певца. На них обоих кричал маленький человечек, указывая пальцами на ноты.
– Я же вам говорил, – хитро улыбаясь, кивал головой Карло Бальди, итальянцы народ веселый, шутники... Вот походите к нам на радио еще, в этом совсем убедитесь.
Увы, убеждаться в этом Анне больше не пришлось. Когда на следующий день она приехала к зданию радиостанции, оно было окружено полицией. Началась забастовка работников радио и телевидения, требующих повышения заработной платы. И как долго продлится эта забастовка, никто, разумеется, не знал. Она вернулась на виа Кавур. Там ее ждала приятная неожиданность. Знакомый поляк, работник Министерства внешней торговли, привез ей от мамы из Вроцлава продовольственную посылку. В ней оказались домашние пирожки с капустой, мясные консервы, клубничный компот.
– Синьора Бианка, – пригласила Анна, – присоединяйтесь, сегодня Польша угощает Италию.
Синьора Бианка ела с аппетитом, время от времени порицая западную пропаганду за недобросовестность.
– Знаешь, – сказала Анна Ханке в этот вечер, – я, пожалуй, завтра куплю билет на самолет и вернусь домой.
Ханка внимательно посмотрела на нее.
– Почему? Потому, что на радио забастовка? Или потому, что ты не можешь брать уроки пения? А ты думаешь, мной кто-нибудь занимается? Я тоже здесь никому не нужна. Ты пойми, Анна: мы с тобой не просто за границей. Мы с тобой в музее. Нам посчастливилось в этот музей попасть – и это одна из самых больших радостей в жизни. Так давай обойдем его, сохраним в своей памяти хотя бы частичку прекрасного!
Они вставали рано, пили горячее молоко, съедали по бутерброду и отправлялись в город. Иногда Анне казалось, что уже больше нет сил осматривать древние храмы, художественные галереи, гениальные творения зодчих. Сколько впечатлений! А Ханка все вела и вела ее за собой! Как опытный гид, она в деталях рассказывала ей об исторических памятниках, которые сама видела впервые. Анне уже начало представляться, что ее профессия эстрадной певицы – нереальна, что она осталась где-то там, в Польше, далеко-далеко. И что теперь смысл ее жизни – в познании истории человечества, его поступательного пути к цивилизации.
За два дня до отъезда рано утром раздался телефонный звонок. Звонил Карло Бальди.
– Синьора Анна, – раздался его торжественный голос в трубке, – я приглашаю вас отужинать со мной вечером.
– Как же так, синьор Карло, – съязвила неожиданно Анна, – ведь ужин стоит денег, а деньги...
На той стороне провода рассмеялись.
– Э, синьора, так ничего и не поняли! Деньги существуют для удовольствия, для того, чтобы их тратить...
Он повез ее в пригород Рима, типичный итальянский ресторанчик с острой кухней и неаполитанским оркестром.
– Извините, – оправдывался он, – что я уделил вам так мало времени. Впрочем, сами видите, забастовка... Ну ничего, когда вы приедете сюда снова...
– О, – перебила его Анна, – да вы фантазер! Два раза по стипендии не присылают. А петь меня, как Аделина Патти, вы не научили.
– А вы почему не привезли икру? – засмеялся Бальди.
Вскоре он перешел на "ты":
– Ты себе не представляешь, какая у меня трудная работа! Я почти не бываю дома. Ты думаешь, иметь голос – это все? Кстати, я ведь ни разу не слышал, как ты поешь. Ну да ладно: все славяне поют плохо!
На сей раз Анна не обиделась, ее забавлял Бальди.
– Больше всего в жизни, – терзая воротник, ныл он, – я ненавижу песни! Не могу их слышать... Ненавижу певцов и певиц: чопорных, надутых идиотов, они делают вид, будто их волнует искусство. Ха, их волнуют "мани"!
И он пустился в рассуждения о жалком тщеславии, фантастической жадности и патологической лени, присущих, по его глубокому убеждению, большинству эстрадных звезд. Приводя примеры из жизни знакомых артистов, он всякий раз полушепотом вставлял: "Но это между нами!"
На следующий день она проснулась поздно. Ханка не рискнула ее будить и одна отправилась в собор святого Марка. В соседней комнате что-то напевала синьора Бианка.
"Вот и подходят к концу мои римские каникулы, – подумала Анна. Конечно, здорово было побывать в Риме, столько увидеть! Но в отчете надо обязательно указать, что с профессиональной точки зрения такие поездки бессмысленны, с туристической – очень полезны".
В Варшаве прямо с аэродрома она поехала по комиссионкам покупать "итальянские сувениры". Купила (втридорога заплатив) модные темные очки для Анели (Анна на мгновение представила Анелю в этих очках и машинально вздрогнула, будто ощутила на себе ее колючий взгляд). Маме – чулки (для бабушки везла репродукцию картины Рембрандта), Кшивке – бутылку настоящего итальянского вермута. В паспортном отделе Министерства культуры ей передали телеграмму: "Бона сера, синьорита, ждем в Жешуве. Кшивка". И от шутливого текста телеграммы, и от того, что о ней думают и ждут, Анне сделалось удивительно легко и весело. Она вдруг поняла, чего ей так не хватало в огромном просторном Риме. Не хватало "мелочи" – занятости, постоянного эмоционального подъема, в котором она находилась с тех пор, когда первый раз вышла на сцену.
И снова все завертелось, закрутилось в привычном ритме. Переезды из одного местечка в другое, переполненные залы домов культуры, домов офицеров, провинциальных театров. Теперь она пела еще более уверенно, с подъемом, легко и непринужденно, будто она действительно брала уроки музыки у прославленных итальянских маэстро.
Однажды Анна попробовала спеть в концерте песню "Танцующие Эвридики", которую несколько месяцев назад ей показала Катажина Гертнер. Успех превзошел все ожидания! Анну долго не отпускали со сцены, она кланялась, посылала воздушные поцелуи зрителям, пыталась уйти, но аплодисменты не затихали. Такое в ее творческой биографии случилось впервые, обычно новые песни проходили почти не замеченными публикой. Тут же ей пришлось петь несколько раз. Она видела, как с левой стороны, из-за кулис, на нее смотрят глаза ее товарищей – удивленные, доброжелательные, восторженные.
Прошло еще несколько месяцев, Не было ни выходных, ни просто свободных часов. С матерью и бабушкой удавалось повидаться лишь на считанные минуты. И снова в автобус. И снова дорога к очередной "базе". Правда, иногда на имя Юлиана Кшивки приходили телеграммы из вышестоящих концертных организаций. Анну приглашали одну на ответственный концерт в Варшаву или Катовице. Кшивка громко ругался, теребил телеграмму:
– Что они, не понимают, что у нас спектакль и что у нас нет второго состава?.. – Потом замолкал и спустя несколько секунд добавлял: – Ладно, постарайся вернуться поскорее.
Сама Анна тоже была не в восторге от этих приглашений. Дальние переезды, выступления почти без репетиций с новыми музыкантами... В каждое свое выступление она обязательно включала "Танцующие Эвридики". И не только потому, что эта песня особенно нравилась и ей самой и публике. Анне казалось, что она сама еще недостаточно сумела раскрыть эту песню, ее романтику и музыкальную глубину.
Теперь композиторы – и молодые и именитые – сами разыскивали Анну, звонили ей, приезжали в гостиницу или на концерты, чтобы показать ей новые произведения. Но Анне мало что нравилось. В концертах она по-прежнему пела "чужие" шлягеры. Разве что "Эвридики" она считала "своей" песней. В музыке ее привлекала романтика, щемящая грусть. Песни же, которые ей показывали, были напрочь лишены этого. Некоторые мелодии казались красивыми, но все портили слова: примитивные, однообразные, лишенные мысли.
Поначалу Анна больше всего боялась обидеть композитора, отказать ему. Конечно, не из-за страха обрести врага! Ведь, что ни говори, каждая песня (плохая она или хорошая) – результат труда. Принимая песню, она обрекала себя на постоянное "внимание" со стороны авторов, которое выражалось в нетерпеливых телефонных звонках среди ночи, утомительных расспросах: "Когда же наконец состоится премьера?" В конце концов она научилась объяснять напрямую, усвоив простую истину: нельзя быть "доброй для всех".
Пожалуй, только встречи с Катажиной Гертнер приносили ей радость, В жизни Катажина казалась несколько шумной, сумбурной, иногда смешной. Она не умела слушать, зато сама тараторила без остановки, перескакивала с мысли на мысль, загоралась от только что высказанной идеи, а через несколько минут "потухала" и словно бы забывала обо всем...
– Слушай, какой я "хит" написала! – говорила Катажина, с шумом усаживаясь на стул у рояля. Она долго пыталась отыскать среди вороха бумаг в своем видавшем виды портфеле нужные ноты и текст. Безнадежно махала рукой и начинала играть на память. Анна смотрела на нее широко раскрытыми глазами, ощущая какое-то магическое притяжение к музыке Гертнер – экспрессивной, очень современной по ритму и вместе с тем с ярко выраженной мелодией.
– Эту песню дашь мне, только мне, обещаешь? – тихо спрашивала Анна.
– Только тебе! – твердо заявляла Катажина, наигрывая мотив уже совершенно другого произведения. Анна искренне удивилась, когда несколько дней спустя услышала одну из новых песен Катажины, написанную, как заверяла Гертнер, "специально" для Ани, по телевидению в исполнении одной известной певицы.
"Все-таки Катажина ужасно рассеянная", – подумала Аня.
Она перестала репетировать услышанную по телевидению песню и принялась за другую, тоже, как утверждала Катажина, написанную для Анны. И эту песню через несколько дней услышала Анна, правда не по телевидению, а в концерте ее исполняла та же именитая певица. Нет, не обида родилась в душе Анны. Скорее, это была досада на саму себя, на свою "несостоятельность". Наверное, Гертнер недостаточно верит в Анну. И, конечно, имеет для этого основания: вот ведь уже сколько времени прошло с тех пор, как она получила "Танцующие Эвридики", но пока ничего с этой песней сделать так и не смогла.
В Сопоте эту песню ей исполнить не разрешили, музыкальные редакторы фирмы грамзаписи "Польске награня" не проявляли к творчеству Герман никакого интереса, несколько раз ее приглашали на телевидение, но по тем или иным причинам съемки в последний момент срывались. Особенно было обидно в последний раз. Кшивка с трудом отпустил ее для выступления в популярной вечерней программе телевидения Катовице. Она была в гримерной, когда к ней подошел редактор – симпатичный рыжий парень лет двадцати пяти, в очках – и как-то сбивчиво начал объяснять, что "Танцующие Эвридики" петь нельзя: главный не разрешает. Мотивировка отказа: слишком много Гертнер, как будто в Польше нет других композиторов!
– Что у вас есть еще? – виновато спросил он.
– Больше ничего, – растерянно ответила Анна. И почувствовала себя униженной, надоевшей, назойливой просительницей.
– Вы уж на меня не обижайтесь, это ведь не мое мнение. Переубедить главного – дело безнадежное. Как будет еще что-нибудь, приезжайте. Созвонимся. – И он направился к другой певице.
Возвращаясь ночным поездом из Катовице во Вроцлав, Анна, подперев подбородок, смотрела в окно, будто пыталась разглядеть в темноте знакомые и близкие сердцу места. И думала, думала:
"В конце концов, многое уже сделано, а времени прошло немного. Я певица. Это мое призвание, моя жизнь, и другой я себе не мыслю. Я – лауреат фестиваля в Сопоте, обо мне одобрительно отзывались рецензенты. Значит, что-то во мне действительно есть?.. Меня ценит Кшивка, я нужна ему. Но, говоря откровенно, зрители меня не знают: пластинок нет, телевидения и радио тоже, Кася Гертнер, судя по всему, в меня не верит... А может, я переоцениваю себя? Может быть, то, чего я достигла, и есть мой потолок?"
Несколько недель Анна была расстроена. К тому же она простудилась, поднялась температура, врач советовал отлежаться, чтобы избежать осложнений. Но какое там "отлежаться"! Каждый вечер концерт, и твое отсутствие ставит всех в безвыходное положение. Голова разламывалась, но надо было взять себя в руки и ехать на концерт. (К счастью, выступления проходили во Вроцлаве.) Выходить на сцену, брать микрофон и петь, петь, на несколько минут забыв обо всем. После концерта – в кровать! В свою, уютную, теплую. Можно забраться с головой под огромное ватное одеяло, выпив из маминых рук стакан крепкого чая с малиновым вареньем. И отключиться, забыть обо всем на свете...
Однажды ее разбудил удивительно знакомый голос. Он доносился со двора, и Анна пыталась вспомнить, кому он принадлежит. Да, конечно, ошибки быть не могло – этот голос принадлежал ей самой. Это была ее песня, спетая в одном из недавних концертов в Жешуве.
– Пани Ирма, пани Ирма! – закричал резкий старушечий голос со двора. Включите скорее радио: там ваша дочь поет!
Анна впервые услышала себя по радио. Как же так? Она и не заметила, а может быть, просто не обратила внимания, что этот концерт записывают. И вот на тебе, сюрприз!
Потом ведущий радиопрограммы коротко рассказал ее биографию и предложил послушать еще одну песню, записанную на концерте. Затем он снова заговорил своим хорошо поставленным голосом:
– Анна Герман, несомненно, одна из наиболее ярких звезд нашей эстрады. У нее огромное будущее, и я не сомневаюсь, что мы еще не раз получим удовольствие от общения с ее волшебным искусством. А сейчас послушайте "Танцующие Эвридики" Катажины Гертнер... Возможно, это не самая лучшая песня, которую поет Анна Герман, но она в какой-то степени свидетельствует о больших потенциальных возможностях нашей молодой певицы.
"Не самая лучшая песня!" Нет, с этим утверждением она согласиться не могла. Анна влюблена в эту песню! Почему? Ответить однозначно трудно, как невозможно объяснить само таинство любви: почему мы видим в любимом лишь достоинства и не замечаем недостатков? Хватит ли у нее сил доказать журналисту, и еще полусотне скептиков, и самой Катажине Гертнер, махнувшей рукой на "Эвридики", что эта песня по-настоящему талантлива, что она способна прожить долгую счастливую жизнь? Эти мысли, может быть несколько сумбурные, преследовали ее еще довольно долго, не давая покоя...
xxx
Аня любила те считанные часы, когда можно было посидеть дома "просто так". Поговорить с мамой и бабушкой о вещах, казалось, бесконечно далеких от ее будничных проблем и забот. О том, например, как приготовить вкусное жаркое или испечь пирог, сварить вишневое варенье. Самой повозиться на кухне, выпить чаю из своей чашки, съесть манную кашу из своей тарелки, а вечером растянуться в своей кровати, положив голову на свою подушку.
Однако стоило ей хоть чуточку задержаться дома, как ее охватывали беспокойство и волнение, тоска по привычной кочевой жизни. Когда Анна выходила на сцену, то чувствовала себя по-настоящему счастливой. И не только потому, что всегда пела легко, открыто, свободно, но еще и потому, что моментально находила контакт со зрителями. Ее встречали аплодисментами. Эти аплодисменты становились для нее своеобразным допингом. За кулисами легкость проходила, часто начиналось сердцебиение, она вдыхала нашатырный спирт и мечтала как можно скорее оказаться в гостинице. Врачи, как сговорившись, твердили одно и то же: "Вы перенапрягаетесь, перерабатываете. Вам нужны отдых, движение, свежий воздух". Она же пыталась объяснить, что как раз хорошо чувствует себя, когда много работает, а вот когда отдыхает... все и начинается.
В пасмурные дождливые январские дни 1964 года она задержалась дома дольше обычного – началась эпидемия гриппа, Анна думала, что заболеет одной из первых. Но, к счастью, ошиблась. За это время она навестила старых знакомых, которых не видела несколько месяцев, побывала на концерте симфонической музыки, на новом советском фильме. Разговор с матерью, оставивший в душе неприятный осадок, возник неожиданно.
– Анна, – вдруг сказала мама, отложив школьные тетради с изложениями, тебе уже двадцать восемь лет. Мне бы не хотелось вмешиваться в твою личную жизнь. Мне трудно судить, как там у вас, у артистов... Но не пора ли тебе подумать о себе? О продолжении нашего рода и, наконец, о своем собственном очаге?
Что Анна могла ответить на этот, как ей показалось, бестактный вопрос? Анна считала себя глубоко одиноким человеком. Она страдала от этого одиночества, втайне боясь выдать себя. Относила его за счет своей профессии (в самом деле, какой муж согласится с постоянным отсутствием жены?). Ну а о ребенке вообще думать нечего. Ребенок – это ведь несколько лет, вычеркнутых из творческой жизни. Их уж потом не наверстать. Мамины слова "мне трудно судить, как там у вас, у артистов" укололи Анну в сердце. В них явно ощущался подтекст, намек на распущенность. И как мать могла подумать такое! Конечно, Анна не девочка, ей уже пришлось испытать и первую любовь, оставившую в ее сердце глубокий след, и первые разочарования. Приходилось ей сталкиваться и с себялюбивыми, расчетливыми эгоистами и циниками.
Она знала, что нравится мужчинам, часто ловила на себе и скромные, застенчивые взгляды молодых людей, и откровенно любопытные профессиональных ловеласов из актерского окружения. От приглашений на чашечку кофе она под разными предлогами отказывалась, избегала шумных застолий по самым различным поводам – дням рождения, удачным и неудачным выступлениям, помолвкам, свадьбам, разводам...
xxx
Как-то в Варшаве Анна никак не могла поймать такси, и вот подвернулся частник. Водитель, молодой человек с открытым приятным лицом, предложил подвезти ее к вокзалу.
– Сколько я вам должна? – спросила Анна, раскрывая сумочку.
В ответ на это молодой человек, застенчиво улыбаясь, ответил, что он инженер и денег таким образом не зарабатывает, а девушку подвез лишь с надеждой познакомиться. Он повторил еще раз: "С надеждой познакомиться". Анна рассмеялась, заметила, что она никогда не знакомится на улицах. Но здесь не в силах отказаться. Только, увы, она живет не в Варшаве, а во Вроцлаве.
– Ничего, у меня машина, – решительно ответил молодой человек. Если пани позволит, он приедет во Вроцлав.
Анна оставила ему свой адрес. Через неделю от Збигнева (так звали молодого человека) пришла открытка. Анна ответила на его открытку из вежливости. Он прислал еще одну, в которой приглашал ее в ближайшее воскресенье на ужин в ресторан. Но в пятницу Анна уехала на гастроли, сокрушаясь, что ее письмо, по-видимому, придет позже и он промчит от Варшавы до Вроцлава напрасно... Каково же было ее удивление, когда после концерта в городке, примерно в семидесяти километрах от Вроцлава, к ней подошел с цветами тот самый застенчивый инженер. Она узнала его сразу, уж очень он отличался от остальных: был на голову выше толпы.
– Вы? – изумилась Анна.
– Я, – улыбнулся инженер. И тут же добавил: – Вы, оказывается, певица! Чудесно поете, я уже слышал вас раньше по радио... Мне очень нравится, как вы поете.
– Ну и что? – иронизировала Анна. – Вы ко всем певицам, которые вам нравятся, мчитесь на такие дальние свидания?
– Не ко всем. Вы первая...
– Ну, раз я первая, тогда поехали ужинать! Учитывая затраты на бензин, плачу я!..
На ночь инженера с трудом удалось устроить в многоместный номер гостиничное общежитие. Утром чуть свет он уехал в Варшаву, обещая в ближайшее время снова разыскать Анну. Уехал и исчез...
"Наверное, я не оправдала его ожиданий, а может, как увидел меня ближе, так я ему и разонравилась". Она была в растерянности: взял и исчез без следа, а у нее ни его адреса, ни номера телефона. Ее охватило какое-то смутное чувство, которого раньше она никогда не испытывала, – горечь, досада, тоска и разочарование. Словно тонешь, а спасательный круг уплывает от тебя все дальше и дальше, и глядишь – исчез, подхваченный быстрым течением...
Они снова увиделись во Вроцлаве. Анна заглянула домой ненадолго. Инженер терпеливо ждал ее на кухне, шуршал газетой, тихонько покашливал. Она пригласила его в комнату, пили чай с бабушкиными пирогами.
– И что же, вы так всю жизнь собираетесь проездить? – с интересом спросил инженер.
– Если хватит сил, до пенсии, – ответила Анна, отпивая глоток горячего чая.
– Правда? – недоверчиво переспросил инженер.
– Правда, – кивнула Анна.
– А я, понимаешь ли, – вдруг сбившись на "ты", взволнованным шепотом заговорил инженер, – как раз собирался предложить тебе выйти за меня замуж...
За занавеской в углу, где ютилась бабушка, раздался звон бьющегося стакана.
Анна рассмеялась:
– Вот видите, из-за вас уже и посуду бьют!
– Это к счастью, – убежденно сказал Збигнев.
– Как же это вы так – сразу с предложением? Ведь вы меня совсем не знаете. А может, я ужасная – злая, скупая, ревнивая?
– Нет, ты добрая, хорошая, красивая, – все тем же шепотом говорил инженер. И смущенно добавил: – Я делаю вам официальное предложение.
– Была не была! – чокаясь с гостем стаканом чая, беспечно заключила Анна. – Я подумаю.
Они расстались спустя час, и Анна оказалась во власти какого-то удивительного, до сих пор незнакомого ей чувства. Любит ли она инженера? Она улыбалась при этой мысли. Разве можно любить человека, которого знаешь так мало, да и видела всего лишь несколько раз? Большой, плечистый: нос, подбородок – как у боксера; изрезанный морщинами лоб. Однако непосредственность в общении, трогательная, беззащитная искренность, а главное – влюбленность, которую чувствуешь без всяких слов, – все это взволновало Анну, заставляло ее все время мысленно возвращаться к нему...