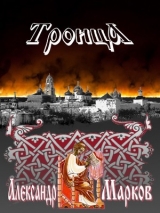
Текст книги "Троица"
Автор книги: Александр Марков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Октября 23-го дня
От перебежавшего поляка узнали мы, что Струсь, главный воевода осадных людей в Кремле, и прочие польские начальники не чают более от нас здорово отсидеться или дождаться подмоги, и о сдаче помышляют. А Федька Андронов и иже с ним, изменники русские, молят их не сдаваться, ибо разумеют, что лучше им голодную смерть восприять, чем живыми в наши руки попасть.
Из Троицы приехал сам архимандрит Дионисий; благословляет храброе воинство на последний подвиг. От Аврамия нам с Настёнкой писание дружеское передали.
Октября 24-го дня
Осадные поляки объявили, что хотят вывести из Кремля всех московских бояр и русских людей, а после могут и сами сдаться, ежели мы поклянемся им жизнь сохранить, а также имение, и отпустить их свободно в Польшу.
Нынче в полдень Троицкие ворота Кремля отворились, и первым вышел на мост князь Федор Мстиславский (брюхо же его, прежде толстое, отвисло, опустев, и сам он едва ноги переставляет), а за ним следом все московские бояре, которым посчастливилось с голоду не помереть. Я же был наипаче доволен и рад увидеть Мишку Романова, Филаретова сына, но подойти к нему за теснотою не возмог, а мать его, инокиня Марфа, нисколько не медля, увезла его в Кострому в Ипатьевский монастырь, где бы могли они после осадных тягот покойно отдохнуть и откормиться.
Во время исхода боярского едва не учинился у нас бой с казаками, они же хотели бояр схватить и ограбить и порубить как изменников, а Пожарский этому воспротивился и стал бояр защищать. Насилу казаков усмирили. А взяли под приставы только Федьку Андронова и ближних пособников его, и пытку им учинили тотчас, и доселе их истязать еще не перестали.
Октября 25-го дня
Сдались, сдались хохлы окаянные, все ворота кремлевские отворили и город Кремль нам сдали. То-то радость! А сами поляки как мешки с костями, только не гремят, да того гляди рассыпятся. Кабы не голодом принужены, не сдались бы; ныне же так изголодались, что ничего, кроме жизни, себе не выговорили; имения же их розданы казакам Трубецкого. А у пяти тысяч добро питаемых поляков мы бы вовек Кремля не отняли, осмелюсь прямо сказать.
Бумага в конец приходит, осталось два листочка. Зрю в том знамение Божие: да остановлюсь. Жизнь человеческая земная скоротечна, но и ее никто не может до конца исповесть; что же скажем о великих царствах земных и о течении времени бесконечном, иже до Судного дня длится беспрерывно? Всякому писанию положено конец иметь; а здесь концу место доброе: город Москву освободили, царство Российское от латинского злого владычества избавили.
Поелику же полтора листа еще осталось, поведаю о торжественном вхождении нашем в город. Ибо не хотели после такого трудного подвига, двухлетнего тяжкого поборания ратного, войти в город попросту. Урядили полки: наши у Ивана Милостивого на Арбате, казачьи по другую сторону града, за Покровскими воротами. И велели всему воинскому чину петь песни боевые победные. И князь Пожарский, прекрасно убраный и на коне великолепном, поехал впереди воинства, а мы за ним пошли к Китая города Неглименским воротам. Предваряли же шествие войсковое святители русские с честными крестами и иконами. Архимандрит Дионисий первым шел, архиерей достойнейший, добродетелью славнейший, великими и достохвальными подвигами своими нашей нынешней победе премного пособивший.
В Китае городе у Лобного места встретилось наше воинство с казаками, коих князь Трубецкой привел урядно и чинно, с казачьим протяжным пением, с крестами же и с образами. А из Фроловских, ино Спасских ворот Кремля туда же к Лобному месту вышли святители православные, бывшие у поляков в неволе на Москве: архиепископ Арсений и прочие, а несли они преславную чудотворную икону Божией матери Владимирской. И от этого великая радость была всему воинству, ибо не чаяли сию икону увидеть вновь после польского пленения, и мнили ее погибшей от рук еретиков.
И, отслужив молебен у Лобного места, пошли все в Кремль новообретенный, к соборной церкви Святой Пречистой Матери Слова Божия, честного и славного ее Успения, сему же храму имя попросту: Пречистая Соборная. Но здесь не возмогли молебен служить ради многой скверны, поляками во храме сотворенной.
И мы с Настёнкой и со многими иными достойными людьми до вечера храм отмывали и чистили, дабы Дионисий его ко Всенощной мог освятить.
Здесь полагаю повести конец; мы же с Настёнкой поедем в Троицу, а оттуда в Горбатово, как скоро нас князь Пожарский из Москвы отпустит.
Писание же сие в тряпицу заверну и в Троице отдам келарю Аврамию, по нашему с ним уговору, ибо мне оно в Горбатове не надобно, Аврамий же пускай с ним что хочет, то и творит.
Листу конец и аминь.
Надписание краткое о воспоследовавших делах, об унятии смуты и об избрании царском, и о том, как судьбами Божиими житие помянутых в сей книге людей устроилось
Того же бывшего отрока Данилки, ныне святых чудотворцев Зосимы и Савватия преславной и наикрепчайшей в вере обители инока старца Демьяна.
Даже и до сего дня, хоть и многому времени минувшу, я слезы всегда из глаз испускаю, когда вспомню кончину милого друга моего и отца духовного, добрейшего старца Аврамия, прежде бывшего келаря Троицкого.
Скончался же он на моих руках, здесь в Соловках у моря Студеного. Почуяв же пришествие облака смертного, позвал меня и молвил:
– Данило, друг мой любезный! Настает мой последний час, и скоро воздастся мне от Бога сполна за все мои грехи неудобоцелимые. Перед смертью же хочу тебя благословить и прощения твоего испросить, ежели сотворил когда-то нечто тебе обидное. Бесчаден будучи, желаю передать тебе все имение свое, а мое имение для тела ничтожно, для духа же многополезно: владею единственно сундучишком с книгами душеспасительными и со всякими летописаниями и иными записками людей сведущих и мудрых. Там же найдешь ты и свое писание отроческое, которое ты мне подарил в лето достопамятное, когда мы Москву у поляков отняли. Перечитай его: найдешь в том многую усладу и утеху. Я же пред тобою покаяться хочу, ибо многое из повести твоей я в свое сказание о Троицкой осаде переписал, зане я самолично в той осаде не сиживал, а у тебя всё подробно исписано и прямо. Прощай же, Данило; да пребудет с тобою Божье благословение, да не случится тебе вдругорядь сидеть в такой лютой и страшной осаде, да жить бы тебе сто лет покойно и мирно.
Сказав это, преставился отец Аврамий, и многие слезы пролили мы с Настёнкой о кончине его. Благословение же его меня до старости хранило, но под конец жизни моей многогрешной, увы, не уберегло. Ибо ныне мы, соловецкие люди, вот уже третье лето сидим в осаде от злых и бесстыдных еретиков, богоотступников, гонителей веры Христовой, иже ради мирского быстротечного преуспеяния забыли Господа, и, служа ревностно безбожному и волкоподобному царю Алексею, этом новому Юлиану, и Никону антихристу, злояростно нападают на наш стойкий в вере Соловецкий монастырь, и хотят нас лютостью своей и насильством принудить к отпадению от Христа бога нашего, и чтобы мы, на радость сатане, творили крестное знамение троеперстным кукишем. Мы же за истинную веру и помереть рады, и не покоримся отнюдь, доколе все голодом не изомрем.
А силы мои уже не те, что прежде, ибо стар я весьма и немощен учинился, семидесяти с лишком лет от рождения будучи. Чаю кончину скорую, и того ради решился снова взять хартию в руки и дописать вкратце о том, что содеялось со мной и с иными помянутыми в книге людьми во прохождение истекших лет.
По избавлении Москвы из плена латинского пришел король Сигизмунд с сыном Владиславом из Смоленска под Волок Ламский, и хотел город походя взять, но не преуспел, а только многих людей своих положил. Писал король к воеводе Волоколамскому гневные грамоты, и требовал сдать город; воевода же ему гордо ответствовал: «Не бывать тому, доколе Москва не будет ваша; а возьмете Москву, тогда и мы вам покоримся».
Князь же Пожарский с Козьмою Мининым сведали о приходе Сигизмундовом и весьма устрашились, и не распускали ополчения московского, и готовились к смертному бою. А король Сигизмунд увидел, что Москва сильна ратными людьми, и никто там его, короля, не хочет, ни сына его. И не осмелился король к Москве приступать, и ушел из Русской державы в Польшу с великим срамом.
Князь же Пожарский, нимало не помедлив, отправил в города гонцов с указом о прислании выборных людей в Москву на собрание всей земли об избрании царском. И составился великий собор, и долго в том соборе люди меж собою спорили и толковали, кому держать скипетр великого царства Московского.
Голос келаря троицкого Аврамия на том соборе громче всех прочих звучал, ибо многие к его слову слух преклоняли. И по доброму его совету избран был на царство Михайло Романов, Филаретов сын.
Я же с Настёнкой в то время в селе Горбатове зимовал, и не усладно зимовал, а холодно и голодно и скудно. А Миша Романов из Костромы приехал в Москву и венчался на царство в лето 7121, июля в 11 день.
Держава же тогда еще не умирилась и смута не окончилась: повсюду разбойные отряды бродили, шведы в новогородских весях лютовали, поляки грабили Украинные и Северские земли, на Волге новый ложный Димитрий сыскался; Заруцкий с Маринкой и с бунтовскими казаками засел в Михайлове.
Новоизбранный же государь Михайло Федорович со всеми этими бедами помалу стал управляться. Перво послал воеводу князя Одоевского на Маринку и Ивашка Заруцкого и воренка. Под Воронежем Одоевский учинил с ними брань, и два дня бились жестоко. И одолели государевы люди воров, и бежали воры за Дон, на Волгу и вниз по Волге до Астрахани, и там утвердились.
Вскоре же граждане Астраханские от многих притеснений возмутились и хотели воров побить, и учинилось в городе великое кровопролитие. И заперлись Маринка с Заруцким и с воренком в остроге Астраханском, и горожане их там взять не могли. Сведав же о приближении царских воевод, воры тайно из Астрахани бежали, и на лодках ушли в море Хвалынское, а оттуда на реку Яик. Там-то их государевы стрельцы и поймали, а выдал их головами стрельцам атаман казачий Треня Ус.
Привезли их в оковах в Москву; Заруцкого посадили на кол; Маринку в темницу; воренка же, хоть и малое дитя, казнили смертью во опасение нового мятежного соблазна: повесили сего воренка у Данилова монастыря в один день с Федькой Андроновым. А Маринка в Туле в заточении скоро с тоски померла.
Здесь достоит сказать о царе Василии и брате его Дмитрии, которых Сигизмунд в Польшу увез и там сенаторам показывал, похваляясь, что захватил у такой великой державы и царя, и первого воеводу. Случилось с ними, что и с Маринкой: после царского жития, славой осиянные, вкусившие власти и почитанием народным возвеличенные, не возмогли обвыкнуть к жизни невольничьей, и, отчаявшись вернуть утраченное державство, тоскою и завистью снедаемые, вборзе померли. Король же Сигизмунд царя Василия у себя в Польше похоронил, и над гробом его надпись высек, какую только сей хитрый и лукавый и лживый латинский пес мог измыслить; вот так, примерно: «Зрите, люди всего мира, величие и славу и добродетель и нищелюбие незлопамятнейшего из королей, наияснейшего Сигизмунда Третьего, который даже злого врага своего, нечестивого царя московского Василия, почтил посмертно сим великолепным надгробным камнем, а не закопал как собаку по достоинству его».
Царевна же Ксения помянутых царских особ далеко превзошла смирением и кротостью, и никогда не роптала на злую судьбу свою, хоть ей и выпала участь достопечальная и жалостнейшая; силою духа своего все скорби превозмогла, и сумела возлюбить монашеское одеяние свое превыше дорогих платьев бархатных, и в доброте и простодушии скончала мирно век свой в невеликом и небогатом монастыре под Владимиром. За эту кротость она и поныне славна в народе христианском; о ней и песни сложены красивые и плачевные, их же всякий слышал, и в эту книгу их вписывать нет нужды.
Это о царских особах, что сумел изыскать: о Маринке, о царе Василии и о Ксении царевне.
Теперь скажу о тех, чьею кровью и великими трудами спаслось царство Российское, и о том, как вознагражден был их подвиг.
Да не тешит себя читатель суетным упованием, что воздалось каждому по делам его. Отнюдь этого не случилось, ибо те, кто живота своего не щадил, кто за веру и Российское государство насмерть стоял, и радостно кровь свою проливал, и тесноту терпел, и от меча вражеского не бегал, и раны тяжкие испытал, те люди не корыстолюбцы суть: они государю потом прошениями не докучали, и о вознаграждении своем не пеклись, а со скромностью возвращались в домы свои и жили как прежде, славою мирской не прельщаемы. Те же, которые менее всех потрудились, всех более просили: им и достались милости государевы.
Князь Пожарский, хоть и был пожалован в бояре, не получил вотчин богатых, а после и в опале бывал и поношения терпел. Козьма Минин учинился думным дворянином и поехал опять в Нижний говядами торговать: такое, сказал, у меня призвание от Господа; иного дела не смыслю и не разумею. Князь же Трубецкой, коего казаки в осаде московской вовсе не слушали, и воеводой он был единственно по званию, а не по делам; он же был в бояре пожалован Тушинским вором, и Заруцкому с Маринкой споспешествовал, и вору Псковскому присягал – на сего князя царь Михайло излил всю щедрость милости своей, как на первого из героев и спасителя всей земли русской. Не только боярство ему оставил, но и пожаловал вотчину богатейшую Вагу, лучше и доходнее коей нет во всем Московском государстве.
Казаки же, многими достохвальными подвигами стяжавшие славу в сражениях под Москвой, получили денежное жалованье невеликое. По малом времени все деньги пропили и проиграли, и разбрелись розно с атаманами своими по всему государству и стали всюду грабить православных христиан с жестокосердием и безжалостно.
Царские же воеводы долго за ними гонялись и с трудом помалу одолевали и очищали от этих разбойников землю, и прогоняли их на Дон. Казаки же затаили великую злобу на царя и на все Московское царство. На словах верными государевыми слугами назывались, в сердце же лютую ярость копили; ждали же только знака, какой Господь укажет, чтобы учинить Российской державе новое разорение. В недавнее время, как всем ведомо, это их злое умышление въяве показалось, когда пришли они разбойно и кровопролитно на Русь с атаманом Стенькою Разиным, и учинили великий мятеж. Но и из этих воровских казаков, скажу прямо, нашлось немало людей достойных, готовых помереть за веру истинную. Эти-то люди, честные казаки, после Стенькиного низлагания пришли к нам сюда, в Соловецкий святых Зосимы и Савватия монастырь, и вместе с нами теперь сидят в осаде против слуг дьявольских, хотящих креститься щепотью непристойной.
Здесь закончу о казаках, и скажу о себе и келаре троицком Аврамии: мы тоже немало потрудились, потом и кровью своею покупая всероссийское избавление. Пожалованы же были от нового государя, от Михайла Федоровича, с коим я на Москве в догонялки играл, куда как щедро.
Аврамий перво оставался, как был, келарем троицким; и я тоже ничего не получил за верную службу, и шесть лет мы с Настёнкой в нашем Богом забытом селе Горбатове скудость терпели, и только к концу названного срока начало наше хозяйство помалу поправляться; но не успели мы насладиться изобильством и сытым житием.
Случилось же в лето 7126, от Рождества Христова 1618: собрался королевич Владислав с большою силою ратной на Русь, возвращать себе царство утраченное. И, придя к Москве, не смог взять царствующего града, и многих своих людей под стенами положил. Тогда восхотел он взять Троицкий Сергиев монастырь и пришел к обители со всем войском. Троицкие же люди храбро защищались и из пушек поляков крепко побивали. А начальным человеком в обители был в ту пору келарь Аврамий. Он же так премудро и успешно защиту уряжал, что Владислав скоро отчаялся город взять, и сердце его стало к миру преклоняться.
Тогда собрались царские и королевские послы в троицкой деревне Девулине, и советовались долго и трудно, и наконец согласились, и положили быть миру между Россией и Польшей 14 лет, да восприимем от Бога милость и в благоденствии и тишине поживем.
Но не даром смягчились поляки, а ценою дорогою уняли лютость свою на нас: и всего горше то, что по тому Девулинскому договору град Смоленск достался им, человекоядным псам, в вечное владение.
По тому же мирному уложению должен был Сигизмунд отпустить великого посла нашего, которого он неправедно пленил под Смоленском и в Польшу увез, преславного святителя Филарета Никитича, батюшку государева, о коего освобождении государь Михайло Федорович непрестанное попечение имел и короля настойчиво молил.
Промедлив недолгое время, поляки Филарета отпустили, и приехал он со славой в Москву в лето 7127, июля в 14 день. И тотчас же был возведен в сан патриарший, и, из плена и ничтожества в единый миг на лучезарно осиянную вершину могущества возлетев, скоро всю власть державную от сына перенял не по званию, но по делам; и стал Российским государством править при живом государе, точно как Борис Годунов при царе Федоре правил.
Умудрен был и благочестив и великодушен святитель Филарет, единый лишь грех в сердце нося, ему же имя злопамятливость. Многие скорби он в плену польском претерпел, и не простил и отнюдь не забыл тех товарищей своих по посольскому делу, которые в оную пору, в лето 7119, прельщенные милостями королевскими, или же из хитрого умысла, от посольства нашего из-под Смоленска отъехали, а его, Филарета, оставили с немногими вернейшими людьми на пленение и поругание.
Мне же тогда в Горбатове живущу с Настасьей счастливо. Вдруг скачет посыльный, письмо мне везет от келаря Аврамия:
«Другу любимому Данилу Ивановичу чернец Аврамий Палицын бьет челом. Восславим Христа Бога нашего и святых угодников его Сергия и Никона, их же молитвами возвратился из плена литовского святейший государь наш Филарет Никитич. Сведав ныне о его чудесном и счастливом избавлении, пристало нам не только возрадоваться и возликовать, но и вспомнить о старинном грехе нашем, под градом Смоленском содеянном – сам разумей, Данилушко – и покаяться искренно и без лукавства, и отрешиться от суетной славы мирской, и в пустыню удалиться, и там до конца дней своих в тишине и безвестности проживая, молить Господа неустанно о прощении, даровал бы он нам хоть малую ослабу от вечных мучений, нас ожидающих. Если же не удалимся, настигнет нас злейшая кара от Господа еще в этой бренной земной жизни. Об этом уже и грамота прислана в Троицкий монастырь: дескать, не пристало в вашей славной обители у высших чинов состоять людям, кои в минувшие смутные лета запятнали себя некими изменами, и прочая.
Посему, Данилушко, я уже келарский чин с себя сложил, и испросился у освященного собора ехать в монастырь Соловецкий на покаяние, а вернее сказать во изгнание. И ты, если не хочешь худшую долю восприять, откажи имение свое дому чудотворца, и собирайся без мешканья, и с женою поезжай в Александрову Слободу. Там я тебя буду ждать, и оттуда мы вместе в Соловки поедем.
В Соловках у меня есть знакомцы добрые; с ними я писаниями уже обослался; встретят нас с ласкою, и житие наше устроится безбедно и сносно. Ежели денег достанет, купите шубы и иных теплых портов поболее, ибо там зимы студеные».
Так залетели мы с Настёнкой в Соловки. Житие наше здесь, по слову Аврамиеву, беспечально текло; жили мы зимою в слободе монастырской, летом же на малом пустынном островке в уединении промышляли семгу и треску и сельдей для братии.
По смерти же Настёнкиной возложил я на себя ризы иноческие, и не осталось мне в этой жизни иного утешения, кроме преданного служения Богу всемилостивому, на него же единого уповаю. И за веру истинную мне умереть вовсе не страшно.
И все мы здесь, соловецкие сидельцы, радостно такую смерть воспримем. А смерти не избежать нам, ибо богоотступники тесно нас облегают и помалу нашу силу превозмогают; к ним же во всякое время подмога ратная и запасы проходят без претыкания, а нам помощи ждать неоткуда, только от Бога всевышнего.
Ты же, Господи, видишь готовность нашу и хотение умереть за тебя единого, и милостиво попускаешь хотению нашему исполниться.
За то тебе слава вовеки.









