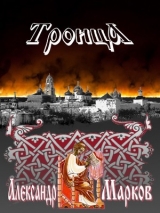
Текст книги "Троица"
Автор книги: Александр Марков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Теперь надлежит мне поведать о важных делах, в Московском государстве бывших, пока я без памяти лежал. А Настёнка мне писать мешает и всячески претит, говоря, что мне вредительно писанием утруждать свое больное и скорбное естество и силу телесную истощать. И грозит бумагу отобрать, как литва у святейшего Гермогена отобрала.
Вот, с Настёнкиных слов, вкратце о бывшем в проистечение названного
Поелику он нездоров еще, и конечно мне писательством своим опостылел, и одеяло у него опять в чернилах, а спросят с меня, а я грамоте и сама навычна, пусть Данило не показуется чрезмерно своею книжностью, сам пишет криво и устава не блюдет, я бумагу у него побрала, а на лоб ему такой налепила пластырь, что он забудет как перо очинять, и о чем ему писать, если он в постели лежал и момотал тщетное, а ежели открывал глаза, то всё ему чудилось, будто мы в осаде, и он о Сапеге с Лисовским спрашивал или выведать пытался, не видал ли чего во сне пономарь Иринарх. Сего ради отсель и впредь писано мною, Настасьей Федоровой.
Когда я из Девичьего монастыря уезжала, от Москвы одни угольки остались. Только стены городские торчали посреди золы. Были стены Белые, стали черные. А еще печи. Домов нет, а печи стоят, и тоже все черные, и дымок над пепелищем курится. Туда б еще чертей, был бы сущий ад. А если хохлов сажей намазать, то будут в самый раз черти.
Таков был город Москва, когда я оттуда уехала. А уехала я того для, чтобы вот этого болящего отрока привезти в Троицу. А вовсе не потому, что я замуж за него хочу. Ох, ох, Данилка, бедный ты мой сиротка! Видел бы ты себя с моим пластырем, уж ты бы посмеялся. А я в Данилкиных глазах с видом скорбным показуюсь, а когда невтерпеж посмеяться, то отворачиваюсь.
Ляпуновцы пришли и ляхов с Белой стены согнали. Заперлись ляхи в Кремле и в Китае городе. А пепелище московское досталось ополчению. Там под угольями уцелели многие погреба с ествой и винами. А поляки воронами кормятся и кошек покупают по рублю.
Здесь в Троице кормят вкусно, и монахи добрые. Они всех сирот жалеют, и увечных, и хворых. И даже нарочно их повсюду собирают и сюда привозят.
Что еще написать? Король Жигимонт нечестивый все-таки взял Смоленск. Но добычи ему никакой не досталось. Потому что храбрые смольняне отнесли все, что было в городе хорошего, в главную церковь. И туда же пороху натащили, и заперлись там. И когда поляки захватили город, смольняне сами себя в церкви взорвали вместе со всем добром.
Королевские воины очень рассердились и отказались впредь воевать русскую землю бесплатно. И пришлось королю возвращаться в Польшу. Получилось, что град Смоленск дважды себя прославил: первое, что так долго не поддавался и не позволял королю на Москву пойти; второе, что заставил его в Польшу вернуться.
А послов московским, митрополита Филарета и остальных, поляки в плен взяли и увезли в свою землю. Потому что послы до конца крепились, Жигимонту не присягали, а боярских грамот не слушались, ибо грамоты были без патриаршего рукоприкладства.
А когда я с матушкой и с батюшкой жила в нашем поместье в Липовке близ города Курска, и когда мне случалось захворать, а я тогда была маленькая, матушка мне тоже всякие пластыри любила ставить. Но матушка лечебников не читала, ибо книжного почитания не разумела. А меня научили старицы. А матушку с батюшкой убили воровские люди Ивашка Болотникова тому назад четыре лета. А поместьице до тла разорили, рожь всю побрали, людишек добрых землепашцев с земли согнали и в свое воровское войско забрали. А меня, совсем юную отроковицу, Господь уберег: монашки меня взяли на попечение.
Делагарди взял Корелу и теперь хочет Новгород взять. К нам в Троицу он писал, чтобы мы избрали царем королевича шведского: Карла или Филиппа. Но соборные старцы сказали: довольно с нас королевичей. Польскому уже крест целовали, и что видим? Поляки Москву сожгли. Разве теперь шведскому поцеловать?
А я не хуже Данилки пишу, верно, Данилка? Пусть он меня дурой не считает. Нынче я прочла, что он тут обо мне понаписал. Это всё, любезные господа, есть выдумка, ложь, навет, вранье и глупая небылица. Вот я сейчас молебен послушаю, а потом все непотребные словеса, меня касательные, чернилами замажу.
А еще надобно о том упомянуть, что объявился в Иванегороде еще один ложный царь Димитрий. Как только им, ворам, не наскучило это имя принимать.
А Сапега, говорят, хотел к Ляпунову на службу пойти, против своих же поляков воевать. Но Ляпунов его не принял, или они о цене не столковались. И Сапега решил не мудрить и стоять, как и прежде, за поляков.
А у Данилки и вправду есть грамота от Жигимонта на поместье, село Горбатово Нижегородской веси. Только теперь Жигимонтовыми грамотами можно печь топить – нет у них силы. Ведь Жигимонт раздавал поместья беззаконно, он не царь. Так что ты, Данило, не кичись и помещиком не величайся. А будешь мне перечить, я тебе такое составлю лечебное снадобье, век не забудешь. Вот хоть бы это, из лечебника моего: «кал котовый или кошкин смешай с горчицею, и тем шелуди мазать – сгонит, и волосы нарастут.» Радуйся, Данилушка, что ты не шелудив.
Июня 29-го дня
Ну дура ты, Настасья, сущая дура. Эких нелепиц написала. Испортила книгу неискусными словесами и мысленками неизящными. Попробуй еще мне какой-нибудь пластырь налепить – я тебя саму кошачьим калом полечу, сама шелудями покроешься.
Но не время теперь с девками пререкаться и суесловить. Раны мои зажили, и скоро мы с Аврамием под Москву поедем: со святою водой, с письмами, со всякими воинскими запасами. Аврамий там уже трижды побывал, пока я хворостью болезненной скорбел. Там, у Ляпунова, наших троицких слуг 50 человек воюют, и несколько старцев для ободрения унывающих. Архимандрит же наш Дионисий о нуждах войска неустанное попечение имеет, а сущие под Москвой воинские люди всегда к исходящим от дома Пресвятой Троицы советам и душеспасительным словам уши преклоняют.
Может, потому-то Сапега, ныне с жестоким лютованием по селам сбирающий корма для осажденных поляков, отрезает уши и носы пленным и даже мирным безоружным христианам. Ибо хочет, безбожный пес, чтобы не слышали русские люди слов Господних, устами троицких иноков изрекаемых, и не обоняли фимиам благодати Божией, изливаемый на них Духом святым, ради молитв великих преподобных отцов наших чудотворцев Сергия и Никона.
Архимандрит Дионисий велел новых больниц понастроить в монастыре и в слободах, и отовсюду велит собирать обиженных и увечных. У нас в Троице калек собралось величайшее множество и несметные толпы, по двору пройти страшно: как в худшие осадные времена, кругом стоны и плач, и тела истерзанные. А казны монастырской Дионисий нисколько не жалеет на дело богоугодного вспоможения убогим: всех кормят и одевают и обувают и кров дают. И платят щедро всякому, кто больных лечит, или пищу им варит, или шьет одежду. Не зря наша казна так сильно оберегалась и долго сохранялась от всех врагов: теперь пусть послужит делу праведному.
Сказывает Аврамий, что в российском воинстве, которое на пепелище московском стоит и поляков осаждает в Кремле и Китае городе, ныне раздор и нестроение великое. Казаки Ивана Заруцкого и Маринкины, также и люди князя Трубецкого – бывшие воровские слуги, сильно злобствуют на Прокофия Ляпунова и его храбрых ополченцев. Прокофия же они не любят за суровый нрав и за то, что он их буйную и неуряженную и бесчинную рать хочет к правде и справедливости преклонить, и порядком урядить, и на святое дело бескорыстного служения вере и Российской державе вдохновить.
Скоро мы поедем, а Настёнка скудоумная, на наглости и насмешки дерзостная, нелепым образом девица, пусть тут остается и мне завидует. Дионисий и монахи на нее не нарадуются, как она за болящими ходит. И вправду многие страдальцы ее усердием быстро исцеляются: мню, не столько от лечения, сколько от страха перед снадобьями Настенкиными, и перед книгой ее ведовской.
Июля 14-го дня
На пожарище московском, в стане Прокофия Ляпунова на поле Воронцове близ речки Яузы.
Пока Аврамий с братией кропят святою водой стены Белого города, я по стану хожу и всякие тайные Аврамиевы промыслы исполняю.
Поистине достойно удивления это великое войско, стоящее на пепелище. Земские с казаками стоят порознь, и не столько поляков опасаются, сколько друг друга. Заруцкий своим казакам поместья раздает, а Ляпунов своим земским. А Заруцкий у ляпуновцев отбирает и опять своим дает, Ляпунов же у казаков берет и снова своим возвращает. Есть тут у них поместный приказ: изба до потолка челобитными завалена, писцы денно и нощно перьями скрипят, а толку нет. Земские с казаками бьются меж собою за поместья до смерти. А бедные людишки чуть с голоду не мрут.
Сведал я, что Ляпунов хочет в цари позвать шведского королевича. А Заруцкий помышляет Маринкиного щенка, воренка, посадить на царство, только напрямик о том сказать пока не смеет. А еще у казаков ходят толки, не признать ли нового ложного Димитрия, что в Иванегороде сидит. Сейчас он, сказывают, воюет с псковитянами, хочет их городом овладеть. А Яков Делагарди осадил Великий Новгород.
А поляки, в Москве осажденные, кричат, что скоро к ним в помощь литовский гетман придет, по прозванию Ходкевич, с большою силой. Келарь же Аврамий от наших троицких лазутчиков наверное сведал, что Ходкевич далеко. А если кто и придет полякам на помощь, так только малый отрядик, в коем воеводами ротмистры Конецпольский и Кишка.
По сему случаю наши намедни поляков дразнили:
– Эй вы, лысые! – кричали. – Конец польский идет, еды вам везет, только одну кишку!
У поляков есть такое кушанье, рекомое «кишка»: набивают кишку мясом рубленым, коптят и едят. Ества превкусная, многую телесную силу придающая.
Поляки злобились и со стен в насмешников стреляли. Небось, давненько они кишок не пробовали; чаю, уж последних котов доедают. Их-то не жаль, а жаль добрых людей, неволею с ними в осаде сидящих: пуще всех Гермогена патриарха, коего в темнице держат тесной и морят голодом; также и Мишку Романова, сына Филаретова, с коим мы в былые дни в догонялки играли.
Новый Девичий монастырь доселе не взят: немцы и поляки уселись там крепко, а бедных инокинь себе прислуживать нудят. Изболелась душа моя за царевну Ксению: неужто судьбами Божьими ей еще новые страдания уготованы? Она ведь невинная душа; долго ли ей за батюшкины грехи терпеть? Смилуйся, Боже, над ней.
Еще узнал я, что сельцо-то мое Горбатово, видать, за мною все же сохраняется. Потому что, хотя и вправду поместья, Сигизмундом пожалованные, отняты у владельцев, но дана поблажка людям, у коих иных поместий вовсе нету. Стало быть, напрасно я туда не поехал. Надо бы время изыскать и посетить свое имение, пока его казаки не побрали.
Июля 20-го дня
У Кулижских ворот казаки пьяные напали на земских ратных людей, стали их бить и кафтаны отбирать. Келарь Аврамий мне сказал:
– Сбегай, Данило, посмотри, о чем шум.
Прибежал я, смотрю: драка учинилась изрядная. Земские вопят:
– Братцы, на помощь, совсем одолели дьяволы нечистые, казачьё окаянное! Бей их, братцы!
Вот явилась рать земская, навалились на казаков дружно, похватали их человек двадцать. А воевода Плещеев сказал:
– Нечего тут суды судить, время теперь лихое военное: по чести и по правде приговорить их пристало к смерти. Вяжите их, братцы, покрепче, да каждому камень на шею, да в воду их. Упокой, Господи, души заблудших рабов твоих, разбойных казачишек.
И тотчас же это было исполнено: бросили казаков в речку Яузу, только вода над ними запузырилась, и не стало их, словно и не было.
Келарь Аврамий, узнав о том, возмутился возмущением великим:
– Обида вышла казакам тяжкая. От такого корня дурной росток произрасти может. Опасаюсь теперь многого смертоубийства и междоусобной брани.
И пошел он в казачий стан со святою водой и крестом изукрашенным, казаков умирять.
Июля 21-го дня
Аврамий меня надоумил: в здешнем поместном приказе Сигизмундову жалованую грамоту переписать или, не переписывая, прямо под королевским рукоприложением поставить Прокофиево Ляпунова, Дмитриево Трубецкого и Иваново Заруцкого. Эти три правителя ныне в России главнейшие, выше них только Бог, они вместо царя у нас. К слову скажу: Ивашко-то Заруцкий грамоте не учен, имени своего написать не умеет, и того ради князь Трубецкой за него подписуется.
Казаки сегодня расшумелись. Я пошел посмотреть на их собрание, а меня не пускают: видят, что не свой, не казак, и гонят взашей, и даже грозят злыми угрозами и лают нелепыми словами.
– Всех вас, земских людей, – говорят, – за ноги подвесим и конями разорвем, чтобы товарищей наших в воду не сажали.
Хоть и не смог я самолично на тот казачий круг попасть, но сумел все что надо выведать у казачка молоденького: вина принес да простецом прикинулся, вот беседа и завязалась.
Казаки на Ляпунова измену возводят: выловили тех несчастных утопленников из речки и в круг принесли, и над мертвыми телами гневные речи говорили. А еще того хуже – нашли где-то грамоту, писаную Прокофием, а в грамоте сказано: «Люди добрые, православные христиане! Ведомо нам, как казаки вас грабят и обирают бессовестно. Потерпите еще немного, как и мы сами их терпим. Вот возьмем Москву, успокоим землю, тогда всех казаков сразу перебьем.»
Я как услышал о том, сразу к Аврамию побежал. А потом к самому Ляпунову. Но туда меня не пустили и на порог: заносчив стал Прокофий, не станет с неведомым человеком слова молвить. А сторожа Прокофиева мне сказали:
– Не печалься, малец: Прокофий Петрович теперь заняты, но им все ведомо; верные люди уже донесли о казацком злоумышлении.
А вскоре вышел из избы сам Ляпунов: телом крепок, мышцы толстые, лицом суров весьма и грозен, возрасту посреднего. Сел он на коня и поехал прочь, а прислужникам своим и дворянам крикнул:
– Казаки меня в изменники рядят, а вы и не заступитесь. Прощайте! А я в Рязани посижу да погляжу, как вы без меня будете с поляками управляться.
Дворяне да прислужники вмале замешкались, а потом повскакали все на коней и помчались воеводу догонять. Я тоже поехал. А Ляпунов уж далеко ушел: насилу мы его под Симоновым монастырем настигли.
Упали все с коней прямо наземь, и давай челом бить:
– Батюшка, государь Прокофий Петрович! Не губи! Пожалуй, ворочайся! Без тебя мы святого дела составить не возможем, Москву не освободим, а казаки нас всех порубают и поместья отберут. А мы уж за тебя порадеем, в обиду не дадим, мы и помереть за тебя рады.
Долго его упрашивали. Он в седле сидел гордо, хмурился, усы топорщил, молчал. Наконец умилостивился жалостными словами, поворотил коня и поехал обратно.
Июля 22-го дня
О горе лютое! О Боже милосердный, доколе не иссякнет фиал гнева твоего, на нас изливаемый?
Казаки Ляпунова убили. Заманили его на круг свой казачий. Он не смутился, пришел. «Никто не посмеет сказать, что я казачишек мятежных испужался».
Они ему грамоту суют:
– Ты писал?
– Нет, не я.
– Рука-то твоя!
Поглядел Ляпунов на грамоту пристально.
– Рука на мою похожа, но не моя. Это врагами делано. Откуда вы, братцы, взяли сие письмецо?
– Врешь, ты писал!
– Кабы я писал, я бы теперь не отказывался. Я вас, братцы, не боюсь – хотите, убейте меня! А Ляпунов отродясь не лгал и лгать не станет, хоть бы иради жизни своей. Всех казаков побить – мне таковое неразумное дело и в ум не войдет. А наказать вас пристало, чтоб не сеяли смуты в православном воинстве, да чтоб под честных воевод не копали. И я вас, братцы, видит Бог, накажу.
– Бей его! – закричали казаки. И ничего уже более не слушали: обнажили сабли и бросились всем множеством на Прокофия, и тут же его до смерти зарубили.
Июля 23-го дня
Земские ополченцы не только в скорби великой и унынии от гибели славного воеводы, но и в страхе и в ужасе от казаков. Ждут со дня на день, когда казаки их бить придут. Пока же до явного боя дело не дошло, но много бранных слов говорится и иных грубостей делается.
А Иван Заруцкий сказал:
– Я, – говорит, – премного печалюсь о Прокофии. Я его казнить не веливал, это мои люди по своему усмотрению распорядились. Но по правде сказать, печалиться нечего. Есть у нас и другие добрые воеводы. Вот хоть бы и я сам: чем не замена Ляпунову? Сами увидите: мы и без Прокофия литву будем бить не хуже.
А земские уже разбегаться начали: сегодня вологодские дворяне и дети боярские, до шести десятков, тайно ушли домой. И другие меж собою о бегстве уговариваются.
Июля 28-го дня
В казацких таборах учинился внезапно великий вопль и свист: выскочили казаки из землянок своих и к бою изготовились, и стали оружные туда-сюда ездить. У нас в земском таборе случилось смятение от страха: все мы возомнили, что казаки против нас ополчаются. Сотни две наших тотчас ускакали прочь и не вернулись, да и остальные о том же помышляли. Но обошлось на этот раз: Заруцкий казаков повел не на нас, а на приступ к Девичьему монастырю. Ох, и во-время же я Настёнку оттуда вытащил!
Поскакал я поглядеть. Казаки в великом числе облегли монастырь и смело на приступ кинулись. Но немцы в них стали сильно стрелять, и казаки отступили с немалым уроном. Заруцкий же не дал врагам опомниться и вдругорядь повел на приступ. Так приступали они целый день до вечера. Когда же настала тьма ночная, я обратно поехал к нашему стану на Яузу.
Августа 4-го дня. О взятии девичьего монастыря
Не достало у немцев зелья пищального: Гонсевский к ним ночью прислал 20 человек, а у каждого по мешку с порохом. Но и этот порох быстро исстреляли. Тогда немцы сдались на казачью волю. У казаков же известно, какая воля, только злое своевольство, чести и закона они не ведают. Схватили немцев и всем головы поотсекли. А потом в монастырь повалили толпой на грабеж.
– Веселей, братцы! – кричали они. – Поднажми! Воротца-то узковаты! Там монашек молодых полно, ужо мы позабавимся!
Тут я ужаснулся великим ужасом, из-за Ксении царевны. Боже, думаю, упаси ее и сохрани от буйства казачьего! И побежал я пеший в монастырь, вовсе о сбережении жизни своей не помышляя. Только лик царевнин перед глазами видел, и как помогала она мне, когда я в Троице во осаде конечно погибал и пропадал.
Заметили меня казаки, окаянные воровские черти, стали по лицу кулаками бить, а потом и сапогами.
– Ах ты, щенок, земская харя, ляпуновский прихвостень! Как мы кровь свою проливали, вы в сторонке стояли, а как монастырским добром поживиться, вы первыми лезете! Вот тебе! Получи свою долю!
Убили меня чуть не до смерти. Я и с земли встать не мог, переломанных ради ребер.
А казаки в монастыре лютовали. Потом пригнали возов, и стали монашек выводить и на возы сажать. Выводили же бедных черниц безо всякого добра, едва не донага раздетых и обобранных. Будь человек хоть с каменным сердцем, и тот от такого жалостного зрелища не смог бы слез удержать.
Казаки же только смеялись и даже не стыдились грубыми своими руками добрых монахинь хватать за сокровенные места. И некому было святых инокинь защитить, никто за них не вступился, а если бы и вступился, его самого бы тотчас растерзали. А монашки только друг к другу теснее прижимались и слезы горькие лили, и вопили, отчаявшись спасения. А казаки велели им прочь ехать.
– И чтоб духу вашего больше здесь не было. Куда хотите, туда и езжайте, вы нам тут не надобны. А что мы одежку вашу побрали, не серчайте: теперь лето, на дворе не студено. Молитесь за атамана Заруцкого, что не велел вас смертью казнить ради вашего священного чина, который вы сами же и опозорили, немцам прислуживая.
Царевну Ксению я приметил в одном из возов, а рядом с нею и королеву Марью. Обе, слава Богу, живы, хоть и ободраны как все прочие, а у царевны под глазом синяк. Но вот Иринки Тимофеевой, Настасьиной подружки, я не видал ни живой, ни мертвой.
Уехали монашки, а я еще долго под воротами лежал, и шевельнуться не мог, ни же голоса подать, ибо ребра сломанные у меня в нутро воткнулись и вздохнуть не давали. Казаки меня, верно, за мертвого посчитали, потому и не добили.
А ввечеру я кое-как собрался с последними силами и отполз от того злосчастного монастыря сажен на двести, к пруду. Там и забылся сном. Наутро нашли меня троицкие слуги, принесли к Аврамию. А он меня в постелю положил и велел лечить.
Вот теперь я уже все разумею и даже ходить могу сам до отхожего места. Аврамий же мне велел в Троицу ехать и там сидеть, пока совершенно не исцелюсь.
– Довольно, – сказал он. – Хватит с меня твоего геройства. А земское ополчение все равно расходится. И казацкая воля во всем творится, и нечего нам более делать под Москвой.








