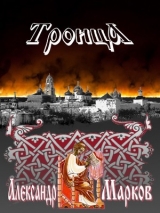
Текст книги "Троица"
Автор книги: Александр Марков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Июля 18-го дня
Обманули нас проклятые псы, цариковы люди. Приехали к ним наши гонцы, говорят: – Мы свое клятвенное слово сдержали, Шуйского свергли. Выполняйте теперь вы свое: вяжите вора и тащите к нам в Москву.
А те им отвечают:
– Очень дурно вы поступили, нарушили крестное целование, предали государя своего. Увы вам, несчастные! А мы своей присяге верны. Да здравствует сын Иоаннов! А ну, пошли прочь, сволочь московская! Усмрем за Димитрия!
И вот опять Москва в смятении, народ шумит, квас вздорожал. А я услышал ненароком беседу старца Аврамия с Филаретом Никитичем, как Аврамий Филарету говорил:
– Надобно тебе уразуметь, Филарет Никитич, что нам теперь от Владислава не отвертеться. И Василью Васильевичу это скажи, коли встретишь его, и Ляпунову.
Что-то душа моя неспокойна. А ну как мы и впрямь неправое дело совершили, что подняли руку на государя? И нас Бог теперь за это покарает? Неужто опять польются реки кровавые?
Июля 19-го дня
Слушал я молебствие в Кремле у Пречистой соборной. Патриарх Гермоген призывал вернуть Василию царский венец, а на ослушников и мятежников грозил клятву наложить.
А в Стрелецкой слободе поймали людей Шуйского, которые стрельцам деньги раздавали, чтобы они за Василия постояли. Захар Ляпунов как узнал об этом – премного осерчал и сказал: надо-де Василию глотку заткнуть. И без него-де довольно смуты. И пошел с князьями Турениным, Засекиным, Волконским да Тюфякиным, да с дьяками, да с попами, да со стрельцами в дом к Василию, и там они его насильно в монахи постригли. Сказывают, будто сам Захар Василия за руки держал, чтобы то драки не учинил. А когда поп, обряд совершая, спросил Василия по обычаю, хочет ли он постричься, Василий на всю избу заорал: «Не хочу!»
А обещание иноческое за Василия говорил князь Туренин. Другие же сказывают, что Тюфякин говорил, а третьи – что Иван Салтыков. Но все согласны, что сам Василий не говорил обещания.
Теперь нам уж поздно свои мысли переменять. Кончено! Осталось только на Бога уповать. Гетман Жолкевский лишь того и ждал, чтобы Василия убрали, и того ради не шел к Москве. Теперь дождался; стало быть, завтра иль позавтра здесь будет с войском.
Июля 23-го дня
Поехал я к Настёнке, да не доехал. Только до деревянной стены и добрался. Чертольские ворота затворены, стрельцы не пускают ни входящих, ни исходящих. Говорят, войско вдали показалось.
Ладно, думаю, проеду Арбатскими. Приезжаю к Арбатским – там стреляют. Я у ратных спрашиваю:
– В кого ж вы, братцы, стреляете?
– А в литву! Пущай не лезут!
– В какую литву? Сапежинцы, что ли, на приступ пошли?
– Ага, видать, сапежинцы.
Выглянул я в бойницу, гляжу – а там гетмановы люди Жолкевского, уже на нашем берегу, но, впрочем, не столь близко к стенам, чтобы стрельцы их уязвить могли.
– Что ж вы делаете, – говорю я ратным. – Это же не цариковы люди, а гетмановы. Они с миром пришли!
– Кто их, хохлов, разберет! Все лысые. Стреляй, Семен! Бей литву!
– Вот достреляетесь, что вам головы снимут. Этих поляков сам Федор Иваныч Мстиславский многажды звал, чтобы они вора помогли прогнать.
Угомонились стрельцы, смотрят на поляков, призадумались. А те уже близко. Вдруг выехал вперед один всадник, в русской одежде, как будто знакомый мне. Я из бойницы голову высунул, чуть уши себе не оборвал, пригляделся – да это же Григорий Волуев! Вот радость-то!
– Здорово, Григорий! – кричу я ему. – Какие вести привез? А мы Шуйского свели! А вор в Коломенском стоит!
– Данило, ты ли это? Как жив-здоров? Да вы бы ворота отворили, мы ведь не воевать вас пришли.
Стрельцы отворили ворота, только велели литве отъехать прочь и в город никому из пришлых не входить. Мы сами им навстречу вышли.
Обнялись мы с Григорием, даже прослезились оба. Но не успели потолковать. Внезапно зазвонили колокола, прискакали из Кремля гонцы боярские, сказали, что коломенцы напали на город, к Серпуховским воротам приступают.
Гонцы далее поспешили, к гетману, а Григорий кликнул своих воинов и сказал стрельцам:
– Братцы, дозвольте мне воров проучить. Пропустите в город! Я Григорий Волуев, служил князю Михайлу Скопину, может, слыхали обо мне?
– Слыхали, батюшка, как не слыхать. Ну, проезжай, Бог в помощь.
Поскакали мы через весь город. И Михалка Салтыков за нами увязался с казаками: тоже захотел, подлец, отличиться, тушинские грехи искупить. Ну да я не забуду, как он нам под Троицей пакостил.
По дороге Григорий кричал войску своему:
– Веселей, ребята! Сапежинцы, небось, только нас увидят – сейчас хребет покажут, вспомнят Троицу!
Так и вышло. Не успели мы из Серпуховских ворот выскочить, как воровские рати от города отступили и вернулись к себе в Коломенское. Вреда же только и натворили, что кирпичный двор сожгли.
Вот так я нынче до Настёнки и не доехал.
Июля 25-го дня
У Девичьего монастыря, по правую сторону, где роща – там у нас с Настёнкой условное место для разговоров. Едва я к роще подъехал, слышу: какая-то девица жалобно кричит и восклицает, дескать, помогите, добрые люди. Я испугался: уж не Настёнка ли в беду попала? Но голос был не Настёнкин, и вскоре я смекнул, что это, должно быть, подружка ее Иринка рыжая. Подъехал я ближе, гляжу: и точно: Иринка. Поляк Блинский на нее из кустов напал, наземь повалил и как будто жизни ее хочет лишить: хватает за руки, за ноги и за иные места, да еще рот зажимает, чтоб не кричала. Он, еретик некрещеный, видать, реку переплыл втихомолку, чтобы против христианских девиц злое промышлять. Я же не мог на токое бесстыдство смотреть без душевного содрогания, ни бездельным оставаться. И вздумал я подать Иринке помощь. Хотя она едва ли того заслуживала по делам своим, ибо многажды нам с Настёнкой мешала спокойно беседовать и грубыми и пакостными насмешками всячески изводила.
Обратился я к Блинскому с увещевательной речью, но он меня восе не послушал, ибо был пьян мертвецки. Тогда я сошел с коня, поднял палку тяжелую и ударил со всей силы этого воровского поляка по голове его латинской. И он тотчас же перестал над Иринкой мучительство чинить и впал в беспамятство, на земле распластавшись. А мы с Иринкой его поскорее связали, чем Бог подал, и поспешили в разные стороны: Иринка в монастырь, поведать Настёнке и сестрам о своей беде и счастливом избавлении, а я в город. Позвал я на помощь троих стрельцов, знакомцев моих. Вместе мы того Блинского, привязав к коню, повезли на польский берег к гетману. Там напротив монастыря, на большой дороге Смоленской, уже белый шатер парчовый поставили, чтобы нашим боярам с поляками в том шатре договариваться об избрании Владислава на царство.
На мосту наплавном встретили мы московских приказных людей, которые везли в польский табор большую телегу, холстом прикрытую.
– Что за товар везете, братцы? – спросили мы у них.
– А гостинец гетману от князя Мстиславского, – ответили они. – Арбузов да вишен. А вы с чем едете?
– А мы ему тоже добрый арбуз везем. Вот этот, вишь ты, еретик над монастырскими девками хотел насильство чинить. Пускай те перь гетман покажет, какой он нам, москвитянам, друг и о нашем благе радетель.
Привезли мы Блинского к самому польскому стану у речки Сетуни, и там польские приставы его у нас забрали и унесли. А гетман велел нам передать на словах, чтобы мы о том постыдном деле московским людям отнюдь не рассказывали, дабы из-за одного нечестивца не испортить столь трудно добытого согласия и не помешать мирному совещанию. А Блинского гетман обещал наказать, но не смертью, а полегче, того ради, что Блинский не успел греховного дела сотворить, а только лишь покусился. И наперед гетман поклялся своих людей до таких наглостей не допускать. И дал нам всем четверым поминки, по арбузу каждому.
Настёнка с Иринкой премного обрадовались арбузу. Сей редкостный плод весьма вкусным оказался: мякоть у него красная, сладким соком напоенная; во рту словно мед растекается. Половину мы сами съели, а половину девицы отнесли царевне Ксении и королеве Марье.
Августа 4-го дня
Дал Бог, у нас все тихо да ладно. Воровское войско на город более не нападало. А бояре по сей день всё советуются с поляками, как бы избрать Владислава на царство. Никак не могут уговорить гетмана, чтобы Владиславу креститься в православную веру. Гетман-то отнюдь против нашей веры не возражает, но говорит, что нельзя силою нудить королевича: он-де сам волен решать, в какой ему быть вере, и как он рассудит, так тому и быть.
А другой спор вышел у наших с поляками из-за того, что поляки хотят поставить своих воевод и приказчиков в Северских городах, а наши боятся, не пропали бы оттого их поместья в Северской земле.
Пока у бояр на польском берегу переговоры, у нас с Настёнкой на московском берегу свои совещания. Но об этом я не стану упоминать из опасения, как бы кто в мое писание не подглядел.
Августа 13-го дня
Келарь Аврамий нынче целый день в великой тревоге пребывал, и многими трудами и заботами себя и нас конечно измучил. Я с утра до самого солнечного заката по Москве бегал, келаревы грамоты разным большим людям носил, и ответные их писания Аврамию доставлял.
Гетман-то согласился не ставить польских воевод в городах Северских, а наши бояре возрадовались и хотели сразу же составить решительный договор, ибо не чаяли ничего сверх того у поляков выторговать. Но о Владиславовом крещении Жолкевский по-прежнему говорит вкривь и надвое! Вот старец Аврамий и убоялся, как бы бояре в ослеплении сбезумном, снедаемые алчностью и не имея о вере должного попечения, не посадили бы на московский престол еретика. И могла бы случиться великая беда, когда бы не выручил нас патриарх Гермоген (а я ему тоже сегодня Аврамиево послание передал).
Пришли бояре к патриарху испросить его патриаршего благословения на договор с гетманом. А патриарх и говорит им:
– Не будет вам благословения, ибо в вашем договоре не сказано, что королевич в истинную веру креститься должен. Сей же королевич есть ветвь от древа гнилого и горького, кривого и злопакостного, обреченного искоренению от Бога. Только ради величества рода его избираем. Если же не освятится королевич водою и духом, как подобает, и не отвратится от своего злого корня, то не быть ему государем московским!
Осерчал тут великий старейший боярин князь Федор Мстиславский, топнул ногой и воскликнул:
– Пристало ли тебе, попу, в мирские дела мешаться?! Насилу мы с гетманом уговорились и уложили доброе соглашение в нашем мирном совещании, а ты нам хочешь все дело расстроить и снова ввергнуть нас в недоумение!
Но напрасны были его крики и ругательство, ибо патриарх нисколько не испугался, и договора не благословил.
Августа 18-го дня
Наконец-то составилось доброе дело: договор с поляками заключили, и патриаршее благословение получили. Гетман во всем нам уступил; даже согласился не строить латинского костела для тех поляков, которые в Москве будут жить при королевиче. А на этом костеле Жолкевский наипаче настаивал. О крещении же Владиславовом положили советоваться Московскому великому посольству с самим королем Жигимонтом; гетман же поклялся короля лично просить, дабы все было устроено к нашему удовольствию.
Теперь на Девичьем поле расставили шатры красивейшие, и там весь народ московский приводится к крестному целованию. Первым гетман Жолкевский крест целовал в верности уговору, а с ним и все польские начальники. Потом наши бояре; за ними мы, служилые люди; а после нас всё народное множество. Так до сих пор они там крест целуют. Ради этого преславного дела, царского избрания, во всем городе шум великий, празднование и колокольный звон.
Один только келарь Аврамий невесел: даже меня выбранил безвинно.
– Ты, – говорит, – Данило, все веселишься, да со служилыми людьми винопитию предаешься, да по девкам бегаешь, а не чуешь беды неминучей, кою нам поляки уготовили. Обольстили нас обещаниями, а мы им, нехристям, поверили на слово. Разве можно еретикам доверятся? Для них присягнуть – что ягоду проглотить. Они же только о том и помышляют, как бы нашу истинную веру искоренить и святые церкви разорить. Помяни мое слово: быть беде!
И снова Аврамий принялся грамоты писать и гонцов посылать во все концы. Только я от той рассылки ускользнул и пошел за город на Девичье поле, с Настёнкой калачи есть.
Но Аврамий, может статься, и не всуе тревогою опечален. Настёнка рассказала, что приходили к ее монастырю пьяные литовские казаки и кричали:
– Эй, москва! Вот вам королевич! – и с таковыми словами снимали штаны и срамные места показывали монашкам. – Приехал от короля Федька Андронов с наказом гетману, чтобы заставил вас присягать самому Жигимонту, а буде вы не захотите, так порубать вас всех, русских свиней, и город ваш сжечь!
Тут прискакали польские рыцари, похватали тех казаков, а монастырским людям велели словам их не верить: они-де спьяну вздор болтают.
Но черницы и служечки этими мятежными речами и непристойным зрелищем так напуганы были, что попрятались в кельях и там полдня молились.
Вот я и думаю теперь, как бы разузнать, вправду ли Федька Андронов от короля такое писание привез?
Августа 23-го дня
Келарь Аврамий послал меня на Сетунь-речку в польский табор вызнать всё неложно о Федьке Андронове и о том королевском письме. Четыре дня я там пробыл, к людям с расспросами притступал и всячески ухищрялся. Но всё тщетно. Андронов подлинно приехал, и письмо привез тайное. О том же, что в письме, никто не ведает. Я и у Волуева спрашивал, и у многих поляков, когда они пьяными напивались. А тех казаков, что по Девичьим монастырем орали, гетман казнил смертью. Может, поляки оттого и онемели, что боятся их судьбу разделить?
Келарь Аврамий сказал, что, по всему судя, те казаки истину говорили. Иначе зачем бы гетману их так сурово казнить, и самое письмо королевское в такой великой тайне содержать? Должно быть, гетман ждет, чтобы его в Москву пустили; тогда, овладев нашими стенами и башнями, и нарядом огнестрельным, он уже не станет более скрывать своих коварных помыслов и силою заставит нас покориться Жигимонту.
Августа 25-го дня
Искони было в Москве главное торжище в Китае городе на Пожаре и в рядах. А теперь, ежели вздумал купить что-нибудь – иди за город на Девичье поле. Все продавцы туда перешли: и рыбные, и ветошные, и хрустальные, и серебряные, и даже, особо скажу, калашные. Там они в поле и торгуют, между городом и польским табором. И вот из-за этого скопления всякого и невесть какого народу, казаков и поляков и москвитян, и даже коломенских воровских людей; из-за такого шума и нестроения и драк и множества соблазнов – ради всех этих причин – игуменья теперь девок из Девичьего монастыря не выпускает, и ворота у них всегда затворены.
Августа 26-го дня
В купилищах да в церквах московские люди меж собою шепчутся: дескать, поляки нас обманут, посадят нам не королевича, а самого своего нечестивого короля, и станут русских людей неволею в латинство обращать, и души наши на вечное мучение обрекать.
Я-то знаю, кто этим разговорам главные заводчики: митрополит Филарет, да келарь Аврамий, да князь Василий Голицын. Но о том промолчу. А вернусь к прежнему рассказу и поведаю, какие еще я слышал меж людьми мятежные речи. Говорят:
– Условимся, братцы! Как пойдет на приступ коломенский царик, ударим в колокола да откроем ворота царику. Он хоть и вор и пакостник, а все же свой, православный. Лучше вору покоримся, чем латинам богомерзким отдадимся на поругание.
Августа 27-го дня
Гетман Жолкевский, верно, смекнул, что не будет Москва спокойна, пока царик в Коломенском стоит. Поднял он свое воинство и повел к табору Сапеги. А бояре послали наших московсих стрельцов Жолкевскому на подмогу.
Сапега выехал навстречу гетману, и долго с ним толковал, пока рати стояли друг против друга. Не знаю, о чем они там говорили, но кончилось тем, что Сапега обещал более царику не пособлять. Однако и с королевским войском не пожелал совокупиться, а остался на вольных кормах (это значит: будет как прежде, своею волею безначально грабить и разорять государство Российское).
Царик же, сведав об измене главного своего воеводы, заперся в Mикольском Угрешском монастыре. А бояре цариковы, князья Долгорукий, Сицкий, Засекин и прочие, покинули своего вора тотчас вслед за Сапегой, и прибежали в Москву с повинной.
Один из этих перелетов, именем Григорий Сумбулов, будучи у нас на Троицком подворье, рассказал такую потеху о царике: как пришли к нему гонцы от Жолкевского и от Сапеги и говорят:
– Поелику наше славное польское рыцарство вашей царской милости служить более не могут, то вы не извольте нисколько сожалеть и гневаться, а соблаговолите принять с благодарностью данное вам судьбою и Богом всемогущим, а именно вот что: его королевская милость Жигимонт твоей царской милости жалует один городок в своей великой польской державе, какой изволишь выбрать по своему хотению, Самбор либо Гродно. И пусть твоя царская милость этим удовольствуется и не требует большего, потому что ты сам видишь: Москва отдалась Владиславу, и Москвы тебе не взять, Сапега тебя оставил, и в самом Российском государстве нет у тебя сильной стороны.
Царик же, выслушав эти речи, воскипел сильно гневом и закричал:
– Ах вы изменники! Так-то вы блюдете свою присягу! Погодите, я еще войду в силу, тогда пожалеете о своей неверности, да будет поздно. А от короля Жигимонта я таких позорных посул не желаю и слушать. Скорее я стану служить у мужика, и добывать кусок хлеба трудом рук своих, чем смотреть из рук его королевской милости.
Тут выскочила Марина Мнишкова и сказала:
– Пусть король отдаст царю Димитрию Краков, а царь ему, так и быть, уступит Варшаву!
Здесь я для невежд растолкую, что Краков есть величайший польский город, Варшава же городок поменьше.
И вот после таких разговоров царик с Маринкой заперлись в Никольском Угрешском монастыре с казаками и с атаманом Ивашком Заруцким.
А наши великие бояре внезапно возлюбили Сапегу великою любовью, и послали послов к нему с арбузами и иными гостинцами.
Я же теперь думаю и не могу уразуметь: для чего мы в Троице в осаде сидели, от цынги и от тесноты умирали, и не сдавались, и хотели лучше погибнуть, чем Сапеге отдать монастырь? Для того ли, чтобы бояре нынче Сапегу арбузами потчевали? Горе нам! В конец обезумели мы! И зачем Шуйского с царства свели? Бояре-то, нынешние наши управители, чем лучше Василия? Не диво полякам на милость отдаться, а что из этого выйдет? Скорее худо, чем добро. Вот и Настёнка так же рассуждает; хоть и не девичье дело рассуждать, а все же я с ней во многих помышлениях бываю согласен: от Бога разумом не обделена.
Августа 28-го дня
Прибежал к нам в Богоявленский монастырь дьяк патриарший Никола Рыбин и как завопит:
– Литва в городе! Бояре литву впустили!
Я тотчас
же в Кремль поспешил и там доподлинно разузнал, что бояре и впрямь дозволили Жолкевскому с войском пройти через город, дабы с неожидаемой стороны ударить на вора. Но обошлось без беды: гетман клятву свою не нарушил и не захватил Москвы, а прошел мирно и направился к монастырю Никольскому. Вор же, сведав о его приближении, убежал от Москвы подальше, а куда – того не ведаю. Наверно, опять в Калугу подался. Всяко под Москвою его больше нет. Вот уже и польза нам от поляков.
Августа 30-го дня
Вчера Жолкевский в своем таборе большой пир учинил: праздновали изгнание вора. Позвали московских бояр и дворян и служилых людей. Я тоже пошел. А гетман нас дарил подарками: кому коня дал, кому чашу серебряную. А мне досталась сабля с ножнами.
Пир был веселый. Мы с Григорием заморские вина пили и до того допились, что я на обратном пути с коня упал и чуть до смерти не зашибся. Ползал потом в кустах, аки зверь лесной, подбирал сласти латинские, которые с пиру вез для Настёнки.
Лета 7119, месяца сентября 12-го дня
Вот я снова в пути, и нескоро удастся мне теперь Настёнку повидать. Еду к Жигимонту под Смоленск с великим посольством от всех городов российских и от всех чинов людей бить челом этому прежде помянутому нехристю, нечестивому королю, чтобы дал нам на царство своего поганого сына.
Великих же послов назначила дума боярская, но не по своему разумению, а по гетманову указу.
Келарь Аврамий говорил, что надобно таких послов избрать, чтобы без всякого страха и смущения твердо стояли за православную веру, ни на шаг бы не уклонялись ни направо, ни налево, и чтоб никакими посулами не прельщались и угроз не боялись, и требовали бы непременно Владиславова крещения, и всех других установлений нашего с гетманом договора непреклонного исполнения.
Где таких послов найти? Люди российские от долгой смуты и неправды премного расстроились, изуверились и чуть от Бога не отпадают: все изолгались, всяк лишь свою корысть блюдет, все изменники. Один остался боярин честный, к полякам непреклонный: князь Василий Голицын. Он было хотел сам на царство воссесть, и против Шуйского был первый заговорщик. Верно, он и по сей день о царстве помышляет. Но Аврамий хитер: «Невелика беда, – сказал он, – коли боярин сей царства себе похочет. Во благо нам станет властолюбие его, ибо он не помыслит Россию предать Жигимонту или иному псу некрещеному. Прочие же бояре из зависти могут учинить подлое дело, размыслив так: хоть нехристю державу вручить, лишь бы Ваське Голицыну напакостить.»
Вот Аврамий с Филаретом и надоумили того князя Василия подольститься к гетману. Василий же, по их наущению все в точности исполняя, пришел к Жолкевскому, залился слезами и сказал:
– Хочу ехать к его королевской милости Жигимонту, просить королевича на царство. А Владислава буду молить, чтобы крестился, но если и не крестится, всё равно буду ему прямить и никогда не изменю: он нам природный государь, мы ему крест целовали.
Гетман умилился Васильевым речам и поставил его главой великого посольства. А от духовного чина назначен старейшим послом митрополит Филарет. От него-то Владислав и должен будет крещение принять, а совершить сей обряд священный надлежит еще в Смоленске, прежде въезда королевичева в Москву. Филарет человек достойный и знаменитый, он веру православную и нас, добрых христиан, вовеки не предаст, и поляки от него потачки не дождутся.
Келарь же Аврамий не хотел к королю ехать, думал в Москве просидеть: надо же кому-то и здесь творить попечение о вере и о делах дома Пресвятой Троицы. Но гетман тоже не лыком шит: он, видно, задумал всех опасных людей и тайных недоволов из Москвы выслать и под Смоленск отправить, чтобы они там в королевской власти оказались и не могли бы в Москве гетмановы планы расстроить. Говоря вкратце, велено было старцу Аврамию ехать с посольством к королю. И он поехал неволею.
А уж я-то как хотел в Москве остаться! Но и меня принудили. Приказал же мне ехать не гетман даже, а старец Аврамий.
– Куда мне, Данило, без тебя, – сказал он. – Ты в посольском деле навычен: вон уж сколько наездил. Поможешь мне, старому пню, перед королем не осрамиться.
И знатнейшего из бунтовщиков, искусного в кознях, и в низлагании царей преуспевшего – Захара Ляпунова – отправили тоже под Смоленск.
Всего поехало нас свыше 1000 послов: от бояр, и от дворян, и от думных дьяков, и от стрельцов, и от всех прочих чинов из многих городов русской земли выборные лучшие люди; да сверх того еще писцов и слуг 4000.
Едем медленно: со многим и долгим бездельным стоянием в селах и городах. На этой дороге я уже каждое дерево и каждую избу знаю наперечет. Довольно скучаю.








