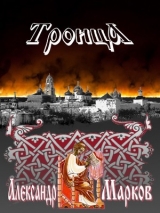
Текст книги "Троица"
Автор книги: Александр Марков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Ноября 22-го дня
Ввечеру поляки учинили приступ, и довольно ужасный. Нас, послов, окружили войском, чтобы мы не вздумали смоленским сидельцам какую-нибудь помощь подать. И с нашего места нам было плохо видно.
Вначале гром великий грянул: поляки взорвали подкоп, и вся Грановитая башня рассыпалась, а с нею и полпряди стены в воздух взлетело. Но смольняне храбро защищались и нисколько не унывали, а быстро и ловко стали пролом заваливать, и насыпали там из камней, и бревен, и всякой рухляди превысокий вал. И мужественно отбивались, и не допустили литву в город.
Отступили королевские люди с позором. Ай да смольняне! Дай им Бог и впредь так же поганых побивать.
А мне келарь Аврамий сказал:
– Данило, вижу я теперь ясно, что из нашего посольства проку не будет. Мы и так уже почти что пленники у короля, а кончится тем, что нас похватают и в Литву увезут, и там заморят до смерти, и мы своего отечества вовеки не увидим. Надобно отсюда уезжать, пока не поздно. Согласен ли ты со мной?
– Согласен, батюшка. Я-то только того и чаю, как бы поскорее в Москву вернуться.
– Ну, добро. Тогда готов будь на хитрость пойти, чтобы у короля отпуск получить.
И больше он ничего не прибавил, оставив меня в смущении ума.
Ноября 24-го дня
Снег выпал. Аврамий мне сказал:
– Сейчас придут паны, я стану с ними говорить, а ты ничему не удивляйся и не пугайся. На меня смотри, да сам соображай. А наипаче всего помни, что надобно нам отсюда живыми на волю уйти.
Протопили мы избу, вымахали дым, да оделись побогаче. Аврамий велел сажу со скамьи стереть да принести бумаги лучшей и перьев. Едва холопы со всем управились, входят к нам поляки, четверо мужей. Кланяются келарю и говорят:
– Досточтимый господин святейший архимандрит Аврамий! У Аврамия на архимандрита только щека дернулась да глаза маленько выпучились, но смолчал, не стал перечить.
– Король его милость весьма удовольствован твоим разумением и мудрым соглашением с его величеством. Поелику ты доброю волей возложил на себя труд верного и неизменного служения великому государю королю и обещал держать его сторону всегда и всюду, и склонять московских людей и троицких к королю его милости, то вот тебе от короля его милости грамота на вольный проезд в Москву, для тебя и для всех прочих монастырских людей, слуг и холопей, числом двенадцать человек.
Аврамий сказал:
– Благодарствую. А как изволил рассудить наияснейший государь о нижайшей просьбе моей, касаемо тех малых селишек и деревнишек, кои потребны на исправление убытков святой обители, Троицкого Сергиева монастыря, понесенных нами в осаде от воров и после от бывшего царя Шуйского, и на прокормление братии?
– Король его милость изволил прошение твое удовольствовать. Вот, подпиши челобитные; они государю надобны для памяти, чтобы одним поместьем двоих не пожаловать. А вот, изволь, получи грамоты на четыре села Троицкому монастырю в вечное и беспошлинное владение.
Проглядел Аврамий жалованые грамоты и сказал, на меня перстом указуя:
– Я просил паки его величество за этого молодца боярского сына Данила Вельяминова, чтобы изыскал государь ему поместьишко. Всем дали, ему забыли. А ведь он с Григорьем Волуевым в Цареве Займище из первых поддался королю его милости, и много славных дел совершил на благо государя. Подавайте грамоту, а без того мы отсюда не уедем.
Паны вмале поморщились, но достали все же несколько грамоток, подали Аврамию и сказали:
– Так и быть, изволь выбрать одно село для этого пахолка, да уж больше отнюдь ничего не проси, не превысь меру совести и королевского к тебе благоволения.
Выбрал Аврамий одну грамоту и стал в нее мое имя вписывать, а в грамоте той значилось: «Его наияснейшее… король Сигизмунд… жалует… Нижегородского уезду селом Горбатовым… во владение…» и прочая. С печатью королевской. У меня аж дух перехватило.
– Где это, батюшка? – спросил я Аврамия.
– Не мешай! Видишь сам, написано: «уезду Нижегородского». Будет время – съездишь, найдешь.
Едва дождался я ухода панского, и тут уж не смог сдержать слез от умиления, так меня эта забота Аврамиева за сердце тронула.
Ноября 26-го дня
Захворали мы со старцем Аврамием. Лежим на полатях да охаем. Только эта хворь не взаправду, а того ради, чтобы на совет с Филаретом не идти. Нынче многие из нас уезжать собрались, кто из страха или за ласку Сигизмундову, а иные как мы, по хитрому умышлению, чтобы на волю попасть и там снова Российскому государству служить и за Христову веру стоять. В плену много ли сделаешь? А здесь мы все равно что в плену.
Только Филарет с князем Голицыным не хотят поддаваться королю, и нашему отъезду претят. Они двое суть величайшие послы, потому они и не могут поддаваться. Иначе Сигизмунд по праву станет над нами царствовать. Оттого их стойкость и долготерпение следует хвалить и славить. Но нас, послов, тут много, и незачем всем купно пропадать. Аврамий Филарету об этом не раз говорил, да Филарет не слушает.
– Не оставлял бы ты нас, Аврамий, – говорит он. – Нам такое великое дело поручено, а мы его не только не сделали, но даже не начали.
Вот и нынче опять хотел нас уговаривать, но мы к нему не пошли, ибо захворали.
Ноября 27-го дня
А Захар-то Ляпунов и вовсе к полякам пристал, в их таборы переселился. И над Филаретом и князем Василием смеется, говоря, что они не послы, а ослы, ибо упрямы сверх меры.
Ноября 28-го дня
Поехали мы прочь. Мне даже вмале совестно, что мы Филарета с Голицыным в такой беде покидаем, и на заклание их, словно незлобивых агнцев, оставляем. Дай им, Господи, сил и крепости стойкими пребыть до конца. И смольнянам осажденным того же желаю.
Санный путь уже уставился добрый; доедем быстро.
Декабря 4-го дня
В городе Москве.
Дал Бог, Настёнка жива-здорова. В Девичьем монастыре и впрямь стоят ляхи, также и немецкие наемные люди. Но никакого худа не творят, смирно живут.
Я ей говорю:
– Иди, Настасья, за меня замуж. У меня теперь поместье имеется, село Горбатово Нижегородского уезду.
Она же, неблагодарная отроковица, надо мною посмеялась и поносными обидами обругала:
– Мал ты еще. Лучше сопли утри, помещик. Да я тебя на полголовы выше.
Я было разгневался, но она не дала мне слова сказать.
– Нынче для свадеб время неповадное. Знаешь, что у нас на Москве учиняется? Пойдем-ка скорее, я тебе страшилу покажу.
– Какую страшилу?
– А такую, что увидишь – жениться расхочется.
– А куда пойдем-то?
– К Сретенским воротам.
Пошли мы, а путь неблизкий. Поляки конные, оружные, по всему городу разъезжают, за народом приглядывают. Людей же московских на улицах мало, да и те угрюмы и неприветливы.
– Поляки в Китае городе и в Кремле укрепились. Словно в осаду готовятся сесть: все пушки с Деревянного города сняли и велели нести их в Кремль и в Китай.
– А и здесь, на Белой стене, вроде меньше стало пушек.
– Значит, и отсюда поснимали.
Идем далее. Настёнка говорит:
– Помнишь того ляха, что на Иринку напал, а ты у него Иринку отнял?
– Помню, – говорю. – Как не помнить. Это Блинский. Мы с ним еще в Цареве Займище зернью играли.
– Так он доигрался. Казнили его.
Тут в самый раз достигаем мы ворот Сретенских. Там народу много, все на ворота глядят и крестятся. Гляжу и я: Боже милостивый! На воротах, прямо под образом Пречистой Богородицы, прибиты гвоздями две отрубленные руки человеческие.
Испугался я, перекрестился.
– Что же это, – говорю, – Неужто поляки живого человека заклали, аки филистимляне? Зачем под Божией матерью такую мерзость прибивать?
– Я же говорила: страшно станет. Это Блинского руки. Отсекли ему и руки, и ноги, а остальное сожгли живьем.
– За что его так?
– Поставили его ворота стеречь, а он напился пьян и стал из пищали стрелять.
– Ну, это дело пустяковое. Разве за такое руки рубят?
– А его не за то казнили, что стрелял, а за то, куда целился.
– Куда же он целился?
– Не смею вымолвить.
И договорила мне на ухо шепотом:
– В образ Пречистой!
Декабря 5-го дня
Дела на Москве творятся предивные. Был царствующий град, стало посмешище меж народами. Вот вкратце: отписали бояре грамоту великим послам, чтобы те целовали крест королю, а Смоленску велели сдаться. И пошли с той грамотой к патриарху Гермогену, дабы патриарх к писанию свою руку приложил. А Гермоген не стал подписывать, бояр же изменниками назвал. А тогда Михайло Салтыков вытащил нож и на патриарха с ножом кинулся, насилу его удержали. А патриарх взял да и проклял Салтыкова вечным проклятием, и всех бояр из храма выгнал. То-то была ляхам потеха.
А грамоту послали без патриаршего рукоприложения.
Декабря 6-го дня
Аврамий сказал, что Филарет с Голицыным боярского наказа не послушают, ибо нет подписи патриаршей. А послы не от одних бояр посылались, но и от патриарха, и всего освященного собора, и от всей земли.
Декабря 7-го дня
Гонсевский, Андронов да Салтыков прислали к Аврамию гонца с грамотой, а в грамоте наказ: Гермогена усмирить увещеванием и преклонить к польской стороне.
Аврамий, прочтя грамоту, повеселел.
– Пойду теперь же к патриарху, – сказал он.
Ужаснулся я: неужто Аврамий и впрямь хочет земле Русской и вере изменить и королевской неправде служить? Неужто теми худыми поместьишками купился? Но заблуждался я, и всуе было опасение мое. Когда ушел гонец, сказал Аврамий с усмешкой:
– А я-то, Данило, не знал, как мне к Гермогену подступиться, чтобы всю правду ему сказать о нашем посольстве и о королевском злом ухищрении и коварстве. Поляки ведь ныне с Гермогена глаз не спускают, а Федька Андронов, сучий сын, лапотник, всех королевских недоброхотов в список пишет. А теперь у меня есть вина, ради коей приблизиться к патриарху. Подойду к нему под благословение, скажу тихонько самое вящее: чтобы стоял твердо в истинной вере и звал православных крепиться всем заодно против польских людей. А потом уже громко стану провозглашать противное, соглядатаям во успокоение. Патриарх уразумеет.
И пошел Аврамий в Кремль.
Сего же дня народ повалил во множестве к Пречистой Соборной, и я с толпою пошел. А говорили люди: дескать, патриарх во храме такую проповедь говорит, какой еще не слыхано. Что король-де Жигимонт хочет веру попрать, а сына своего нам давать и не помышляет, а послов-де под Смоленском притесняет. И если не приедет королевич и не освятится светом истинной веры, то чтобы мы все, русские люди, встали бы против польских людей и всех иноземцев, и он, патриарх, благословляет нас стоять до смерти.
И все люди весьма любопытствовали и стремились послушать самолично такую небывалую проповедь.
И так с толпою я пришел к соборному храму Пречистой Богородицы, честного и славного ее успения. Но поляки уже прознали о деющемся во храме: встали у дверей и народ в церковь не допускали.
Люди московские вознегодовали и стали кричать:
– Как вы, хохлы, смеете не пускать христиан в храм Божий? Или король уже богослужение запретил? Может, хотите вместо наших святых церквей своих поганых костелов наставить?
Совсем уж было оттеснили польских сторожей, но тут на беду к ним подмога подоспела: целая конная рота, а на челе ее Федька Андронов.
– Разойдитесь, господа, подобру-поздорову, – крикнул он нам. – Здесь не богослужение, а воровство и крамола. Господь патриарха разума лишил. Разве пристало мужу духовному о мирских делах вещать, да еще в Божием храме? Мы, бояре московские, заклинаем вас и призываем: не слушайте Гермогена, расходитесь по домам своим и не бесчинствуйте.
– Уж ты-то боярин! – ему люди отвечали. – Отец твой был торговый мужик, лаптями торговал. А ты изменою вознесся. И еще смеешь на патриарха хулу возводить. А что есть на Москве истинных бояр, так и те все изменники, королю продались.
Стали тогда поляки народ попирать, и конями топтать, и саблями грозно махать. И пришлось нам разойтись.
Декабря 8-го дня
Гонсевский да Федька Андронов, нынешние начальники московские, запретили людям из домов выходить поутру и вечером. А все наши стрельцы давно уж из города повысланы в дальние уезды.
Декабря 9-го дня
Поляки новое постыдное и ужасное дело совершили: патриарха Гермогена под стражу посадили. А бояре не только не запретили, но даже сами и присоветовали. Долго ли еще будет наше терпение длиться?
Аврамий говорит, что люди оттого доселе не ополчились против поляков, что многие еще ждут Владиславова пришествия, не ведая об обмане королевском. Но главная вина таковой робости есть калужский вор, который теперь сидит с Маринкой в Калуге и крепок весьма. Поэтому люди мнят: если не поляки, то вор. А за вора немногим охота стоять до смерти.
Декабря 14-го
Предивные вести дошли до нас из Калуги. Вора-то уж нет! Он, говорят, прогневался на каких-то татар, бывших у него на службе, и казнил некого татарского князя, а сродич того князя осерчал и задумал отмщение воздать. И поехал ложный Димитрий на охоту, а все его ближние дворяне по лесу разъехались, и не случилось подле него защитников. Тогда подскочил к царику тот татарин и отсек ему саблей голову.
В Москве теперь колокола звонят, и радуются все, а поляки пуще москвичей веселятся. Они царика боялись, а теперь мнят, что у русских людей никакого оплота не осталось, чтобы творить противное королевской воле. Того они, глупые, не разумеют, что те из нас, кто честь и стыд еще не позабыли, сами боялись царика, а теперь всем православным христианам легче будет против литвы встать заодно.
Декабря 20-го
Давно я о том проведал, да все забывал написать, что Яков Делагарди теперь стал врагом земли русской, не лучше поляков. Он наши полуночные города воюет и к шведской державе присоединяет: Корелу, Ладогу, Орешек и прочие.
Декабря 28-го дня
Келарь Аврамий сказал мне:
– Уезжаю я, Данило, в Троицу. В Москве мне более делать нечего. Да и поляки теперь на меня в обиде, что я им службы не сослужил, патриарха не усмирил. А что я, холоп ничтожный, могу поделать, коли он закоснел в упорстве своем? – тут подмигнул мне Аврамий. – А ты, Данило, пожалуй, поезжай в свое село Горбатово, живи там тихо да добро. И молись за меня, грешного.
– Батюшка, смилуйся, дозволь мне в Москве остаться еще на малое время и здесь на Троицком подворье пожить. У меня тут еще не все дела уряжены.
Усмехнулся Аврамий:
– Неужто не хочет твоя Настёнка из Девичьего монастыря уходить?
– Не хочет, батюшка. Там-то у ней всё ладно, да кормят сытно, от всякого лиха оберегают. А ко мне у ней такого доверия нету, ради юности лет моих.
– Ой, смотри, Данило, доведут тебя девки до беды. Я же и сам, когда был в твоих годах и постарше, из-за них, проклятых, многие великие скорби претерпел. Даже до того дошло, что пришлось в монахи постричься. Но это я тебе говорю не для разглашения, и ты пожалуй, мои слова в свое писание не вписывай.
– Я не только ради Настёнки остаться хочу, – сказал я. – А хотелось бы мне паки послужить дому Пресвятой Троицы. Ежели есть какая тайная работа, которую надобно в Москве совершить, я с охотой и радостно возьмусь.
Аврамий поразмыслил недолгое время, а после сказал:
– Ты ведь книжник, вот и дам я тебе работу по твоему умению. Написал бы ты, Данило, для всех православных христиан книгу разумную, и дал бы ее людям, а они пусть списки списывают и другим передают. Напишешь?
– Не только напишу, но за великую честь почту. Такая служба мне не в труд, а в удовольствие. Скажи лишь, о чем написать.
– А обо всем, что сам видел и знаешь. Как поляки нам грубят, как стреляют в образ Пречистой Богородицы, как великих послов утесняют, как обмануть нас хотят, и конечно поработить и веру попрать. Особо напиши, чтобы королевича не ждали: тому не бывать, чтобы Сигизмунд нам сына прислал; он сам желает царствовать, и нас мнит уже покоренными, ибо мы безначальны, меж собою несогласны, и к рабству привычны, а бояре наши уже к королю преклонились.
Да облай покрепче бояр-изменников, да Федьку Андронова. Да воспой хвалу Филарету с князем Василием, и граду Смоленску, и патриарху Гермогену: скажи, что они, как столпы, всё государство наше поддерживают. И пусть все православные христиане доблестью и стойкостью их воодушевляются и против польских и литовских людей поднимаются.
А про меня ничего не вздумай писать, и себя поостерегись выдавать, а про тех послов, которые из-под Смоленска вернулись, скажи: не ведаю, мол, истинно ли они к королю прилепились, или же втайне нам верны и только до времени притворяются.
По польскому счету лета Господня 1611, по нашему исчислению того же лета 7119, января месяца 6-го дня
Не до денника мне нынче, ибо пишу я книгу по Аврамиеву наказу. Без устали тружусь с великим прилежанием.
Января 17-го дня
Книга моя еще не закончена, но написал уже много, и заглавие придумал. Вот такое: «Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском, и о страдании нового страстотерпца святейшего Гермогена, патриарха всея Русии, и о посланых наших, преосвященном Филарете, митрополите Ростовском, и боярине князе Василии Голицыне с товарищи…» и так далее. Заглавие написал я столь пространное, дабы читающим уважение внушить. Всякому же ясно, что не может быть пустошных речей в книге с таким протягновенным и долгим названием.
Московские же дела наши невеселые. Как стал в Москву народ на святки собираться, поляки премного испугались, что сейчас ударят в набат и пойдут их бить. И повелели жителям московским и приходящим людям сдать в казну все оружие, какое ни на есть, до последнего топора.
А мы не захотели отдать оружие, бывшее у нас в монастыре Богоявленском, и придумали такое ухищрение. Положили в сани длинные пищали, десятка три, а поверх пищалей мешки с рожью. А возницами избрали двоих слуг самых верных. И велели им отвезти эти сани в Троицкий Сергиев монастырь.
Но не преуспели возницы отнюдь: поляки вздумали им розыск учинить, и стали скидывать рожь на снег, и нашли пищали. И тогда этих возниц под лед посадили. Они же смерть мученическую приняли, но нас не выдали: так поляки и не дознались о тех пищалях, откуда они и куда.
Января 29-го дня
Вот и закончил я книгу. Дал прочесть иноку Савватию; он меня вообще похвалил, но к малым огрехам стал много притыкаться:
– Почто ты, Данилка, одно и то ж по тридесять раз талдычишь? Вот о том, что патриарх, аки столп, истинную веру поддерживает, у тебя восемь раз сказано в разных местах. Также и о том, что Владиславу не бывать на Москве, шесть раз повторено. Пожалел бы хоть бумагу, коль читающих не жалеешь.
– Такой уж, – говорю я ему, – у меня своеобычный способ изъяснения мыслей. И нет тут никакого дурна. Вот, положим, писатель напишет о Владиславе, да после позабудет, что уже написал, и вдругорядь напишет. Так ты смекни: если уж писатель забыл, о чем сам писал, то уж читатель-то, до сего места дойдя, и подавно забудет, о чем читал. И тут-то как раз ему и напомнится.
Подивился Савватий моему ответу, да и отстал от меня с поучениями своими.
Февраля 8-го дня
Пошла моя книга по людям: мы с монахами сделали пять списков, да послали слуг раздать кое-кому. Нынче по Москве, да и по всей Русии, гуляют возмутительные грамотки и книжки, и везде народ против поляков возмущается.
Более всех пишет грамот Гермоген патриарх. Поляки-то испугались народного роптания и выпустили патриарха из-под стражи. А он и давай грамоты писать и тайно их рассылать. Я видел одну: в ней указуется, что крест мы целовали Владиславу лишь на том, что он светом истинной веры осияется. А ежели не осияется, то он не государь нам. И он, святейший Гермоген, нас от крестного целования освобождает, и благословляет стоять до смерти против безбожных.
И помалу начинает уже подниматься земля русская. Прокофий Ляпунов, воевода рязанский, еще в декабре слал боярам московским такую нешуточную грамоту: «Мы, дескать, здесь у нас в Рязани собирались всей землею Рязанской в совет. И в совете всей земли Рязанской положили, что вы, бояре, изменники. Говорили нам одно, а видим другое: вместо королевича крещеного нами некрещеные латины управляют. А грабят нас безбожно, разоряют наши города и села рязанские. И в Божьих храмах, ругаясь над нами, справляют нужду. Ради такого бесчестия положили мы всем нам, рязанским людям, совокупно идти против польских и литовских людей, и биться до смерти, пока все они не выйдут отселева прочь. А вам бы, боярам, поиметь совесть и перестать бы им потворствовать. Потому что, если так и впредь пойдет, то они не только веру нашу изведут, но и всех нас заставят носить хохлы».
Собрал Ляпунов войско и из всех рязанских городв и сел повыгнал польских людей. И скоро хочет на Москву идти, как только из других земель ополчения подоспеют.
Приманил Ляпунов на свою сторону все бывшее воровское калужское войско, с двумя главнейшими воеводами, что прежде вору служили. Первый – князь Дмитрий Трубецкой, он сейчас в Калуге с воровскими дворянами и детьми боярскими. Второй – атаман Ивашко Заруцкий, который ныне в Туле сидит со своими разбойниками, донскими казаками.
И вот теперь все это развеселое воинство, люди бесстыдные, в воровстве закосневшие, порешили за правое дело встать, за веру и Российское государство. Дело достойное удивления! Видать, некому больше отечество спасать. Однако есть еще и большее диво: Маринка Мнишкова, сказывают, по смерти мужа своего, царика ложного Димитрия, сочеталась с Заруцким безбожным браком и теперь при нем состоит в Туле. А себя она по-прежнему велит царицей величать. Да еще сын у ней народился – ворёнок, Иван Димитриевич. Наследник, стало быть.








