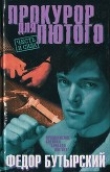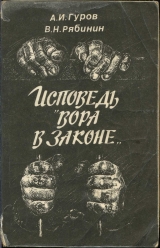
Текст книги "Исповедь «вора в законе»"
Автор книги: Александр Гуров
Соавторы: Владимир Рябинин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
В камеру я вернулся далеко за полночь. Все уже спали. Леха сладко посапывал – опять снились, видать, какие-то амурные дела. Обо мне он проявил трогательную заботу, оставив на койке миску с ужином.
Мои же мысли витали все еще там, в кабинете Ивана Александровича. Как много он все-таки знает, этот ученый следователь. И что поразило – будто прочитал я о чем, думаю… Нет, пожалуй, как ни крути, расклад тут ясный: выводить их на Сизого надо.
Утром я попросился к следователю.
Исповедь. В бегах
Прошло месяца три после нашумевшей истории с портфелем, и мне пришлось пожалеть о том, что не послушал доброго совета – уехать из Москвы, Нет, из-за портфеля «менты» не стали бы уже меня трогать. И кражу из вагона они так и не раскрутили. «Замели» меня по карманке, и опять на том же Курском вокзале. Что поделаешь, вор, как и любой человек, привыкает порой к одним и тем же местам, будто смазаны они медом. В свое время Король обругал нас с Костей за то, что без конца мозолим глаза Михалькову на Рогожском рынке, и справедливо. Но, видать, разговор этот не пошел мне впрок.
Вот так я и оказался в Нижнем Ломове, в ДТВК – бессрочной детской колонии закрытого типа. Последнее означало, что убежать отсюда почти невозможно. Вначале я в это не верил. Рассчитывал на свою ловкость и смекалку. Когда, преодолев «полосу препятствий», вырвался из зоны и побежал, думалось, все, вот она, свобода. Успел отбежать километра два, но тут меня все же схватили.
В колониях ввели в то время систему зачетов. За хорошее поведение и учебу осужденному начисляли баллы с плюсами, если же нарушал режим, совершал какой-то проступок – с минусами. Эти баллы влияли на сроки отсидки. Если плюсов было больше, тебя могли раньше освободить, и наоборот. За минусы, кроме того, наказывали – давали наряды вне очереди, заставляли делать грязную работу. При этом и весь отряд лишался каких-то льгот – ответственность была коллективной.
Сколько зачесть плюсов или минусов, решал актив колонии. А он был здесь очень сильный. Активистов не любили, называли промеж собой «козлами», но боялись – они, как и во все времена, были прихвостнями начальства.
За мой неудавшийся побег наш отряд оштрафовали на 500 минусов. Меня же заставляли после отбоя мыть полы, подметать двор, выносить парашу. Я наотрез отказывался. Активисты издевались, били, но сломать меня было трудно.
Потом стали уговаривать войти в актив, но воровские законы этого не допускали, даже если тебя изобьют до смерти.
Мы учились в школе, а после учебы по четыре часа осваивали какую-нибудь рабочую профессию. Я учился на слесаря, и это мне давалось неплохо.
Но мысли по-прежнему были заняты тем, как отсюда сбежать. Свобода даже во сне снилась.
Подружился с мальчишкой лет четырнадцати по кличке «Кутуз». Стали вместе готовиться к побегу. Из напильников сделали ножи – резать колючую проволоку. Выбрав удобный момент, подобрались к полосе ограждения, преодолели ее по-пластунски… Кутузу повезло – удалось сбежать, а меня поймали опять. Жестоко избили и отправили в изолятор.
Мечусь, как волчонок в клетке. От нарядов после отбоя на этот раз никак было не уйти, иначе могли бы неизвестно сколько продержать в изоляторе. А в школу и на работу все равно должен был ходить. Уставал так, что засыпал на уроках.
Терплю, о побеге теперь нечего и думать: за мной следят и днем, и ночью. Даже в уборную одного не пускают – только в сопровождении дневального.
Так проходят сорок шестой, сорок седьмой годы… А в начале 1948-го нас, человек сто пятьдесят, начинают готовить к отправке. Поговаривают, поедем на какой-то большой завод. Отбирают ребят, которым по семнадцать-восемнадцать лет. Мне еще нет шестнадцати, но начальство, как видно, решило, что от такого настырного лучше избавиться.
В день отправки получаю паспорт. Читаю: год рождения – 1930-й (хотя на самом деле – тридцать третий).
Привозят в Пензу, там подписываем какие-то договоры, получаем подъемные. Нас сажают в «телячий» вагон с нарами и отправляют на Урал, в город Верхний Уфалей. В других, плацкартных вагонах едут и вольные, которые завербовались на тот же завод. С нами отправили и кое-кого из активистов – Королева Кольку и других. Вот когда, думаем, мы им все припомним…
Привозят в Верхний Уфалей. Поселяют в общежитие. И уже с первых дней дирекции завода пришлось хлебнуть с нами горя. Ведем себя развязно, на работу почти не ходим. Деньги, что у нас были, пропили, и теперь требуем аванс. Начальство не дает. Тогда начинаем продавать одеяла и подушки. Нас вызывают в отдел кадров: не хотите нормально себя вести – увольняйтесь, расчет дадим. Кое-кто взял расчет сразу, другие, и я с ними, решили немного повременить.
Если не считать политики, которую вдалбливали в наши преступные головы каждый божий день, никакой воспитательной работы не было – ни в цехе, ни в общаге. Начальство думало лишь о том, как бы поскорее избавиться от «колонистов».
Вообще жили мы как вольные казаки – хочу иду на работу, хочу нет. Не жизнь – малина. По городу обычно ходили целой компанией. Отправлялись то на базар, то в кино или на вокзал, ища приключений либо приглядываясь, где и что «плохо лежит».
Нам с новым моим дружком Ваней такая нескладная жизнь в конце концов надоела. Уволились, взяли документы и сели на первый попавшийся поезд в сторону Москвы. Привез он нас в Куйбышев. Деньги кончились (их, естественно, и было-то – кот наплакал). Красть в незнакомом городе страшновато. Да тут еще услыхали, что вышел Указ от 4 июня 1947 г. За кражу теперь могут дать лет шесть, а то и десять. До поры решили завязать.
Ходим по городу, читаем объявления. Одно из них нас заинтересовало: приглашались рабочие всех специальностей на стройку в город Воронеж. Приходим на вербовочный пункт. Там смотрят наши документы. «Вроде все в порядке, – говорит вербовщик. – Да уж малы вы больно для восемнадцати лет». – «Маленькая собачка – век щенок», – шутит его напарник. «Убедил, берем», – решает первый. Заключаем договор, у нас отбирают паспорта, дают подъемные, и мы едем в Воронеж.
Город весь в руинах. С трудом находим свое предприятие – кажется, Мостозавод. Нас поселяют в бараке. В комнатах здесь по двенадцать-пятнадцать человек, но ничего, жить можно – тепло и как-то даже уютно.
Работу дают нетяжелую: поливаем водой из шланга бетонные плиты или еще что-то делаем в этом роде.
На стройке знакомлюсь с молодым человеком лет двадцати пяти. Звать его Леша. Женат, живут они с Ниной в соседнем с моим бараке, где им дали небольшую комнатку. По воскресным дням Леша надевает военную гимнастерку, и они идут на танцы или в кино. На груди у него гордо поблескивают два ордена Славы.
Подружившись с Лешей, я стал часто бывать у них дома. Весельчак и балагур, свои остроты он то и дело замешивал на «фене». Как-то я не удержался, спросил, откуда он знает «блатную музыку». Алексей рассказал такое, во что сразу трудно было поверить.
До войны был он вором-«медвежатником». Его рукам любой сейф поддавался. Однажды залетел по-крупному – десять лет дали. Когда началась война, из лагеря отправили в штрафную роту. Напросился в разведку, не раз добывал ценные сведения, брал «языка». Был трижды ранен и опять возвращался на фронт. Судимость с него сняли. А за храбрость и смекалку солдатскую получил две почетные награды, не говоря уже о медалях.
Родных у него после войны никого не осталось. Потому, наверное, и был ко мне добрым, старался чем-то помочь, накормить домашним обедом. Нина тоже встречала меня, как своего.
С Лешей говорили мы много и обо всем. Но что показалось мне странным: не раз и не два, порой без всякого повода, возвращался он к одному и тому же: «Завязал я – понял? И точка. Жена добрая и красивая, скоро мне сына родит. Жить хочу, как люди… Понял, братуха»? Я ему верил, но удивлялся: зачем он все это повторяет…
Вскоре я познакомился с девочкой. Звали ее Надей, приехала на стройку с родителями. Она мне очень нравилась. Мы ходили в кино, я часто бывал у нее дома. Но больше всего запомнилось, как летними вечерами сидели мы на скамейке возле крыльца и, разговаривая о разных пустяках, будто случайно прикасались друг к другу. Потом она уходила спать, а я долго стоял у заветного окна… Это была еще не любовь, а мальчишеская влюбленность, восторг перед девичьей красотой, ожидание чего-то неизведанного.
Потом Надя заболела тифом. Я навещал ее в больнице, приносил гостинцы. Когда заходил в палату, она тут же надевала косынку – очень стеснялась, что подстрижена наголо.
У Алексея я стал теперь бывать реже, иной раз неделю к нему не заглядывал. Однажды в начале смены на стройке поднялся шум: ночью кто-то проник к контору и почистил сейф – взял зарплату, которую сегодня нам должны были выдавать.
В обеденный перерыв прибегаю к Леше, но его нет. Жена в слезах: «Забрали моего голубка…» Так мне было за него обидно. Сходил в милицию, отнес передачу. Тут прошел слух, что это он с каким-то своим дружком «взял» сейф. И я вспомнил, как Леша без конца мне твердил: «Завязал я, понял?..» Выходит, убеждал он в этом себя, не надеялся на силу воли…
Впрочем, у меня самого тоже ненадолго ее хватило. Деньги, что зарабатывал, уходили все на питание. Одежда пообтерлась, а мне так хотелось пофорсить перед Надей.
Все получилось вроде случайно, но этого случая, не скрою, я и сам уже ждал. Подхожу как-то к магазину, народу полно – завезли продукты. В такой давке вытащить деньги ничего не стоит.
Вспоминаю, как учил Король: прежде, чем залезть в карман, надо маленько осмотреться, сперва прощупать его, убедиться, есть ли там что. «Лапотник» (кошелек) или деньги всегда почувствуешь.
Однако боязно, не воровал давно. Если поймают – суд, тюрьма. И Надя мне не простит. Раздумывал долго, но решился. Захожу в магазин, в левой руке на виду у всех держу деньги и сквозь толчею пробираюсь к прилавку. Рядом со мной средних лет женщина в жакете. Как и я, пытается пролезть без очереди. Прижимаюсь вплотную к ней и осторожно нащупываю верхний карман. Что-то там захрустело – деньги. Волнуюсь, сердце запрыгало, а рука вопреки всему лезет в чужой карман. Нащупал какой-то узелок и стал осторожно его вытягивать. И вот уже он в моем кармане. Постепенно отхожу назад, пропуская тех, кто рвется к прилавку. Оказавшись на улице, никуда не бегу. Захожу в туалет – он за магазином, развязываю платочек. Денег немного: рублей триста-четыреста. Но все лучше, чем ничего, буду тратить их экономно. А главное – достались почти что без труда.
Купил себе брюки, Наде – недорогую, но красивую брошку. Сказал, что на премию.
Когда деньги кончились, решил повторить свою удачную «покупку» (так называли кражу). И так было несколько раз. Действовал осторожно, набивал руку в одиночку, а это нелегко делать. Однако ни разу никто меня даже не заподозрил. Стали появляться уверенность, приходил особый опыт карманника.
Но скоро в моей жизни опять произошла крутая перемена. Нескольких молодых рабочих, в том числе и меня, отправили из Воронежа в какое-то захолустье, где строился филиал завода. Там мне все не понравилось. Голое место, барак холодный, питание не налажено. Карманку не «залепить» – толкучек нет, кругом бедность. И мы с одним парнем уже на третьи сутки оттуда сбежали.
Но куда податься? Документов при мне никаких, паспорт отобрали еще на вербовочном пункте.
Решил прокатиться с «гастролью» по Украине. После Харькова отправился в Киев, побывал в Фастове, Белой Церкви, Лозовой. Практику как карманник получил, конечно, большую. И всюду здесь мне везло. Но уж очень сильно тянуло в Москву и к себе на родину. Вот сейчас много спорят о нужности ограничения прописки судимых. Оторвать бы чинушу от дома, от жены, от друзей, тогда бы он лучше понял. Ведь человека тянет как магнитом на родину, и тут всякие правила – это неизбежное их нарушение. Вот и мне так захотелось увидеть старых друзей.
В один из морозных ноябрьских вечеров сорок восьмого года я постучал в знакомую до боли дверь тетисониной хаты. Открыла она сама и страшно обрадовалась.
– Ой, Малышка, да ты ли это, – обнимая меня, как мать, улыбалась она повлажневшими от слез глазами. – Совсем взрослый стал, да какой красавец.
Накрывая стол, она еле успевала отвечать на бесчисленные мои вопросы о друзьях и знакомых. Главной новостью было, конечно, то, что Костя теперь постоянно живет в Электростали, работает на заводе. Его маму освободили по амнистии. Они часто приезжают к тете Соне в гости. И девушка у него есть, мать говорит, что очень хорошенькая. «Вот бы дожить до свадьбы – и его, и твоей тоже»
За ужином мы немного выпили, и она стала рассказывать об остальных наших общих знакомых. Больше всего меня волновало, что не видно Вальки Короля, первого моего наставника.
– В психичке он, в сумасшедшем доме. В последнее время частенько там гостит. Как поймают – вмиг притворится – хитрован, что и говорить… Ну ничего, сбежит, как всегда… Шанхай, спрашиваешь? Недавно заходил… Блюмка его, видать, и сама воровкой стала, ходит вся в золоте. А он меня беспокоит – много пить стал… Шанхая ты, Валя, увидишь. И других тоже. Но добрый тебе совет – не ищи никого. Хватит, было время, а сейчас лучше «завяжи». Не то одна дорога – в тюрьму. Сломаешь себе жизнь, а чего ради…
– Поздно мне, тетя Соня, милая. Теперь я не просто вор, но еще и бродяга, беглый. Куда мне податься без паспорта?
От выпитого развезло, проснулась вдруг жалость к самому себе, и я расплакался.
Тетя Соня, как могла, меня успокаивала:
– Погоди, ты еще совсем молодой. Сходи, покайся, – выдадут тебе паспорт, не зверюги же там они, чтоб губить молодого парня… Женишься – твоих детей буду нянчить.
И действительно, так хотелось жить по-людски. Ведь сумел же Костя порвать с этой грязью.
Недели две пожил я у друга в Электростали. Он рассказывал о заводе, где был учеником шлифовщика, о том, как к нему там хорошо относятся. Его мама, тетя Маруся, все еще не могла забыть о лагере – сколько она там натерпелась и увидела, не дай Бог никому. Видно, под впечатлением ее рассказов Костя и решил «завязать» раз и навсегда.
Да, ему можно было позавидовать. При деле, живет в своем доме с матерью. И уже невесту себе подыскал.
От Кости я узнал о своем брате Викторе. Он тоже был при деле – работал на заводе в Подольске.
А кто я?.. Хлопотать документы, как советовали мне тетя Соня и Костя, – значит наверняка отправить себя на скамью подсудимых: тех кто сбежал со стройки или с работы, наказывали в то время очень строго. Конечно, я мог бы сказать, что в детской колонии мне приписали годы. Ко кто поверит? Скорее обвинят в клевете на администрацию колонии. У них ведь все шито-крыто… Это теперь я понимаю, как бы надо было сделать, ведь у матери остались метрики, бумаги какие-то. Наконец, есть суд, он установит. Но тогда и время было другое, да и суд тоже.
Делать нечего, путь к честной жизни я себе обрезал. Пора в Москву – опять браться за привычную воровскую «работу».
На допросах и между допросами. «Продаю» Сизого
Конвоир вводит меня в небольшой скромный кабинет. За эти несколько дней я успел здесь освоиться, пожалуй, не хуже, чем в камере.
В кабинете, кроме Ивана Александровича, еще один человек, тоже в штатском. Расположился на стуле сбоку от небольшого столика для пишущей машинки. Скорее всего, «опер» из угрозыска. Значит, допрашивать будут вдвоем, хотя, как я хорошо знаю, перекрестные допросы запрещены, это не застойные годы.
Здороваюсь. Иван Александрович отвечает на приветствие, жестом приглашая сесть. «Опер» молчит, делая, как бы нехотя, еле заметный кивок.
Внешне он чем-то напоминает мне Максимченко с Курского вокзала – такой же здоровяк с версту ростом, густой шевелюрой, на вид лет тридцати пяти.
– Что скажете новенького, Валентин Петрович? – спрашивает меня следователь в привычной для себя благожелательной и потому так располагающей к нему манере. – Хотите что-то добавить к своим показаниям или внести изменения в протокол?
– И то и другое, гражданин следователь, – отвечаю решительно, боясь что в последний момент вдруг передумаю. Хотя… колебаться уже не резон – отступать некуда.
«Опер» по-прежнему молчит (точно так, как тогда Максимченко!), и я обращаюсь опять к одному Ивану Александровичу.
– Помните, гражданин следователь, прошлый раз я сказал, что, вернувшись из зоны, ну, после того как с пропиской не вышло, разыскал Сергунчика. Дали, дескать, в колонии мне его адрес.
– Да, так и зафиксировано в протоколе. И подпись ваша стоит.
– Дальше там все правильно, а тут я малость соврал. Короче, в зоне мне дали адрес на Сергунчика, а Дрозда, здешнего «козырного фраера». Или, по-старому, «мастера». И уже Дрозд связал меня с человеком, о котором до сей минуты я вам вообще не говорил, считая, что не имею права продавать «законника». Но потом поразмыслил, взвесил то, что от вас услышал, и понял – другого способа отомстить за подставку у меня не будет. Потому что…
«Опер», будто бы вовсе меня не слушая, что-то записывал в блокнот. Покосившись на него, я замялся и замолчал: а вдруг скажу лишнее, «выдам» постороннему наши «ночи Шехерезады».
– Продолжайте, продолжайте, Валентин Петрович. Не стесняйтесь, здесь все свои, – успокоил следователь. – Я вам не представил: это Петр Михайлович Комлев – сотрудник уголовного розыска.
«Мог бы, конечно и сам представиться», – подумалось мне при этом.
– Ну хорошо. Должен я, говорю, этому «беспределу» отомстить сейчас, потому что от сходки он, как пить дать, откупится. И потом – какой же он к черту «вор в законе», если это звание за деньги купил, ни разу тюрьмы не нюхал. В зоне мне о нем говорили. Не верил, что есть такие. Теперь вот убедился. За кого другого – я бы еще подумал, как поступить. А за этого – в «громоотводы» к нему не нанимался…
Иван Александрович, видно, привыкший за время наших долгих бесед к моим развесистым словам, слушал меня если и без особого интереса – сейчас ему было не до разглагольствований, то, по крайней мере, не перебивал. Понимая, что мне, прежде чем решиться на этот шаг, надо убедить самого себя. А значит – высказать все, что думаю.
«Опер» же то и дело ерзал на стуле, терпение у него начинало лопаться. Наконец, не выдержал:
– Подследственный, – перебил он меня. – Не забывайтесь, вы здесь на допросе, а не у попа на исповеди. Говорите много, а все вокруг да около. В конце концов, назовете вы фамилию, адрес этого, как вы называете, «беспредела»? Или, может, опять отложите до другого раза?
Я готов был понять его нетерпение, признать, что сам излишне многословен. Но раздраженный тон, которым этот упрек был высказан, вряд ли кому бы понравился. Хотелось ответить дерзостью, однако многолетний опыт подсказывал: с такими лучше не рисковать.
Разрядил обстановку опять же Иван Александрович.
– Я думаю, Валентин Петрович затем сюда и пришел, чтобы сказать нам, кто этот человек, – поддержал он меня. – Давайте же, товарищ капитан, наберемся терпения.
– Согласен, товарищ следователь. Я ведь, сами знаете, сейчас как на иголках.
Испытывать дольше их терпение (и свое тоже) было ни к чему, и я, наконец, назвал им этого самозванца – его кличку, имя, отчество и все то немногое, что успел узнать во время короткой встречи с Сизым.
Комлев, в котором, судя по выражению его лица и внешнему виду, для эмоций места не оставалось, неожиданно привскочил со стула.
– Значит, Борзов – вот он кто, Сизый! Сколько же, черт подери, ломал я голову, кругами ходил вокруг да около… Теперь все ясно. Будем действовать, – так, Иван Александрович?
– А помните, Петр Михайлович, я советовал обратить внимание на то, что из взятых вами на «мушку» почти одна треть работает в одном кооперативе – «Фото на память», кажется. И между прочим, Сергунчик тоже числится у них в штате, хотя и водителем.
– Как же, этой версией мы пытались заняться. Но данных практически никаких, словно в стену уперлись.
Я сидел молча, не зная, радоваться или, напротив, огорчаться тому, что своим признанием привел их в телячий восторг. Наблюдать за людьми, которые в официальной обстановке допроса слова лишнего не проронят, настолько все у них рассчитано, и которые вдруг восторженно, по-мальчишески, выплескивают свои чувства наружу, честно признаюсь, мне еще не приходилось.
Наконец, обретя привычное состояние, они вспомнили обо мне. Первым, разумеется, Иван Александрович.
– Валентин Петрович, хотим вас поблагодарить за ценную информацию.
– Да, да, – поддержал его суровый «опер», заметно смягчивший тон. – Спасибо. Будем надеяться, суд примет это во внимание… Повторите-ка мне адресок того «фраера», который связал вас с Сизым-Борзовым.
Я выполнил его просьбу.
– Что ж, побегу с вашего позволения, – обратился он к следователю. – Надо прикинуть, что к чему.
– Сейчас без пяти одиннадцать, – посмотрел на часы Иван Александрович. – К часу я вас жду с предложениями по плану операции. Потом доложим полковнику.
– Все понял… Но ведь санкцию на арест мы не можем получить. Для таких, как Сизый, закон пока не писан. Сами знаете, как сейчас с арестами. А он к тому же еще и «под крышей» – кооперативом заправляет.
– Что ж, придется прокурору в ножки кланяться, а говоря серьезно, нужны серьезные улики. Надо обязательно связаться с ОБХСС. У них наверняка по этому кооперативу что-то есть. Найдем зацепку, неправда.
– Надо найти, – ответил оперработник, сделав особый упор на слове «надо». – Иначе упустим Сизого. И дело зайдет в тупик.
«Опер» ушел, опять кивнув мне головой, но на этот раз доброжелательно и даже слегка улыбнувшись. И опять напомнил он мне Максимченко – впрочем, уже не только своим высоким ростом и грубоватыми манерами.
Иван Александрович предложил мне сигарету, закурил сам. Потом встал и по привычке стал ходить из угла в угол. Мы оба молчали, думая каждый о своем. Он, конечно, видел, что сомнения продолжают меня терзать. Подошел, тронул за плечо.
– Не раскаивайтесь, Валентин Петрович. Другого выхода у вас просто не было. Зато как помогли следствию. Да и себе тоже… А чтобы вас угрызения совести не слишком мучили, открою небольшой секрет. Почти все члены преступной группировки – по крайней мере, кто действовал в нашем городе, уже здесь, в СИЗО. Остался Сизый, на которого рано или поздно мы бы все равно вышли. Вы лишь помогли ускорить ход событий. Но помогли вовремя… Кстати, наши беседы, надеюсь, мы продолжим. Только, скорее всего, когда возьму выходной, сейчас в запарке.
…В камеру я возвращался, по-прежнему терзаясь сомнениями. Не хотелось ни разговаривать, ни даже глядеть на эту «шушеру». Как ни старался убедить меня следователь, такому, как я, с детства впитавшему воровскую «идею», что продавать своего – самый тяжкий грех, «ломаться» не просто трудно – мучительно. Нервы у меня напряглись до предела.
К тому же предвидел я и такой поворот, что «шушера», кем-нибудь подогретая, задумает вдруг учинить допрос. Со стороны частые мои отлучки в самом деле могли показаться подозрительными. Особенно тем, кто знает, что ночные допросы разрешаются лишь в исключительных, неотложных случаях (хотя нарушается это сплошь и рядом).
А чем объясню сегодняшний добровольный «визит» к следователю? Обычно так поступают те, кто решился на явку с повинной. А этой явкой ты почти всегда вызываешь к себе неприязнь. Каждый понимает, что раскаяние или, как говорит закон, чистосердечное признание – это и «продажа» кого-то из «подельников»… Мои опасения подтвердились – будто в воду глядел.
Подошел к своим нарам, вижу – рядом с Лехой сидит усатый хмырь со шрамом во всю щеку и, брызгая слюной, что-то ему доказывает. Усатого я приметил еще вчера, и сразу он мне не понравился. Когда знакомились, все глаза отводил в сторону.
Заметив меня, хмырь замолчал, осекся на полуслове.
– Ты, Серый, не финти. – Леха, по пояс голый, поиграл бицепсами. – Начал – до конца выкладывай. И при нем, – показал он кивком в мою сторону, – при бате.
Усатый вдруг весь съежился, испугавшись и моего появления, и грозных кулаков Лехи, который успел уже привести их в боевую готовность. Но говорить не решался.
– Молчишь, падло. Ну тогда я за тебя скажу. Слышь, Валентин, Серый мне тут стал намекать, будто ты лягавым продался. На допросах, говорит, держат его до ночи и все такое. Я ему: значит, дело запутанное, измором берут, жерди выкручивают. А как понять, говорит, что утром он сам попросился к следователю… Мог бы ему и на это ответить, – Леха поиграл кулаками. – Да тут ты подошел, и он – сам видишь – в рот воды набрал.
К нашему разговору, как я заметил, прислушивался и кое-кто из блатных, лежавших на соседних нарах. Еще бы – запахло жареным.
– Ответить, конечно, могу, – сказал я, стараясь не терять спокойствия и на ходу придумывая, как лучше выкрутиться. – Шьют кражу по 89-й, в крупных размерах. За это, если Кодекс читал, большой срок могут дать. А улик нет. Но ты им пойди, докажи, что «замели» незаконно. Вот и решил накатать «ксиву» прокурору…
Серый осторожно меня перебил, изобразив на своем гладко выбритом худосочном лице интеллигента подобие улыбки:
– Да ты на меня не обижайся, Валентин. Объяснил бы сразу, разговора бы не было. А то ведь не я один так подумал.
– А насчет объяснить я тебе вот что скажу. Ты кто – вор?
Усатый помялся:
– Да нет, пока хожу в «фраерах».
– Подтвердить можешь?
– Могу. Есть тут два «мужика», в соседней камере. Покажу на прогулке.
– Ну ладно, верю. А о Лихом, ответь мне, слыхал?
– Приходилось, как же.
– Его перед собой и видишь.
– Понял. Беру все назад. Не врубился я…
– Ладно, извиняться не надо. Но воровские правила ты, видать, подзабыл. Одно я тебе напомню: тот, кто «в законе», отчет держит перед ровней. И то – на сходке.
– Слыхал ты, Серый, что батей сказано?! – Леха потряс кулаком перед самым его носом. – Ладно, не дрейфь, сегодня бить не буду. Для начала мы тебя ущемим морально. Видишь, в том углу, где параша, пустая койка. Сматывай одеяло – и туда. Может, освежишь свои мозги дезодорантом. А мы доливать будем.
– Зря ты, так, Леха, – вступился я за Серого. – Он все же «фраер». После вора – второй человек. А ошибку, я уверен, учтет.
– Спасибо, Лихой. Исполню все, что скажешь, не будь я «фраером».
И все же чем-то он мне не понравился. Не верил я в его искренность.
Пока мы выясняли отношения с Серым, в другом углу камеры шпана резалась в карты. А через койку от нас кто-то из блатных показывал молодым ребятам, как играют в наперсток. Вернее, как надувают дураков.
– Обставить «клиента» проще пареной репы, не то что, к примеру, в «три листика», – поучал он их, заметно шепелявя, у него, видно, кто-то из надутых повыбивал половину зубов.
К шулерам и прежде не было у меня особой симпатии – повлияла «школа» Короля. А наперсточников, выплывших из забвения в последние два-три года, считаю вообще скудоумными жуликами.
Леха, как видно, тоже был «по другой части».
Мы с ним немного посидели молча. Потом он достал из-под койки два больших апельсина – презент с воли от какой-то своей поклонницы, один протянул мне.
– А знаешь, Лихой, за что меня взяли, – сказал он неожиданно. – Чувиха одна знакомая, Ирка, еще когда в школе учились, прохода мне не давала, все целоваться лезла. А мне не нравилась – другую любил, и притом взаимно. Ирку же от себя гнал, один раз аж врезал, чтоб не лезла больше. Ну, потом… Загремел я на два года за хулиганку – обшманали одного прохиндея по пьяному делу. Этим летом вернулся из зоны. Светка – ну, та, с которой встречался, – замуж вышла, уехала. А Ирка тут как тут. Зовет к подруге в гости. Ставит бутылку, наливает целый стакан: «Пей, посмотрю, какой ты мужик». Сама тоже хватила малость. А после, закусить не дала, – хватает за джинсы и на диван тащит. Ну, сам понимаешь, пришел-то голодный. Подруга, та тихонько на кухню вышла. Потом уж я понял, что все у них было так задумано. Только вошел во вкус, Ирка подо мной как завопит: «Насилуют!..» Подружка врывается, тоже что-то кричит. Ну, я свое дело сделал – стесняться не стал… Думал, они так подшутили. Для нас, молодых, на бабу залезть – это сейчас, что плюнуть. Проблемы нет. А Ирка мне потом: «Мотай отсюда, Лешенька. Если же будет что не так – не обессудь. Хотела тебе отомстить за прошлое»… Ну, и опять же не думал я, что способна она на такую подлость. Через два дня вызывают в милицию. Подала заявление, что я, мол, ее изнасиловал. И есть свидетель… Да если бы знал – удушил бы на том же диване. А теперь – кто поверит судимому. Родители, и те сомневаются…
– Тяжелый случай, Леха. Тебе хороший адвокат нужен, а то загремишь лет на шесть. И вот что, напирай на отсутствие ссадин, синяков, рваной одежды – тоже помогает.
– А у тебя, Валентин, было что-нибудь такое, – ну, похожее.
– Такого не было. Про первую свою любовь рассказать могу.
– Ну что ж, трави. Интересно, какая она раньше была, любовь-то.