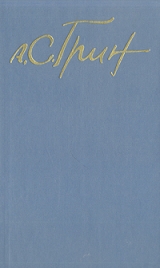
Текст книги "Том 2. Рассказы 1913-1916"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Баталист Шуан
I
Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой пруссаками стране – предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди.
Стоял задумчивый, с красной на ясном небе зарей – вечер, когда Шуан, в сопровождении слуги Матиа, крепкого, высокого человека, подъехал к разрушенному городку N. Оба совершали путь верхом.
Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чингисхана отмечены были, казалось, слепые, мертвые обломки стен и оград.
Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами, и глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно щурился.
– Чистая работа, господин Шуан, – сказал Матиа, – после такого опустошения, сдается мне, осталось мало охотников жить здесь!
– Верно, Матиа, никого не видно на улицах, – вздохнул Шуан. – Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матиа, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матиа, в холодных развалинах. Тес! Что это?! Ты слышишь голоса за углом?! Тут есть живые люди!
– Или живые пруссаки, – озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудах камней.
II
Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов – разговор Шуана и Матиа. Один мародер – «Линза» – был любовником женщины; второй – «Брелок» – ее братом; женщина носила прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и жалости.
– Эй, дети мои! – прошептал Линза. – Цыть! Слушайте.
– Кто-то едет, – сказал Брелок. – Надо узнать.
– Ступай же! – сказала Рыба. – Поди высмотри, кто там, да только скорее.
Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но, правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым, на сытых лошадях людям немыслимо скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы.
– А! Вот! – сказал, заметив его, Шуан. – Идет один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?
– Бывший сапожный мастер, – сказал Брелок, – была у меня мастерская, а теперь хожу босиком.
– А есть кто-нибудь еще живой в городе?
– Нет. Все ушли… все; может быть, кто-нибудь… – Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники.
– Если вы ищете своих родственников, – сказал Брелок, делая опечаленное лицо, – ступайте в деревушки, что у Милета, туда потянулись все.
– Я художник, а Матиа – мой слуга. Но – показалось мне или нет – я слышал невдалеке чей-то разговор. Кто там?
Брелок мрачно махнул рукой.
– Хм! Двое несчастных сумасшедших. Муж и жена. У них, видите, убило снарядом детей. Они рехнулись на том, что все обстоит по-прежнему, дети живы и городок цел.
– Слышишь, Матиа? – сказал, помолчав, Шуан. – Вот ужас, где замечания излишни, а подробности нестерпимы. – Он обратился к Брелоку:
– Послушай, милый, я хочу видеть этих безумцев. Проведи нас туда.
– Пожалуйста, – сказал Брелок, – только я пойду посмотрю, что они делают, может быть, они пошли к какому-нибудь воображаемому знакомому.
Он возвратился к сообщникам. В течение нескольких минут толково, подробно и убедительно внушал он Линзе и Рыбе свой замысел. Наконец они столковались. Рыба должна была совершенно молчать. Линза обязывался изобразить сумасшедшего отца, а Брелок – дальнего родственника стариков.
– Откровенно говоря, – сказал Брелок, – мы, как здоровые, заставим их держаться от себя подальше. «Что делают трое бродяг в покинутом месте и в такое время?» – спросят они себя. А в роли безобидных сумасшедших мы, пользуясь первым удобным случаем, убьем обоих. У них должны быть деньги, сестрица, деньги! Нам попадается много тряпок, разбитых ламп и дырявых картин, но где, в какой мусорной куче, мы найдем деньги? Я берусь уговаривать мазилку остаться ночевать с нами… Ну, смотрите же теперь в оба!
– Как ты думаешь, – спросил Линза, перебираясь с женщиной в соседний, менее других разрушенный дом, – трясти мне головой или нет? У сумасшедших часто трясется голова.
– Мы не в театре, – сказала Рыба, – посмотри кругом! Здесь страшно… темно… скоро будет еще темнее. Раз тебя показывают как безумца, что бы ты ни говорил и ни делал – все будет в чужих глазах безумным и диким; да еще в таком месте. Когда-то я жила с вертопрахом Шармером. Обокрав кредиторов и избегая суда, он притворился блаженненьким; ему поверили, он достиг этого только тем, что ходил всюду, держа в зубах пробку. Ты… ты в лучших условиях!
– Правда! – повеселел Линза. – Я уж сыграю рольку, только держись!
III
– Ступайте за мной! – сказал Брелок всадникам. – Кстати, в том доме вы могли бы и переночевать… хоть и безумцы, а все же веселее с людьми.
– Посмотрим, посмотрим, – спешиваясь, ответил Шуан. Они подошли к небольшому дому, из второго этажа которого уже доносились громкие слова мнимо-сумасшедшего Линзы: «Оставьте меня в покое. Дайте мне повесить эту картинку! А скоро ли подадут ужин?»
Матиа отправился во двор привязать лошадей, а Шуан, следуя за Брелоком, поднялся в пустое помещение, лишенное половины мебели и забросанное тем старым хламом, который обнаруживается во всякой квартире, если ее покидают: картонками, старыми шляпами, свертками с выкройками, сломанными игрушками и еще многими предметами, коим не сразу найдешь имя. Стена фасада и противоположная ей были насквозь пробиты снарядом, обрушившим пласты штукатурки и холсты пыли. На каминной доске горел свечной огарок; Рыба сидела перед камином, обхватив руками колени и неподвижно смотря в одну точку, а Линза, словно не замечая нового человека, ходил из угла в угол с заложенными за спину руками, бросая исподлобья пристальные, угрюмые взгляды. Молодость Шуана, его застенчиво-виноватое, подавленное выражение лица окончательно ободрили Линзу, он знал теперь, что самая грубая игра выйдет великолепно.
– Старуха совсем пришиблена и, кажется, уже ничего не сознает, – шепнул Шуану Брелок, – а старик все ждет, что дети вернутся! – Здесь Брелок повысил голос, давая понять Линзе, о чем говорить.
– Где Сусанна? – строго обратился Линза к Шуану. – Мы ждем ее, чтобы сесть ужинать. Я голоден, черт возьми! Жена! Это ты распустила детей! Какая гадость! Жану тоже пора готовить уроки… да, вот нынешние дети!
– Обоих – Жана и Сусанночку, – говорил сдавленным шепотом Брелок, – убило, понимаете, одним взрывом снаряда – обоих! Это случилось в лавке… Там были и другие покупатели… Всех разнесло… Я смотрел потом… о, это такой ужас!
– Черт знает что такое! – сказал потрясенный Шуан. – Мне кажется, что вы могли бы, схитрив как-нибудь, убрать этих несчастных из города, где их ждет только голодная смерть.
– Ах, господин, я их подкармливаю, но как?! Какие-нибудь овощи с покинутых огородов, горсть гороху, собранная в пустом амбаре… Конечно, я мог бы увезти их в Гренобль, к моему брату… Но деньги… ах, – как все дорого, очень дорого!
– Мы это устроим, – сказал Шуан, вынимая бумажник и протягивая мошеннику довольно крупную ассигнацию. – Этого должно вам хватить.
Два взгляда – Линзы и Рыбы – исподтишка скрестились на его руке, державшей деньги. Брелок, приняв взволнованный, пораженный вид, вытер рукавом сухие глаза.
– Бог… бог… вам… вас… – забормотал он.
– Ну, бросьте! – сказал растроганный Шуан. – Однако мне нужно посмотреть, что делает Матиа, – и он спустился во двор, слыша за спиной возгласы Линзы: – «Дорогой мой мальчик, иди к папе! Вот ты опять ушиб ногу!» – Это сопровождалось искренним, неподдельным хохотом мародера, вполне довольного собой. Но Шуан, иначе понимая этот смех, был сильно удручен им.
Он столкнулся с Матиа за колодцем.
– Нашел мешок сена, – сказал слуга, – но выбегал множество дворов. Лошади поставлены здесь, в сарае.
– Мы ляжем вместе около лошадей, – сказал Шуан. – Я голоден. Дай сюда сумку. – Он отделил часть провизии, велев Матиа отнести ее «сумасшедшим».
– Я больше не пойду туда, – прибавил он, – их вид действует мне на нервы. Если тот молодой парень спросит обо мне, скажи, что я уже лег.
Приладив свой фонарь на перевернутом ящике, Шуан занялся походной едой: консервами, хлебом и вином. Матиа ушел. Творческая мысль Шуана работала в направлении только что виденного. И вдруг, как это бывает в счастливые, роковые минуты вдохновения, – Шуан ясно, со всеми подробностями увидел ненаписанную картину, ту самую, о которой в тусклом состоянии ума и фантазии тоскуют, не находя сюжета, а властное желание произвести нечто вообще грандиозное, без ясного плана, даже без отдаленного представления об искомом, не перестает мучить. Таким произведением, во всей гармоничности замысла, компоновки и исполнения, был полон теперь Шуан и, как сказано, весьма отчетливо представлял его. Он намеревался изобразить помешанных, отца и мать, сидящих за столом в ожидании детей. Картина разрушенного помещения была у него под руками. Стол, как бы накрытый к ужину, должен был, по плану Шуана, ясно показывать невменяемость стариков: среди разбитых тарелок (пустых, конечно) предлагал он разместить предметы посторонние, чуждые еде; все вместе олицетворяло, таким образом, смешение представлений. Старики помешаны на том, что ничего не случилось, и дети, вернувшись откуда-то, сядут, как всегда, за стол. А в дальнем углу заднего плана из сгущенного мрака слабо выступает осторожно намеченный кусок ограды (что как бы грезится старикам), и у ограды видны тела юноши и девушки, которые не вернутся. Подпись к картине: «Заставляют стариков ждать…», долженствующая указать искреннюю веру несчастных в возвращение детей, сама собой родилась в голове Шуана… Он перестал есть, увлеченный сюжетом. Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах ужасной силой таланта, присущего ему… Он видел уже толпы народа, стремящегося на выставку к его картине; он улыбался мечтательно и скорбно, как бы сознавая, что обязан славой несчастью – и вот, забыв о еде, вынул альбом. Ему хотелось немедленно приступить к работе. Взяв карандаш, нанес он им на чистый картон предварительные соображения перспективы и не мог остановиться… Шуан рисовал пока дальний угол помещения, где в мраке видны тела… За его спиной скрипнула дверь; он обернулся, вскочил, сразу возвращаясь к действительности, и уронил альбом.
– Матиа! Ко мне! – закричал он, отбиваясь от стремительно кинувшихся на него Брелока и Линзы.
IV
Матиа, оставив Шуана, разыскал лестницу, ведущую во второй этаж, где зловещие актеры, услышав его шаги, приняли уже нужные положения. Рыба села опять на стул, смотря в одну точку, а Линза водил по стене пальцем, бессмысленно улыбаясь.
– Вы, я думаю, все тут голодны, – сказал Матиа, кладя на подоконник провизию, – ешьте. Тут хлеб, сыр и банка с маслом.
– Благодарю за всех, – проникновенно ответил Брелок, незаметно подмигивая Линзе в виде сигнала быть настороже и, улучив момент, повалить Матиа. – Твой господин устал, надо быть. Спит?
– Да… Он улегся. Плохой ночлег, но ничего не поделаешь. Хорошо, что водопровод дал воды, а то лошадям было бы…
Он не договорил. Матиа, стоя лицом к Брелоку, не видел, как Линза, потеряв вдруг охоту бормотать что-то про себя, разглядывая стену, быстро нагнулся, поднял тяжелую дубовую ножку от кресла, вывернутую заранее, размахнулся и ударил слугу по темени. Матиа, с побледневшим лицом, с внезапным туманом в голове, глухо упал, даже не вскрикнув.
Увидав это. Рыба вскочила, торопя наклонившегося над телом Линзу:
– Потом будешь смотреть… Убил, так убил. Идите в сарай, кончайте, а я пообшарю этого.
Она стремительно рылась в карманах Матиа, громко шепча вдогонку удаляющимся мошенникам:
– Смотрите же, не сорвитесь!
Увидав свет в сарае, более осторожный Брелок замялся, но Линза, распаленный насилием, злобно потащил его вперед:
– Ты размяк!.. Струсил!.. Мальчишка!.. Нас двое!
Они задержались у двери, плечо к плечу, не более как на минуту, отдышались, угрюмо впиваясь глазами в яркую щель незапертой двери, а затем Линза, толкнув локтем Брелока, решительно рванул дверь, и мародеры бросились на художника.
Он сопротивлялся с отчаянием, утраивающим силу. «С Матиа, должно быть, покончили», – мелькнула мысль, так как на его призывы и крики слуга не являлся. Лошади, возбужденные суматохой, рвались с привязей, оглушительно топоча по деревянному настилу. Линза старался ударить Шуана дубовой ножкой по голове. Брелок же, работая кулаками, выбирал удобный момент повалить Шуана, обхватив сзади. Шуан не мог воспользоваться револьвером, не расстегнув предварительно кобуры, а это дало бы мародерам тот минимум времени бездействия жертвы, какой достаточен для смертельного удара. Удары Линзы падали главным образом на руки художника, от чего, немея вследствие страшной боли, они почти отказывались служить. По счастью, одна из лошадей, толкаясь, опрокинула ящик, на котором стоял фонарь, фонарь свалился стеклом вниз, к полу, закрыв свет, и наступил полный мрак.
«Теперь, – подумал Шуан, бросаясь в сторону, – теперь я вам покажу». – Он освободил револьвер и брызнул тремя выстрелами наудачу, в разные направления. Красноватый блеск вспышек показал ему две спины, исчезающие за дверью. Он выбежал во двор, проник в дом, поднялся наверх. Старуха исчезла, услыхав выстрелы; на полу у окна, болезненно, с трудом двигаясь, стонал Матиа.
Шуан отправился за водой и смочил голову пострадавшего. Матиа очнулся и сел, держась за голову.
– Матиа, – сказал Шуан, – нам, конечно, не уснуть после таких вещей. Постарайся овладеть силами, а я пойду седлать лошадей. Прочь отсюда! Мы проведем ночь в лесу.
Придя в сарай, Шуан поднял альбом, изорвал только что зарисованную страницу и, вздохнув, разбросал клочки.
– Я был бы сообщником этих гнусов, – сказал он себе, – если бы воспользовался сюжетом, разыгранным ими… «Заставляют стариков ждать…» Какая тема идет насмарку! Но у меня есть славное утешение: одной такой трагедией меньше, ее не было. И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью?
Поединок предводителей
В глухих джунглях Северной Индии, около озера Изамет стояла охотничья деревня. А около озера Кинобай стояла другая охотничья деревня. Жители обеих деревень издавна враждовали между собой, и не проходило почти ни одного месяца, чтобы с той или другой стороны не оказался убитым кто-нибудь из охотников, причем убийц невозможно было поймать.
Однажды в озере Изамет вся рыба и вода оказались отравленными, и жители Изамета известили охотников Кинобая, что идут драться с ними на жизнь и смерть, дабы разом покончить изнурительную вражду. Тотчас же как только стало об этом известно, жители обеих деревень соединились в отряды и ушли в леса, чтобы там, рассчитывая напасть врасплох, покончить с врагами.
Прошла неделя, и вот разведчики Изамета выследили воинов Кинобая, засевших в небольшой лощине. Изаметцы решили напасть на кинобайцев немедля и стали готовиться.
Предводителем Изамета был молодой Синг, человек бесстрашный и благородный. У него был свой план войны. Незаметно покинув своих, явился он к кинобайцам и проник в палатку Ирета, вождя врагов Изамета.
Ирет, завидя Синга, схватился за нож. Синг сказал, улыбаясь:
– Я не хочу убивать тебя. Послушай: не пройдет и двух часов, как ты и я с равными силами и равной отвагой кинемся друг на друга. Ясно, что произойдет: никого не останется в живых, а жены и дети наши умрут с голода. Предложи своим воинам то же, что предложу я своим: вместо общей драки драться будем мы с тобой – один на один. Чей предводитель победит – та сторона и победила. Идет?
– Ты прав, – сказал, подумав, Ирет. – Вот тебе моя рука.
Они расстались. Воины обеих сторон радостно согласились на предложение своих предводителей и, устроив перемирие, окружили тесным кольцом цветущую лужайку, на которой происходил поединок.
Ирет и Синг по сигналу бросились друг на друга, размахивая ножами. Сталь звенела о сталь, прыжки и взмахи рук становились все порывистее и угрожающее и, улучив момент, Синг, проколов Ирету левую сторону груди, нанес смертельную рану. Ирет еще стоял и дрался, но скоро должен был свалиться. Синг шепнул ему:
– Ирет, ударь меня в сердце, пока можешь. Смерть одного предводителя вызовет ненависть к побежденной стороне, и резня возобновится… Надо, чтоб мы умерли оба; наша смерть уничтожит вражду.
И Ирет ударил Синга ножом в незащищенное сердце; оба, улыбнувшись друг другу в последний раз, упали мертвыми…
У озера Кинобай и озера Изамет нет больше двух деревень: есть одна и называется она деревней Двух Победителей. Так Синг и Ирет примирили враждовавших людей.
Морской бой
Капитан двухмачтового парусника «Элефант» держал курс на зюйд-вест. Умеренный попутный ветер плавно гнал судно к берегам Голландии. Малая зыбь, чистое небо и прозрачный осенний воздух делали утро очаровательным.
Капитан Ван-Кофин подошел к шкиперу Готцу, стоявшему у штурвала.
– Смотри, Готц, – сказал капитан, – смотри в направлении оверштага, ты видишь, сколько дыму на горизонте?!
Действительно, в указанном направлении, черня голубую дугу горизонта длинными, волокнистыми, черными полосами, змеилось множество дымов, указывающих на присутствие целой эскадры. Вдруг долетел отрывистый гул, за ним другой, третий, и полный, нервный гром боевой канонады заставил, казалось, присмиреть море.
Капитан внимательно и жадно прислушивался. Ноздри его раздувались, глаза блестели. В нем говорила кровь древних морских пиратов, грабивших берега Балтики и Финляндии.
– Готц! – сказал капитан хриплым голосом. – Давайте смотреть бой!
– Капитан, – возразил хладнокровный Готц, – если нас заметят, то потопят.
– Не все ли равно? – сказал капитан. – Я, по крайней мере, охотно рискнул бы жизнью за такое редкое зрелище.
Готц – тоже бесстрашный и очень любопытный человек – в конце концов согласился. Взяв руль вправо, он повернул судно бушпритом к центру далеких дымов и закурил трубку.
Корпуса военных судов, скрытые выпуклостью морской поверхности, не были видны, только дым, выпускаемый ими из всех труб, черными, зловещими облаками окуривал небо. Нельзя было определить – кто дерется и с кем. Ужасные удары орудий, казалось, выходили из центра земли – все чаще, ожесточеннее и потрясающе. Все матросы «Элефанта» высыпали на палубу. В общем шуме их восклицаний, замечаний и препирательства по поводу сражения – раздался вдруг голос Готца: «Ребята! Дым бледнеет!»
Капитан и матросы, присмотревшись, убедились, что дым действительно стал бледным и как бы прозрачным. Стрельба продолжалась, но уже глуше и тише, бой как будто удалялся от «Элефанта». Посмотрев на часы и лаг, капитан сказал:
– Через двадцать минут мы будем на том месте, где происходит бой!
– Происходит?! – задумчиво сказал Готц. – Я верю только осязанию, а глазам и ушам – нет.
– Что вы хотите этим сказать?
– Ровно ничего.
По мере приближения «Элефанта» к месту боя – дым таял, как бы раздувался ветром, а выстрелы бухали зсе тише и тише, как будто экипаж «Элефанта» постепенно быстро глох, и когда шхуна очутилась в точно определенном капитаном месте сражения – перед глазами зрителей расстилалось везде спокойное, пустое, бездымное море, и никакой посторонний звук не долетал с горизонта.
– Боже мой! – сказал капитан, взглянув на Готца. – Вот происхождение рассказов очевидцев о морских крупных сражениях – любопытный пример массовой галлюцинации!
Медвежья охота
I
Помещик Старкун трижды напомнил своим знакомым, что вдовому, старику скучно сидеть одному в имении, занесенном снегом. Мало кто отозвался на его письма. Большинство, помножив в уме деревенскую тишину на отсутствие напитков и развлечений, осталось в тени. Старкун наконец догадался, в чем дело, и, вытребовав из соседней деревни медвежатника Кира, заказал ему медвежью берлогу. На другой же день Кир, отрывая жесткими пальцами сосульки с заледеневших бороды и усов, стоял перед Старкуном и докладывал, что берлога есть. Тем временем другой мужик, сметливый и лукавый, отправился в Петроград с несколькими записками и привез оттуда два больших таинственных ящика, в которых, когда их поворачивали, что-то булькало.
Вооруженный, таким образом, двумя хорошими развлечениями, Старкун снова разослал письма приятелям, и вот, опаздывая, ссорясь, облизываясь и препираясь, собралась и выехала наконец из Петрограда солидная компания охотников и любителей кутерьмы, среди которых был Константин Максимович Кенин, молодой человек с пылким воображением, неразделенной любовью и страстью к приключениям. Кенин служил в посольстве.
Накануне выезда к Старкуну Кенин зашел в дом 44-6 по Фонтанке – нелепый, старый, но самый очаровательный для него дом в столице, где жила «она». Мария Ивановна Братцева, девушка двадцати лет, немного полная, крепкая, высокого роста, с одним из тех красивых и пустых лиц, какие большей частью неотразимы для молодых, сильных и здоровых мужчин. Ее глаза были почти бесцветны, брови высоки и малы, но простая, свежая линия профиля, мягкий на взгляд, свежий и крупный детски-задорный подбородок страстно тянули Кенина к ней как к женщине. Братцева носила галстуки мужского покроя, белокурые с желтизной волосы свертывала пышным затылочным узлом, говорила веским, спокойным, грудным голосом, смеялась раскатисто; в ее присутствии Кенин испытывал томление и тихую любовную злобу.
– Так что же, – сказал Кенин после одной из пауз, обрывая разговор о будущем кинематографа, – значит, у вас ко мне любви нет?
– Конечно, нет. Я ведь вам говорила… – Братцева взяла теплый платок, хотя в комнате было жарко, закутала плечи и пересела в другой угол, рассматривая Кенина внимательными, немигающими глазами. – Послушайте, какая любовь в двадцатом веке, – прибавила она, – и вам и мне нужно работать, делать жизнь.
– Как же вы хотите делать? – натянуто спросил Кенин.
– Да… так… Как выгоднее, удобнее, вкуснее… что ли. – Братцева рассмеялась и вдруг стала серьезной, сказав грустно: – Я, кажется, и любить не могу совсем; я по характеру – одиночка, и связывать себя не хочу.
«Я, по-видимому, и неудобен, и невыгоден, и невкусен, – подумал с раздражением Кенин. – Эта странная новая порода женщин и дразнит, и тянет, и… гневит… Молода, красива, служит в банке, с мужчинами на равную ногу и ждет какого-то случая…» – Вслух он сказал неуверенным, напряженным голосом:
– Я мучительно люблю вас…
– Ну, это пройдет… Киньте мне из коробки конфетку.
Кенин бросил, но неудачно, и Братцева несколько секунд шарила позади стула; затем, усевшись снова основательно и удобно, спросила:
– Вы долго пробудете на охоте?
– Дня два… не больше.
– Возьмите меня. – Она выпрямилась и благосклонно блеснула глазами. – Я, надеюсь, не помешаю вам?
– Что вы! – обрадовался и смешался Кенин. – Это так хорошо… с удовольствием… конечно, едем!.. Все, что хотите.
– С одним условием: если медведя застрелите вы – он мой.
– Оба ваши, Мария Ивановна, – я и медведь.
– Нет, пока что медведь. – Она так неопределенно вытянула эту фразу, что Кенин взволновался и радостно насторожился. – Где же мы встретимся и когда?
– Можно на вокзале… – задумчиво сказал Кенин и тихо прибавил: – Или у меня…
– Зачем же мне делать крюк? – наивно осведомилась Братцева. – Когда идет поезд?
– Одиннадцать с четвертью.
– Ну и хорошо, я приду к поезду.
– И не забудьте потеплее одеться. Кстати, дам, кроме вас, больше не будет.
– Так и должно быть, – сказала Братцева. – Один медведь – одной даме. Но только убить его должны вы.
– Да, – кратко и решительно подтвердил Кенин, чувствуя небывалый прилив уверенности, – но вы… и зачем вам нужен медведь?
– В таком подарке есть что-то значительное, оригинальное… мертвый медведь у моих ног, – нет, это стоит потерять сутки! – Она подумала и прибавила: – Говорят, шкура в отделке ценится в полтораста рублей.
– Какая отделка, – сказал Кенин и, посмотрев на часы, стал прощаться. Было полчаса первого. Почтительно и любовно поцеловав маленькую, но твердую, незаметно ускользающую руку девушки, Кенин, веселый и размечтавшийся, поехал домой. Медведь казался ему первым этапом в светлое будущее.
II
С часа ночи до пяти часов утра Кенин не спал, расхаживая по своей маленькой, холостой квартире и стараясь опередить воображением будущую охоту с ее милым ободряющим присутствием любимой женщины. Кенин курил папиросу за папиросой. Больше всего изумляло и радовало Кенина неожиданное решение Братцевой ехать с ним. «Это может быть милый женский каприз… а может… ее начинает бессознательно тянуть ко мне». Он не знал еще, что женщин, подобных Братцевой, инстинктивно влечет большая мужская компания, где в силу собственной холодности они чувствуют себя свободно, повелительно.
Хотя Кенин никогда не только не стрелял по медведю, но даже не видел его свободным, в родной лесной обстановке, он все же достаточно читал и слышал об этом звере и даже видел на кинематографических экранах подлинные медвежьи охоты. Поэтому, пришпорив фантазию, Кенин ясно увидел лес, снег, медведя, выстрел и агонию зверя. Все это рисовал он себе так: белая, утренняя, морозная тишина, палец на спуске, сердцебиение, самообладание; вдруг раздвигаются кусты, и страшная голова с оскаленными зубами рычит в десяти шагах, громовой выстрел – только один; пуля пробивает череп зверя меж глаз, и снова все тихо, конвульсивно содрогающийся труп миши лежит, зарыв голову в снег, а Кенин, спокойно закурив папиросу, трубит в рожок некий фантастический сигнал: «Тру-ту-ту-туту-тру-у!», трубит весело, коротко и пронзительно; а дальше начинался апофеоз, в котором сияющее, морозно-румяное лицо Братцевой играло главную роль.
Усталый и накурившийся до одурения Кенин наконец лег спать, предварительно полюбовавшись еще раз солидным американским штуцером-магазинкой, взятым v знакомого, и прицелившись раз пятнадцать в безответную ножку стула.
На другой день, в вагоне, бок о бок с Марией Ивановной, в кругу усатых, красноносых, неуловимо бахвальных лиц (выехали исключительно, кроме Кенина с Братцевой, пьяницы и охотники), Кенин почувствовал себя очень бывалым, почти американским стрелком и не уступал другим в детски хвастливых рассказах. Он, правда, мог говорить только о болотной и мелкой лесной дичи, но говорил так самолюбиво и много, что его наконец стали бесцеремонно перебивать. Часто он обращался к Братцевой, стараясь, не обращая внимания других, ввернуть тонкий интимный намек вроде: «А я все думаю»… «Мое настроение зависит от будущего»… «Мне весело, потому что»… – пауза, долгий, влажно-бараний взгляд, улыбка и заключение: «Потому что я вообще люблю… ездить».
Он не замечал, как спутники, взглядывая на него, подталкивают друг друга коленками и локтями, но Братцева была наблюдательнее. Взяв тон мило напросившейся, но поэтому и осторожно скромной в дальнейшем, хотя ревниво чувствительной к собственному достоинству особы, она спустя недолгое время стала центром и возбудителем общего внимания. Две бутылки коньяку, взятые на дорогу, совсем подняли настроение, а когда в сумерках не освещенного еще вагона хриплый баритон купца Кикина заявил: «А вот этого медведя, братцы, Марью Ивановну, заполевать куда бы почтеннее!» – девушка раскатисто засмеялась. Кенин посмотрел на нее ревниво и грустно.
III
Утром другого дня, проснувшись в жарко натопленной, большой, закиданной окурками и пробками комнате, Кенин смутно припомнил гул вчерашней попойки. Гости бушевали и пели, но удержались чудом в едва не лопнувшей рамке приличия. Мария Ивановна все время пересаживалась подальше от Кенина, громко бормотавшего пьяную любовную чепуху. Она одинаково ровной, задорной и разговорчивой сумела быть решительно со всеми, не исключая лысого, пузатого Старкуна, умильно целовавшего гостей в щеки и носы и щедро проливавшего водку по тарелкам и пиджакам. Кенин бешено ревновал Братцеву, посылая ей многозначительные, мрачные взгляды.
Кенин проснулся сам; было еще темно, но егерь Михаиле, человек строгой наружности, с свечой в руке командующим голосом будил остальных:
– Зря спите, господа; вставать надо, выезжать надо!
Через час собрались в столовой; завтрак на скорую руку – рюмка-другая на похмелье, синеющие, а затем голубеющие окна рассвета, стук ружей, щелканье осматриваемых курков – все это показалось Кенину живописным и необычным. К влюбленности его примешивалось сладкое ожидание опасности и успеха. В свете лунного зимнего утра спустилась вниз и Марья Ивановна; яркое, свежее лицо ее весело осматривало пустыми глазами компанию и обстановку.
– Ура, царица охоты, Марья Ивановна! – закричал Кенин, когда Братцева сказала, что она тоже поедет, ссылаясь на скуку ожидания в усадьбе. Кенин сказал: – Благословите, Марья Ивановна. За вашим медведем отправляется раб ваш в страшные дебри Амазонки.
– Ну, смотрите же! – Она так мило подставила ему руку для поцелуя, что Кенин растаял и шепнул:
– За что мучаете? – Но Братцева, как бы не слышав, ушла одеваться.
IV
Кенину на жеребьевке выпал хороший «номер». Он стал на дальнем краю небольшой, круглой поляны, с двумя, идущими влево и вправо от нее глубокими просветами. В такое широкое поле зрения медведь мог попасть весьма удачно для выстрела. Кенин осматривался, хотел закурить, но вспомнил, что это запрещено, и стал ждать. Сердце его билось с приличной быстротой, какая хотя и не говорит о трусости, но указывает все же на нервное томление и тревогу. Всюду, куда хватал взгляд, – царил снег. Белые пушистые лапы елей гнулись к земле, загромождая ясный, как вымытое стекло, воздух пышными узорами белизны; розовые и голубые искры дрожали в нем; снег внизу, теневой, казался прозрачно-синим, а солнечный – серебряной парчой с золотыми блестками. Анемично-бледное, ясное, холодное небо покрывало лес.
Впереди Кенина сердито и звонко лаяли невидимые собаки, припадая к берлоге. Кенин думал о медведе и Братцевой: «А если медведь загрызет меня, я больше не увижу ее». И он вспомнил, как ехал сегодня с ней в санях по лесной дороге и какой неотразимо желанной была она в своих белых – шапочке, кавказском башлыке и толстых, смешных валенках. Потом представился ему тяжелый сон зверя в темной берлоге, налитые кровью глаза собак, их вздыбившаяся, наэлектризованная яростным нетерпением шерсть… Лай собак стал еще хриплее, азартнее и громче. Кенин, не отрываясь, щупал глазами снежную полянку с ее боковыми просветами, как вдруг на противоположном ее конце из заросли можжевельника взлетел клуб снежной сухой пыли, и неуклюжее, темное, лохматое туловище, от которого шел пар, как от горячего теста, ворча и сопя, кинулось к месту, где стоял Кенин. Четыре сибирских лайки с налету рвали ноги и бока зверя. Медведь, проворно кружась волчком, старался расшибить лапой собак, но, промахиваясь, несся дальше. Кенин, стискивая дрожащими руками ружье, целился в медведя вообще – все охотничьи наставления о прицеле под лопатку, в лопатку, затылок и лоб разом, дружно покинули его память. Медведь был шагах в тридцати от Кенина, он выстрелил и спешно повернул рычаг штуцера.








