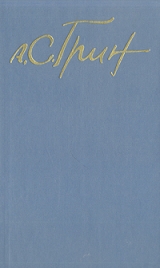
Текст книги "Том 2. Рассказы 1913-1916"
Автор книги: Александр Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Гранька и его сын
I
Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на прыгающей, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких; осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок.
Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы думать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой, коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам тридцати лет, после пожара, от которого благодаря охотничьей страсти ему удалось лишь сохранить самолов да пару удилищ. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя», – ушел в губернию двенадцатилетним мальчишкой в парикмахерскую Костанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву.
Гранька, как настоящий язычник, верил в бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала, смотря по тому, – был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии десяти шагов в березовый пень и белую моховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда, в безветрие, ходуном ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере двадцать лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику пробовать, пока не облизала палец сама.
Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утоптанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных трущоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженного тростника; избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги, тут же мотался хвост скрытой кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок.
– Стрелки, добытчики, лешего же, прости господи, – зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоща, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уезжали с жалостной и малой добычей, всадив на прощанье в бревенчатые стены избы фунта два дроби, «в цель», как они выражались, немилосердно хвастаясь своими «скоттами» и «лепажами».
Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная, с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено.
– Одер-то Агафьина, а кого приволок, – сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом, звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы, здесь тоже никого не было.
Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой; над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника – дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами.
Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу; на ней, в сене, чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней, чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем.
– По оврагам у железных ворот перся, – сказал Гранька, – напрямки ехал, а един сам. Накося!
Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев, и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью.
Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе.
– Бабылину лодку прятал, – сказал он, – просил Бабылин. Изгадят, говорит, лодку мне утошники-то, на дарма ездят, рады.
Мужики помолчали.
– Кого привез? – таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька.
Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скаля зубы:
– Сын твой, Мишка-то, а сына-то забыл, нет, сын-от твой, Михайло, сказываю, тут он, ась?! В чистоте приехал, в богачестве, земляк мой ведь он, а! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!
Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице.
– Будет же врать-то, – испуганно сказал он, – Мишка, поди, померши, давно ведь он… это.
– Да тебе сказываю, – снова закричал, волнуясь, Агафьин, – на пароходе он прикатил, утресь; а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кои сидели чаевали, кричит – «подь сюда», – я, значит, то самое – «здрасте», а он на тебя, – «батя, – говорит, – жив, ай нет?» И обсказал, а я поленницу развалил, да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рупь дал, нако!
Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось. Он мысленно увидел сына таким, каким запомнил: волосатый, веснушчатый, с пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призрак родной крови.
– Экое дело, – сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой к огню полено, – ишь, старые змеи, объявился когда, да ты по совести – врешь или нет? – Он жестоко воззрился на Агафьина, но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт. – Да ты чего сел-то, – умиленно вскричал Гранька, – завести Дуньку в оглобли. Поехали, право, поехали, а?
Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и, наступив на него, искать.
За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крякая, неслись утки.
II
Агафьин смотрел на Граньку, силясь уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал:
– Тут он, со мной приехал.
– Игде? – спросил Гранька, роняя лапоть.
– Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштоф вина выпили с ним.
Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку.
– Вот и я, – сказал он, неловко обнимая отца.
Гранька, вытерев о штаны руки, прижал их к карманам сына и прослезился.
– Миш, а Миш, – бормотал он, – приехал, значит.
– А то как же… – громко, отступая, сказал Михаил. – Дай-ка я посмотрю на тебя, старик, – он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафьину, и стал серьезен. – Настоящие мощи, неистребимые. Как живешь?
– Маненько живу, мать-то померла, знаешь?
– Должно быть. Старуха была. – Михаил положил руку на плечо Граньке. – Ну сядем.
Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга.
Гранька не узнавал сына. От прежнего Мишки остались лишь вихор да веснушки; борода, усы, возмужалость, серый городской костюм делали сына чужим.
– Везде я был, – жуя сахар, рассказывал Михаил.
Агафьин не сводил с него крупных, восторженных глаз, твердя, в паузах, бойко и льстиво: – Ишь ты. Дела, брат, первый сорт. Эх куры – петушки.
– Был везде. Последние два года прожил в Москве; там и жена моя; женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин.
Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый Агафьиным пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову.
Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки. Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя – как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то умелее. Гранька и Агафьин преувеличенно внимательно слушали его, тряся головами, поддакивая напряженно и счастливо. Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, «своим из чистых».
Взошла луна и стало еще светлее, мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары; в земляной яме, треща красными искрами, дымились головни; у берега, разводя круги, плюхалась от щуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной, спала земля.
– Жить буду у тебя, тятя, – сказал вдруг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты. – Вот так, хочу жить при тебе. Не прогонишь? – Он засмеялся и закурил папиросу, а Агафьин, подхватив уголек рукой, сунул ему. – С тем и приехал.
– Поди-ко, – сказал Гранька, – ублестишь тебя ноне.
– А что ты думаешь, – Михаил засмеялся. – Пора пришла, старик, нажился я. Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот получал, теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой, играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на чаек даю. А какой смысл? Далее для чего мне работать, хозяину вперед забегать, на ломовых горло драть. Вышел я, верно, что говорить, человеком стал. А за каким с… с…м мне этим человеком по земле маяться? Собаке, брат, лучше. У меня собака есть, пуделек, ей блох чешут, ей-ей. Ну, – тоскливо мне, проку из меня настоящего мало, махнул к тебе, подрезвиться хочу, закис, и, видишь ли ты, пью, ей-богу… как пьют – в кабаках знают. Думаешь – вышел в люди – рай небесный. Вопросы появляются.
– Миш, а Миш, – забормотал Гранька, – ты не моги. Против своей жизни не моги.
– Михайло, – сказал Агафьин, хватая рукой бороду, – обскажи, на меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не боятся.
Михаил рассеянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса.
– Это телескоп, – сказал он. – Смотрят, как звезды ходят.
– Вот то самое, – подхватил Агафьин.
– Ну, завтра поговорим, – сказал Михаил. – Положи меня, старик, дай вздохнуть.
Он осмотрелся. Ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте.
Все трое легли спать на старых мешках, от которых еще пахло мукой. Агафьин подбросил сена, а Гранька вынес зипуны. Еще поговорили о земляках, рыбе, Москве. Наконец, Агафьин уснул, храпя во все горло. Старик и сын, словно по уговору, сели. Обоим не спалось в духоте ночи, впечатлений и дум.
– Да, буду здесь жить, – громко сказал Михайло. – Как ехал – мало об том думал. Приехал – вижу, место нашел себе. И спокойнее.
– Живи, – сказал Гранька, – рыбу ловить будем.
– И деньги есть.
– Утресь рачни посмотрим. Сколь тебе годов-то теперь, Миш?
– От твоих тридцать долой, только и есть.
Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.
Таинственный лес
I
Машинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотекаря, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна.
Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представляла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность.
Все здание жизни, упорно подготовляемое долгими годами ученья, хлопот, настойчивых усилий и каменного терпения, должно было увенчаться осенью получением хорошего штатного места при академии и женитьбой на давно уже, несколько лет, любимой девушке.
Рылеев любил думать о своем будущем, относился к нему ревниво и строго.
Сев, Рылеев снял пенсне, вытер его, надел снова и посмотрел, как всегда, прямо перед собой, потом влево и вправо. Впереди, подходя к солнечным венецианским окнам, тянулась вереница лиц и затылков, склоненных над книгами. Это была всегда одна и та же картина выраженного фигурами людей массового мозгового напряжения. Слева от Рылеева сидела полная, невысокая дама с флюсом и обиженными глазами: она рылась в старых журналах. Справа, локоть к локтю Рылеева, вытянув под столом ноги и подперев небритый подбородок пальцем левой руки, плохо одетый, не первой молодости человек читал, не подымая глаз, французский переводной роман. Романы менялись, а чтец их, аккуратно являясь к открытию библиотеки, требовал недочитанную «Морскую змею» или «Жеводанского зверя» и, усаживаясь на прежнем месте, щипал траурными пальцами уголок страницы.
Рылеев, посмотрев с неуважением на этого человека, ушел в работу, и прошло немного времени, как в памяти его и блокноте внедрились свежие научные новости, достойные обработки. Он мысленно отшлифовал их, приодел, исправил погрешности перевода, в одной фразе нашел легкую казуистическую вольность, усмехнулся, похерил мировоззрение автора, записал голые факты и перешел к следующей главе. Изредка давая отдохнуть глазам или обдумывая что-либо, он подымал голову, видя все то же: светлую пустоту под потолком, голые солнечные подоконники, согнутые спины идущих на цыпочках людей и концентрические подковы черных столов, утомляющие глаз казенной симметрией. Между портретами Державина и Кольцова круглые стенные часы, сдержанно зашипев, пробили час; в углу, покраснев и не удержавшись, чихнула барышня, где-то заскрипел стул, потом упал карандаш. Звуки эти, разделенные долгими паузами тишины, резко останавливали внимание. И так, погруженный в хоровод своих и чужих мыслей, Рылеев просидел два часа.
Почувствовав утомление, сухость во рту и неудержимое желание перебирать под столом ногами, он встал, бесшумно удалился в курительную и, в обществе нескольких молодых курильщиков, смотревших, прислонясь к стене, на носки сапог, выкурил тоненькую, хмельную натощак, папиросу. Еще немного оставалось ему записать отмеченных в книге мест; он вышел и в коридоре столкнулся с улыбавшимся ему студентом Гоголевым, шедшим навстречу. Рылеев и Гоголев снимали вместе одну меблированную комнату.
– Я думал, вы ушли, – сказал Гоголев, отстегивая пуговицу мундира. – Я искал вас, вам письмо есть, почтальон был сейчас. А мне надоело сидеть дома, прошелся, так хорошо, тепло, кстати и письмо захватил.
Румяное, женственное лицо его с тупым под белыми усиками ртом силилось что-то вспомнить; он прибавил:
– Мурмина и Григорий Антонович приглашают вас вечером. Еще будут гости. А Валечка разучила что-то, сыграет… Придете?
– Хорошо, – сказал Рылеев, беря письмо. Взглянув на почерк, узнал руку Лизы и, обрадованный, забыл, что сказал Гоголев. – Так что вы говорите? Мурминой сыграть? Ах да, я приду, спасибо.
– Я Блосса буду читать, – заявил Гоголев, обдернул рукава и отошел. Рылеев, стоя в углу коридора, смотрел на конверт, стесненно вздохнул и, как всегда несколько волнуясь, разорвал угол письма. В это мгновение он был далек суровому быту читальни. Проходя мимо Рылеева, сухо посмотрела на него женщина воинственно-ученой осанки. Он, не заметив ее, прочел письмо:
«Милый мой Алексей! Этим письмом я расстаюсь с тобой навсегда. Случилось то, чего не надобно тебе знать, и не все ли равно? Наши дороги разошлись.
Забудь меня совсем, прости; мне кажется, что ты не тот, кого я ищу. Пока еще думаю о тебе, и мне тебя жаль. Прости же.
Лиза».
Прочтя это, Рылеев невольно задержал дыхание, шумно вздохнул и сделал несколько шагов поперек коридора, усиливаясь придать лицу, для себя самого, комически ошеломленное выражение. Но и тени самообладания не было уже в нем, все впечатления дня вдруг испуганно посторонились, уступая место жесткому выражению строк, дрожавших в руке Рылеева. Из странной, глубокой отдаленности доносились к нему, шаги мимо идущих людей, сдержанные голоса, кашель. Тихо и строго, пока еще лишенное смысла, повторялось его душой прочитанное письмо, и чувствовал он, что лицо болезненно горит, как будто жар невидимого огня усиливается в воздухе. Так же как простреленный навылет солдат, почесав едва ощущаемую сгоряча рану, бежит еще некоторое время, удивленно смотря на побледневшие за него лица товарищей, – Рылеев, опустив руку с письмом, вошел в зал, увидел свой пустой стул, книгу, тощие скулы чтеца романов, сел и понял.
Он понял, что библиотека, трудовые часы его, бесчисленное количество книг, к которым доныне был он жаден, полон острого, охотничьего чувства, посетители, сидящие и выходящие, портрет Державина и умное, как бы приглашающее работать, лицо красивой библиотекарши не нужны ему, существуют по недоразумению и противны. Также он понял, что от Лизы писем больше не будет, что наступила полоса большого, острого горя, но не мог еще понять и примириться с тем, что лишился любви. Этого он, продолжая любить, не понимал. И текущий день стал перед ним в трагическом свете, как бы говоря теперь, что утром было у него хорошее настроение по ошибке, что иначе надо понимать светлые аллеи бульваров, что день потерпел крушение.
Посидев еще немного, Рылеев, сильнее, чем всегда, размахивая руками, встал и вышел из библиотеки на улицу.
II
Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.
Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно колотилось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, – так как мы склонны переносить чувства свои на других, – что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.
План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.
В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, – в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений – для себя только волнующие – по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.
Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.
Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек – и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.
Все это исчезло, как будто и не было его никогда.
«Моя!» – твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» – сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.
В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.
Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:
«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».
Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.
– Ехать изволите? – сказал он, смотря главным образом на чемодан.
– Да, – ответил Рылеев, – я на один день.
Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.
Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозчичьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.
III
Петруха и Демьян с утра рубили на делянке дрова, а Звонкий, третий дроворуб, сидел дома. За неделю была выставлена им сажень дров, под эту сажень куренщик выдал Звонкому муки, мяса, водки и табаку.
Звонкий был безнадежно ленив той ленью, которая, чтобы удовлетворить себя, должна предварительно покориться необходимости заработать трешницу. Он был ободран, грязен, великолепно рыж, бородат, толстогуб; с припухшими от сна, хитрыми серо-голубыми глазами. В лаптях на босую ногу, отчего кривые ноги его, обтянутые узенькими холщовыми портками, казались тонкими, как у ребенка. Звонкий подпоясал рубаху монастырским пояском с надписью: «Блаженны нищие, яко тех есть царство небесное», развел под остывшим котелком с водой огонь и, сев на пороге, стал думать; что здесь скучно, а работа тяжка, и нет народа, с которым шумно, гульливо, озорно, полное визжащих баб, течет мужицкое воскресенье или двунадесятый. Звонкий был мужик из не теряющих своего мужицкого обличия крестьян, своеобразный рыцарь отхожих заработков, грузивший барки на Волге, косивший хлеб у колонистов в Саратове и даже тушивший в Баку пожары нефтяных вышек, – но всюду неприкосновенно пронесший свои портки, лапти, монастырский поясок и ту диковинную для горожанина психологию, в которой все начинается с утверждения, а доказательства вырабатываются собственными боками.
Звонкий, дуя на блюдечко, долго пил горячий вприкуску чай, покурил, надел шапку и вышел. Вдали, в синем зареве леса и неба, тянулась сизая седловина холмов. Мужик тронулся по тропе к делянке Петрухи. Свеженарубленные поленницы тянулись меж низко срезанных пней и груд хвороста. Мелкие белые цветы, лиловые колокольчики, ландыши, желтая богородская травка, сливаясь пятнами, напоминали брошенные цветные платки. Звонкий увидел Петруху – мужик, сидя на земле, подпиливал голую до вершины сосну. Пила, скрываясь в разрезе, шипела еле уловимым, шипящим звоном.
Звонкий остановился сзади Петрухи. Петруха, пропилив три четверти ствола, забил в щель клин, и дерево, заскрипев, нагнулось. Сопя от утомления, дроворуб встал, положил пилу и, обернувшись, увидел Звонкого.
– Не работаешь? – сказал Петруха.
– Вали сам, – ответил Звонкий, – а я посмотрю. Навалил ты, мужик, лесу, как кирпичей.
– А што? – самодовольно сказал Петруха. – Куб выставлю сегодня, ей-богу.
– Пилу направил?
– Направил. – Петруха поднял пилу и, держа ее против солнца, нацелился глазами вдоль зубьев. Математически правильно разведенные острия блеснули ему прямо в лицо огненным желобком. – Еще и не совсем ладно.
– Скажи секрет, Петруха, чем пилу направил?
– Чудак твой отец, – сказал дроворуб, вытирая рукавом потное, широкое лицо. Он щелкнул пальцем по зазвеневшей пиле. – Ручку одну сними. И отрежь пилы с этого конца четверть. А развод сделай по нитке, и чтоб все зубы были как один, и спили каждого, сколько другого спилил, как в аптеке. Понял?
Он стал распиливать сучковатый кругляк. Пила от первых же движений руки ушла в дерево так глубоко и легко, как нож в хлеб. Менее чем через минуту кругляк рассыпался надвое.
– Видел? – сказал Петруха.
– Вот елки-палки! – проговорил Звонкий. – Ну и пила!
Демьян, высокого роста худой старик, наколачивая топорище на обух, сказал Звонкому:
– Мутит от тебя, Коскентин, шел бы ты куда.
– Ишь, – захохотал Звонкий, – старухе на платок потеешь. Стар уж, капитала не наживешь.
Старик, не отвечая, проворно, словно руки и ноги его были моложе тела лет на сорок, захлопотал около дерева, сек, размахивая топором, сучья и изо всех сил, приговаривая, как мясник, разрубающий тушу: «Кэах, кэах», принялся рассекать ствол. Топор уходил все глубже; все яростнее металась старческая, обведенная полуседым венчиком вьющихся волос голова. Топор судорожно звенел.
Перестав рубить, Демьян оглянулся, желая сказать Звонкому еще раз: «Шел бы ты, право», но никого не увидел. Звонкий шел по направлению к сухому болоту, где рос некрупный кедровник. Он испытывал тоскливую потребность двигаться, придумывая ненужные и сомнительные предлоги: сбить шишки, надрать лыка, хотя лаптей сам не плел, а по вечерам предпочитал рассказывать сказки. Он знал их множество. Это были уродливые порождения фабрично-босяцкой фантазии, где в противоестественном, фантастически-похабном сплетении выступали попы, генеральши, лакеи, животные и неизменный солдат – ловкач, берущий в жены принцессу, выражающуюся, например, так:
«Окромя пирожного – ничего».
Утренний лес, под светлым, режущим глаза, небом, печальный крик сойки, смутные голоса чащи, скользкая под ногами хвоя, седой от мхов бурелом, полное дыхание летней земли и рассеянный лесной свет неотступно окружили идущего мужика. Он не думал о них так же, как мало думаем мы о привычных для нас вещах: книгах, письменных принадлежностях. Простое, но чрезвычайно поразившее Звонкого представление заставляло мужика хмыкать носом и, скаля зубы, подозревать учиненный ему неведомо кем подвох. Был ли это подвох – Звонкий еще не знал в точности, но очень хорошо знал, что вырубленные им дрова плывут по реке к заводу, пережигаются в уголь, и углем этим плавят чугун. Чугун превращается в железо, а из железа делается пила. Пилой опять пилят дрова, и это может продолжаться до второго пришествия.








