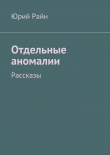Текст книги "Русская и советская фантастика (повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Антон Чехов,Александр Куприн,Иван Тургенев,Михаил Лермонтов,Александр Грин,Алексей Толстой,Алексей Толстой,Андрей Платонов,Владимир Одоевский,Валерий Брюсов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
Мы находились над плоским берегом. Налево тянулись, терялись в бесконечность скошенные луга, уставленные громадными скирдами; направо, в такую же бесконечность уходила ровная гладь великой многоводной реки. Недалеко от берега большие темные барки тихонько переваливались на якорях, слегка двигая остриями своих мачт, как указательными перстами. С одной из этих барок долетали до меня звуки разливистого голоса, и на ней же горел огонек, дрожа и покачиваясь в воде своим длинным красным отраженьем. Кое-где, и на реке и в полях, непонятно для глаза – близко ли, далеко ли – мигали другие огоньки; они то жмурились, то вдруг выдвигались лучистыми крупными точками, бесчисленные кузнечики немолчно стрекотали, не хуже лягушек понтийских болот – и под безоблачным, но низко нависшим темным небом изредка кричали неведомые птицы.
– Ми в России? – спросил я Эллис.
– Это Волга, – отвечала она.
Мы понеслись вдоль берега.
– Отчего ты меня вырвала оттуда, из того прекрасного края? – начал я. – Завидно тебе стало, что ли? Уж не ревность ли в тебе пробудилась?
Губы Эллис чуть-чуть дрогнули, и в глазах опять мелькнула угроза… Но все лицо тотчас же вновь оцепенело.
– Я хочу домой, – проговорил я.
– Погоди, погоди, – отвечала Эллис. – Теперешняя ночь – великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидетелем… Погоди.
И мы вдруг полетели через Волгу, в косвенном направлении, над самой водой, низко и порывисто, как ласточки перед бурей. Широкие волны тяжко журчали под нами, резкий речной ветер бил нас своим холодным, сильным крылом… высокий правый берег скоро начал воздыматься перед нами в полумраке. Показались крутые горы с большими расселинами. Мы приблизились к ним.
– Крикни: «Сарынь на кичку!» – шепнула мне Эллис.
Я вспомнил ужас, испытанный мною при появлении римских призраков, я чувствовал усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мне таяло, – я не хотел произнести роковые слова, я знал заранее, что в ответ на них появится, как в Волчьей Долине Фрейшюца, что-то чудовищное, – но губы мои раскрылись против воли, и я закричал, тоже против воли, слабым напряженным голосом: «Сарынь на кичку!»
XVIСперва все осталось безмолвным, как и перед римской развалиной, – но вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех – и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться… Я оглянулся: никого нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо – и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрып снастей и колес, и лошадиное скакание, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное, и повелительные восклицанья, предсмертное хрипенье, и удалой посвист, гарканье и топот пляски… «Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!»– слышалось явственно, слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей, – а между тем кругом, насколько глаз доставал, ничего не показывалось, ничего не изменялось: река катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берег казался пустынней и одичалей – и только.
Я обратился к Эллис, но она положила палец на губы…
– Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! – зашумело вокруг, – идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! – Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня… – Фролка! где ты, пес? – загремел страшный голос. – Зажигай со всех концов – да в топоры их, белоручек!
На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма – и в то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки… Дикий хохот грянул кругом…
Я лишился чувств – и когда опомнился, мы с Эллис тихо скользили вдоль знакомой опушки моего леса, прямо к старому дубу…
– Видишь ту дорожку? – сказала мне Эллис, – там, где месяц тускло светит и свесились две березки?.. Хочешь туда?
Но я чувствовал себя до того разбитым и истощенным, что я мог только проговорить в ответ:
– Домой… домой!..
– Ты дома, – отвечала Эллис.
Я действительно стоял перед самой дверью моего дома – один. Эллис исчезла. Дворовая собака подошла было, подозрительно оглянула меня – и с воем бросилась прочь.
Я с трудом дотащился до постели и гаснул, не раздеваясь.
XVIIВсе следующее утро у меня голова болела, и я едва передвигал ноги; но я не обращал внимания на телесное мое расстройство, раскаяние меня грызло, досада душила.
Я был до крайности недоволен собою. «Малодушный! – твердил я беспрестанно, – да, Эллис права. Чего я испугался? как было не воспользоваться случаем?.. Я мог увидеть самого Цезаря – и я замер от страха, я запищал, я отвернулся, как ребенок от розги. Ну, Разин – это дело другое. В качестве дворянина и землевладельца… Впрочем, и тут, чего же я, собственно, испугался? Малодушный, малодушный!..»
– Да уж не во сне ли я все это вижу? – спросил я себя наконец. Я позвал ключницу.
– Марфа, в котором часу я лег вчера в постель – не помнишь?
– Да кто ж тебя знает, кормилец… Чай, поздно. В сумеречки из дома вышел; а в спальне-то ты каблучищами-то заполночь стукал. Под самое под утро – да. Вот и третьего дня тож. Знать, забота у тебя завелась какая.
«Эге-ге! – подумал я. – Летанье-то, значит, не подлежит сомнению». – Ну, а с лица я сегодня каков? – прибавил я громко.
– С лица-то? Дай погляжу. Осунулся маленько. Да и бледен же ты, кормилец: вот как есть ни кровинки в лице.
Меня слегка покоробило… Я отпустил Марфу.
«Ведь этак умрешь, пожалуй, или сойдешь с ума, – рассуждал я, сидя в раздумье под окном. – Надо это все бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно бьется. А когда я летаю, мне все кажется, что его кто-то сосет или как будто из него что-то сочится, – вот как весной сок из березы, если воткнуть в нее топор. А все-таки жалко. Да и Эллис… Она играет со мной, как кошка с мышью… а впрочем, едва ли она желает мне зла. Отдамся ей в последний раз – нагляжусь – а там… Но если она пьет мою кровь? Это ужасно. Притом такое быстрое передвижение не может не быть вредным; говорят, и в Англии, на железных дорогах, запрещено ехать более ста двадцати верст в час…»
Так я размышлял с самим собою – но в десятом часу вечера я уже стоял перед старым дубом.
XVIIIНочь была холодная, тусклая, серая; в воздухе пахло дождем. К удивлению моему, я никого не нашел под дубом; я прошелся несколько раз вокруг, доходил до опушки леса, возвращался, тщательно вглядывался в темноту… Все было пусто. Я подождал немного, потом несколько раз сряду произнес имя Эллис все громче и громче… но она не появлялась. Мне стало грустно, почти больно; прежние мои опасенья исчезли: я не мог примириться с мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мне.
– Эллис! Эллис! приди же! Неужели ты не придешь? – закричал я в последний раз.
Ворон, которого мой голос разбудил, внезапно завозился в вершине соседнего дерева и, путаясь в ветвях, захлопал крыльями… Но Эллис не появлялась.
Понурив голову, я отправился домой. Впереди уже чернели ракиты на плотине пруда, и свет в окне моей комнаты мелькнул между яблонями сада, мелькнул – и скрылся, словно глаз человека, который бы меня караулил, – как вдруг сзади меня послышался тонкий свист; быстро рассекаемого воздуха, и что-то разом обняло и подхватило меня снизу вверх: кобчик так подхватывает когтем, «чокает» перепела… Это Эллис на меня налетела. Я почувствовал ее щеку на моей щеке, кольцо ее руки вокруг моего тела – и как острый холодок вонзился мне в ухо ее шепот: «Вот и я». Я и испугался и обрадовался в одно в то же время… Мы неслись не-высоко над землей.
– Ты не хотела прийти сегодня? – промолвил я.
– А ты соскучился по мне? Ты меня любишь? О, ты мой!
Последние слова Эллис меня смутили… Я не знал, что сказать.
– Меня задержали, – продолжала она, – меня караулили.
– Кто мог тебя задержать?
– Куда ты хочешь? – спросила Эллис, по обыкновению не отвечая на мой вопрос.
– Понеси меня в Италию, к тому озеру – помнишь?
Эллис слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тут я в первый раз заметил, что она перестала быть прозрачной. И лицо ее как будто окрасилось; по туманной его белизне разливался алый оттенок. Я взглянул в ее глаза… и мне стало жутко: в этих глазах что-то двигалось – медленным, безостановочным и зловещим «движением свернувшейся и застывшей змеи, которую начинает отогревать солнце.
– Эллис! – воскликнул я, – кто ты? Скажи же мне, кто ты?
Эллис только плечом пожала.
Мне стало досадно… мне захотелось отомстить ей, – и вдруг мне пришло на ум велеть ей перенестись со мною в Париж. «Вот уж где придется тебе ревновать», – подумал я.
– Эллис! – промолвил я вслух, – ты не боишься больших городов, Парижа, например?
– Нет.
– Нет? Даже тех мест, где так светло, как на бульварах?
– Это не дневной свет.
– Прекрасно; так неси же меня сейчас на Итальянский бульвар.
Эллис накинула мне на голову конец своего длинного висячего рукава. Меня тотчас охватила какая-то белая мгла с снотворным запахом мака. Все исчезло разом: всякий свет, всякий звук– и самое почти сознание. Одно ощущение жизни осталось – и это не было неприятно.
Внезапно мгла исчезла; Эллис сняла рукав с моей головы, и я увидел под собою громаду столпившихся зданий, полную блеска, движения, грохота… Я увидел Париж.
XIXЯ прежде бывал в Париже и потому тотчас узнал место, к которому направлялась Эллис. Это был Тюль-ерийский сад, с его старыми каштановыми деревьями, железными решетками, крепостным рвом и звероподобными зуавами на часах. Минуя дворец, минуя церковь св. Роха, на ступенях которой первый Наполеон в первый раз пролил французскую кровь, мы остановились высоко над Итальянским бульваром, где третий Наполеон сделал то же самое и с тем же успехом. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины в пышных платьях, теснились по панелям; раззолоченные рестораны и кофейные горели огнями; омнибусы, кареты всех родов и видов сновали вдоль бульвара; все так и кипело, так и сияло, все, куда ни падал взор… Но, странное дело! Мне не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотелось приблизиться к этому человеческому муравейнику. Казалось, горячий, тяжелый, рдяный пар поднимался оттуда, не то пахучий, не то смрадный: уж очень много жизней сбилось там в одну кучу. Я колебался… Но вот резкий, как лязг железных полос, голос уличной лоретки внезапно долетел до меня; как наглый язык, высунулся он наружу, этот голос; он кольнул меня, как жало гадины. Я тотчас представил себе каменное, скуластое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, белила, румяны, взбитые волосы и букет ярких поддельных цветов под остроконечной шляпой, выскребленные ногти вроде когтей, безобразный кринолин… Я представил себе также и нашего брата степняка, бегущего дрянной припрыжкой за продажной куклой… Я представил себе, как он, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать в манерах гарсонам Вефура, пищит, подслуживается, юлит – и чувство омерзения охватило меня… «Нет, – подумал я, – здесь Эллис ревновать не придется…»
Между тем я заметил, что мы понемногу начали понижаться… Париж вздымался к нам навстречу со всем своим гамом и чадом…
– Остановись! – обратился я к Эллис. – Неужели тебе не душно здесь, не тяжело?
– Ты сам просил меня перенести тебя сюда.
– Я виноват, я беру назад свое слово. Неси меня прочь, Эллис, прошу тебя. Так и есть: вот и князь Кульмаметов ковыляет по бульвару, и друг его, Серж Вараксин, машет ему ручкой и кричит: «Иван Степаныч, аллон супэ[27]27
Пойдем ужинать (фр.).
[Закрыть], скорей, же ангаже[28]28
Я пригласил (фр.)
[Закрыть] самое Ригольбош!» Неси меня прочь от этих мабилей и мезон-доре, от ганденов и бишей, от жокей-клуба и Фигаро, от выбритых солдатских лбов и вылощенных казарм, от сержандевилей с эспаньолками и стаканов мутного абсенту, от игроков в домино по кофейным и игроков на бирже, от красных ленточек в петлице сюртука и в петлице пальто, от господина де Фуа, изобретателя «специальности браков» и даровых консультаций д-ра Шарля Аль-бера, от либеральных лекций и правительственных брошюр, от парижских комедий и парижских опер, от парижских острот и парижского невежества… Прочь! прочь! прочь!
– Взгляни вниз, – отвечала мне Эллис, – ты уже не над Парижем.
Я опустил глаза… Точно. Темная равнина, кой-где пересеченная беловатыми чертами дорог, быстро бежала под нами, и только назади, на небосклоне, как зарево огромного пожара, било кверху широкое отражение бесчисленных огней мировой столицы.
XXОпять упала пелена на глаза мои… Опять я забылся. Она рассеялась наконец.
Что это там внизу? Какой это парк с аллеями стриженых лип, с отдельными елками в виде зонтиков, с портиками и храмами во вкусе помпадур, с изваяниями сатиров и нимф Берниниевской школы, с тритонами рококо на средине изогнутых прудов, окаймленных низкими перилами из почерневшего мрамора? Не Версаль ли это? Нет, это не Версаль. Небольшой дворец, тоже рококо, выглядывает из-за купы кудрявых дубов. Луна неясно светит, окутанная паром, и по земле как будто разостлался тончайший дым. Глаз не может разобрать, что это такое: лунный свет или туман? Вон на одном из прудов спит лебедь: его длинная спина белеет, как снег степей, прохваченных морозом, а вон светляки горят алмазами в голубоватой тени у подножия статуй.
– Мы возле Мангейма, – промолвила Эллис, – это Швецингенский сад.
«Так мы в Германии!» – подумал я и начал прислушиваться. Все было безмолвно; только где-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила все одни и те же слова: «Да, да, да, всегда, да». И вдруг мне почудилось, как будто по самой середине одной из аллей, между стенами стриженой зелени, жеманно подавая руку даме в напудренной прическе и пестром роброне, выступал на красных каблуках кавалер, в золоченом кафтане и кружевных манжетках, с легкой стальной шпагой на бедре… Странные, бледные лица… Я хочу вглядеться в них… Но уже все исчезло, и только по-прежнему болтает вода.
– Это сны бродят, – шепнула Эллис, – вчера можно было увидеть много… много. Сегодня и сны бегут человеческого глаза. Вперед! Вперед!
Мы поднялись кверху и полетели дальше. Так плавен и ровен был наш полет, что казалось, не мы двигались, а все, напротив, к нам двигалось навстречу. Появились горы, темные, волнистые, покрытые лесом; они выросли и поплыли на нас… Вот уже они протекают под нами со всеми своими извилинами, ложбинами, узкими лугами, с огненными точками в заснувших деревушках у быстрых ручьев на дне долин; а впереди опять вырастают и плывут другие горы… Мы в недрах Шварцвальда.
Горы, всё горы… и лес, прекрасный, старый, могучий лес. Ночное небо ясно: я могу признать каждую породу, деревьев, особенно великолепны пихты с их белыми прямыми стволами. Кое-где на опушках виднеются дикие козы; стройно и чутко стоят они на своих тонких ножках и прислушиваются, красиво повернув головы и насторожив большие трубчатые уши. Развалина башни печально и слепо выставляет с вершины голого утеса свои полуобрушенные зубцы; над старыми, забытыми камнями мирно теплится золотая звездочка. Из небольшого, почти черного озера поднимается, как таинственная жалоба, стенящее укание маленьких жаб. Мне чудятся другие звуки, длинные, томные, подобные звукам эоловой арфы… Вот она, страна легенд! Тот же самый тонкий лунный дым, который поразил меня в Швецингене, разлит здесь повсюду, и чем дальше расходятся горы, тем гуще этот дым. Я насчитываю пять, шесть, десять различных тонов, различных пластов тени по уступам гор, и над всем этим безмолвным разнообразием задумчиво царит луна. Воздух струится мягко и легко. Мне самому легко и как-то возвышенно спокойно и грустно…
– Эллис, ты должна любить этот край!
– Я ничего не люблю.
– Как же это? А меня?
– Да… тебя! – отвечает она равнодушно.
Мне сдается, что ее рука теснее прежнего обвивает мой стан.
– Вперед! Вперед! – говорит Эллис с каким-то холодным увлеченьем.
– Вперед! – повторяю я.
XXIСильный переливчатый, звонкий крик раздался внезапно над нами и тотчас же повторился уже немного впереди.
– Это запоздалые журавли летят к вам, на север, – сказала Эллис, – хочешь к ним присоединиться?
– Да, да! подними меня к ним.
Мы взвились и в один миг очутились рядом с пролетавшей станицей.
Крупные красивые птицы (их всего было тринадцать) летели треугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. «Мы долетим небось, хоть и трудно, – казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы – в России – где в России! в целом свете немного.
– Мы теперь летим в Россию, – промолвила Эллис. Я уже не в первый раз мог заметить, что она почти всегда знала, о чем я думаю. – Хочешь вернуться?
– Вернемся… или нет! Я был в Париже; неси меня в Петербург.
– Теперь?
– Сейчас… Только закрой мне голову твоей пеленой, а то мне дурно делается.
Эллис подняла руку… но прежде чем туман охватил меня, я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого, тупого жала…
XXII«Слуша-а-а-а-ай!» – раздался в ушах моих протяжный крик. «Слуша-а-а-ай!» – словно с отчаянием отозвалось в отдалении. «Слуша-а-а-а-ай!» – замерло где-то на конце света. Я встрепенулся. Высокий золотой шпиль бросился мне в глаза; я узнал Петропавловскую крепость.
Северная, бледная ночь! Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли это день? Я никогда не любил петербургских ночей; но на этот раз мне даже страшно стало: облик Эллис исчезал совершенно, таял, как утренний туман на июльском солнце, и я ясно видел все свое тело, как оно грузно и одиноко висело в уровень Александровской колонны. Так вот Петербург! Да, это он, точно. Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывескам железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная пестрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках, – да, это она, наша Северная Пальмира. Все видно кругом; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румянец вечерней зари – чахоточный румянец – не сошел еще и не сойдет до утра с белого, беззвездного неба; он ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчит и чуть колышется, торопя вперед свои холодные синие воды…
– Улетим, – взмолилась Эллис.
И, не дожидаясь моего ответа, она понесла меня через Неву, через Дворцовую площадь, к Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улице шла кучка молодых людей с испитыми лицами и толковала о танцклассах. «Подпоручик Столпаков седьмой!» – крикнул вдруг спросонку солдат, стоявший на часах у пирамидки ржавых ядер, а несколько подальше, у раскрытого окна высокого дома, я увидел девицу в измятом шелковом платье, без рукавчиков, с жемчужной сеткой на волосах и с папироской во рту. Она благоговейно читала книгу: это был том сочинений одного из новейших Ювеналов.
– Улетим! – сказал я Эллис.
Минута, и уже мелькали под нами гнилые еловые лесишки и моховые болота, окружающие Петербург. Мы направлялись прямо к югу: небо и земля, все становилось понемногу темней и темней. Больная ночь, больной день, больной город – все осталось назади.
XXIIIМы летели тише обыкновенного, и я имел возможность уследить глазами, как постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки – изредка деревни, церкви – и опять поля, и леса, и кусты, и овраги… Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством; эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, – как это мне вдруг все опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку… Да, мне стало скучно – хуже чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям: все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения, и сильнее всего, и более всего во мне было отвращение – к самому себе.
– Перестань, – шепнула Эллис, – перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжел становишься.
– Ступай домой, – отвечал я ей тем же голосом, каким я говаривал эти слова моему кучеру, выходя в четвертом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины. – Ступай домой, – повторил я и закрыл глаза.