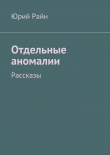Текст книги "Русская и советская фантастика (повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Антон Чехов,Александр Куприн,Иван Тургенев,Михаил Лермонтов,Александр Грин,Алексей Толстой,Алексей Толстой,Андрей Платонов,Владимир Одоевский,Валерий Брюсов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 44 страниц)
Приставник обрадовался, услыша первый раз Антиоха говорящего. Он думал, что Антиох излечился. Антиох долго, с наслаждением смотрел на написанное им слово, горячо поцеловал его, хотел встать и вдруг свалился опять на стул свой, голова его склонилась на бумагу. Перо выпало из рук его…
Я прибежал опрометью, когда меня известили, и застал Антиоха еще в этом положении. Но он был уже холоден. На бумаге было написано его рукою: Адельгейда.
• • •
Леонид кончил свой рассказ. Мы все молчали. Читатели припомнят, что в числе слушателей были две девушки, одна веселая, с черными глазами, другая задумчивая, с голубыми. Веселая встала и пошла прочь, сказав: «Он все выдумал: так не любят, и что за радость так любить?»
Леонид не отвечал ей ни слова, но, когда мы, мужчины, составили кружок и стали рассуждать всякий по-своему, Леонид придвинулся к другой девушке. Она плакала, закрывая глаза платком. Леонид взял ее руку и поцеловал украдкою, не говоря ни слова…
– Вы не выдумали? – сказала она, вдруг взглянув на Леонида.
– И не думал, – отвечал Леонид. – Неужели и вы скажете: так не любят?
– О, нет! Верю, чувствую, что так можно любить, но… Леонид?
– Если иначе не смеешь любить, скажи, милый друг: не блаженство ли безумие Антиоха и смерть Адельгейды?
Я не вслушался в ответ и не знаю, что ответил Леонид.
К. С. Аксаков
ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ
жизнь в мечте
повесть
В городе M. жил студент, по имени Вальтер Эйзенберг. Это был молодой человек лет осьмнадцати. Жизнь его до того времени не была замечательна никакими особенными происшествиями. Он родился с головою пылкою, сердцем, способным понимать прекрасное, и даже с могучими душевными силами. Но природа, дав ему, с одной стороны, все эти качества, с другой, перевесила их характером слабым, нерешительным, мечтательным и мнительным в высочайшей степени. Пока он рос в дому у отца и матери, все было хорошо: он еще не знал света и не боялся узнать его; но и тогда несчастный его характер не давал ему покоя. Когда ему было лет одиннадцать-двенадцать, поступкам своим умел он отыскать дурную причину: ему казалось, что везде преследовал его какой-то злой дух, который нашептывал ему ужасные мысли и влек к преступлению. Такое-то болезненное состояние души, причина которого находится, вероятно, в способности слишком живо принимать впечатления, продолжалось лет до пятнадцати. Еще до вступления своего в университет он любил живопись как художник и в ней находил отраду больной душе своей. Он принес в университет сердце доверчивое и торопился разделить свои чувства и поэтические мечты с товарищами. Скоро он познакомился с студентами, которые, как ему казалось, могли понимать его. Это был круг людей умных, которые любили поэзию, но только тогда признавали и уважали чувство в другом человеке, когда оно являлось в таком виде, под которым им рассудилось принимать его, как скоро же чувство проявлялось в сколько-нибудь смешной или странной форме, они сейчас же безжалостно восставали и отвергали его. Эйзенберг был моложе их: несколько понятий, конечно, ошибочных, но свойственных летам, случалось ему высказать перед своими приятелями; робкий, сомнительный характер придавал речам его какую-то принужденность; этого было довольно для них, чтобы решить, что у Вальтера нет истинного чувства, хотя они сами точно так же ошибались назад тому года два-три. Вальтер не вдруг это заметил. Он стал говорить свои мысли – его едва выслушивали, он высказывал свои чувства – его слушали и молчали; он показывал свои рисунки – ему говорили холодно и без участия: «Да, хорошо…» Представьте себе положение бедного, вообразите, как сжималось его любящее сердце от такого привета! Часто приходил он домой убитый духом, и тяжелые мысли – сомнение в самом себе, в собственном достоинстве, презрение к самому себе – теснились ему в грудь. Это, право, ужасное состояние. Не дай бог испытать его! Это верх отчаяния, не того отчаяния, бешеного, неистового, нет, отчаяния глубоко-спокойного, убийственного. Об нем едва ли может иметь понятие тот, кто не испытал его. Каким же именем назвать людей, уничтожающих так человека? Наконец, как будто пелена упала с глаз Эйзенберга – он решился не обращать внимания на их мнения, удалиться, заключиться в самом себе и хранить сбереженный остаток чувства. О, он имел довольно гордости, чтобы не выпрашивать участия как милости.
В то время познакомился он с одним молодым человеком, которого звали Карлом. Знакомство их скоро обратилось в дружбу. Как доволен был Вальтер, нашедши человека, которому смело, доверчиво мог поверять все, что было у него на душе, человека, который хотя часто был с ним согласен, не всегда мог понимать его в самом деле странные мысли, но зато умел ценить его и платил ему тою же доверенностью.
Еще одно обстоятельство изменило несколько мирную, уединенную жизнь Вальтера. Он познакомился с доктором Эйхенвальдом, который был известен в городе своими странностями: на лице никогда не сходила насмешливая, неприятная улыбка. Он всегда ходил в сером фраке, в белой шляпе, нахлобученной на его густые, седые брови, и с суковатой палкой; он не говорил почти ни с кем, являлся редко в обществе и большую часть времени проводил в своем кабинете. У него жила воспитанница, дальняя его родственница, молодая девушка, лет девятнадцати, которой он заступил место отца. Случай познакомил Вальтера с Эйхенвальдом. Гуляя в публичном саду с Карлом, зашли они в одну беседку, в которой никого не было, и у них начался откровенный разговор. Карл ушел прежде. Вальтер также собирался выйти, как из угла беседки показался Эйхенвальд, которого он прежде не приметил, и, взяв его за руку, сказал ему:
– Ко мне, молодой человек… завтра в пять часов жду вас.
Вальтер едва успел поблагодарить, как он уже удалился.
Эйзенберг явился в назначенный час. Эйхенвальд сидел в халате.
– А, – сказал он, усмехаясь, и протянул ему руку. – А вот моя родственница Цецилия!
Перед Вальтером стояла девушка высокого роста; черные глаза ее, сухие и блестящие, имели в себе какую-то чудную обаятельную силу, которая покоряла ей всякого, кто к ней приближался; ее взгляд был быстр и повелителен, но она умела смягчать его, умела тушить влагою неги сверкающий огонь глаз своих, и тогда на кого обращала она взор свой, тот готов был ей отдать и надежды, и жизнь, и душу. Волосы ее, длинные, черные, энергически густые, обвивали несколько раз как тюрбан ее голову. Она редко показывалась в обществе, и юноши города М. очень досадовали за то на Эйхен-вальда; другого же случая видеть ее не было, потому что старый доктор почти никого не принимал в дом к себе.
Цецилия сурово взглянула на Вальтера; на гордом, возвышенном челе ее не проскользнуло ни тени привета. Студент оробел. Эйхенвальд говорил мало, и Вальтер, возвращаясь домой, не мог понять, зачем он звал его к себе? Однако ж он решился идти туда в другой раз.
Через неделю, в тот же час Эйзенберг пришел к доктору. Цецилия встретила его.
– Г-на Эйхенвальда нет дома, – сказала она ему, и ее голос звучал ласково. – Не угодно ли вам подождать и провести это время со мною?
Эйзенберг был очень рад. Они были у окошка: ветерок чуть-чуть веял; солнце спускалось с безоблачного неба; тени от домов все росли и росли… Сидеть в такой час у растворенного окошка, дышать свежим воздухом, чувствовать близкое присутствие прекрасной Девушки – о, как это хорошо! Разговор шел сначала очень вяло, но Цецилия беспрестанно поддерживала его. Ее слова были растворены ласкою. Эйзенберг становился мало-помалу развязнее, и когда Цецилия предложила ему идти в сад, то он даже осмелился подать ей легкий газовый шарф. Прогуливаясь по саду, они остановились перед грядкою нарциссов. Цецилия сорвала один.
– Я знаю, что вы живописец, – начала она. – Скажите мне, рисуете ли вы цветы? Думаете ли вы, что цветная живопись простая копия природы или в ней также может быть творчество?
– О, без сомнения, – отвечал Эйзенберг, – все будет копией, если мы станем смотреть только на наружную сторону вещей. Нет, должно угадать внутреннюю жизнь, угадать поэзию предмета, и тогда можно воссоздать его на полотне. Я верю, Цецилия, – продолжал он, – что каждый цветок имеет соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая и в нем, только в низшей степени, только не так разнообразно развивает ее. Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна была пройти целый ряд созданий по всем своим царствам и одну и ту же мысль выразила сначала в камне, потом в растении, потом в животном и, наконец, беспрестанно совершенствуясь, в человеке развила ее в высшей степени. Да, Цецилия, у каждого из нас есть родные во всех царствах природы, созданные ею по одной идее с нами; поэтому я думаю, что я могу отыскать свой портрет и между цветами, которые под другими, менее совершенными формами выражают ту же мысль, какую я <выражаю> всем существом своим. После этого как не находить поэзии в цветах, и неужто цветная живопись есть только сухая копировка?
Цецилия взглянула на него пристально.
– Я согласна с вамп, – сказала она, помолчав. – Спишите же мой портрет между цветами, – прибавила она с улыбкою.
– Я вас так мало знаю, – отвечал, запинаясь, Вальтер.
– Кто ж вам мешает бывать у нас чаще; но вот, кажется, и г-н Эйхенвальд; пойдемте к нему.
Эйзенберг, пробывши там еще час, пошел домой весь радостный. Он шел по улицам, ни на что не обращая внимания, весь в себе, напевая песни; а в голове его мечтам и конца не было: его сердце наполнялось в это время таким сладким чувством, что он готов был обнять и расцеловать всякого. Пришедши домой, бросился он на стул у окна, потом вскочил и, прошедши раза два по комнате, сел опять и совершенно забылся. Если б его спросили, о чем он думает, он бы не мог отвечать. В это время вошел Карл.
– Вальтер, – сказал он ему, – полно сидеть дома; я пришел за тобою, чтобы прогуляться вместе: время чудное.
– А, Карл, садись! Я пришел сейчас и устал немного. Останься со мной.
Карл заметил, что друг его чертил что-то карандашом на бумаге.
– Что ты рисуешь?
– Так, это моя фантазия.
– Твоя фантазия очень миловидна. Да не портрет ли это? – Вальтер не отвечал, продолжая чертить. Карл подождал, пока он кончит; наконец, положив карандаш, Вальтер спросил его машинально:
– Ну, что?
– Что с тобою, Вальтер? Ты рассеян, это не без причины.
– Ах, Карл, Карл! – сказал Вальтер, опять задумываясь.
Карл долго смотрел на Эйзенберга, наконец сказал тихо:
– Как хороша она!
– Прелестная девушка!
– Какое наслаждение смотреть на нее!
– Да, быть с нею, говорить с нею – вот счастие!
– Умереть у ног ее – вот блаженство! – докончил громко Карл и покатился со смеху.
– Что это значит, Карл? Разве ты знаешь Цецилию? Ты смеешься?
– Попался, – говорил Карл, продолжая смеяться, – попался и высказал все, что было на душе. Видишь, как немудрено узнать твою тайну. Ну, не сердись же.
Мне ты мог ее сказать. Итак, Цецилия, прелестная Цецилия владеет твоим сердцем, – прибавил он патетическим тоном.
– Послушай, Карл, – сказал несколько серьезно Вальтер, – если ты хочешь смеяться надо мною, так душе ступай вон, а то слишком не хорошо узнать секрет другого и потом смеяться над ним. Разве я лез к те с моею доверенностью?
– Полно, полно, не сердись. Шутка – не насмешка. А лучше расскажи мне хорошенько.
Вальтер рассказал ему все, и Карл, оставя свой шутливый тон, слушал его с участием.
Друзья расстались. Вальтер весело лег спать: завтра он пойдет на целый день к Эйхенвальду; сладкие сны вились над головою его. Он проснулся; светло и радостно улыбалось ему утро, так приветно пели птицы. Он встал, взглянул на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Эйхенвальду.
День этот скоро прошел для Эйзенберга; после обеда Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались одни. Как хороша была Цецилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями. Вальтер смотрел на нее; Вальтер все смотрел на нее.
– Нет, господи! Прекрасна луна, цветы, деревья, безоблачное небо, прекрасна природа; но это создание лучше всех твоих созданий, прекраснее цветов и неба, прекраснее природы!
– Послезавтра вечером я буду одна, – сказала Цецилия, прощаясь с ним. – Приходите, мне нужно поговорить с вами.
– Да, я уйду послезавтра вечером, – подтвердил Эйхенвальд, – приходите.
Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это предложение. Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему пересказать.
– Послушай, – сказал тот, когда Вальтер кончил, – мне что-то кажется странным и неприличным такая короткость в девушке; и Эйхенвальд точно будто с нею сговорился.
– Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел, чтобы Цецилия была модная кукла, со всеми светскими приличиями; неужто все, что сколько-нибудь отклоняется от них, что сколько-нибудь следует естественному влечению, кажется тебе странным; неужто во всяком сколько-нибудь необыкновенном, не пошлом поступке ты находишь дурное?
– Нельзя ли мне видеть Цецилию?
– Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном; проходи мимо их дома. – Он сказал ему адрес.
* * *
Был шестой час вечера. Вальтер весело шел по улицам: он увидит Цецилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним: легкий вечерний ветерок, теплый воздух, зеленые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернее щебетанье птиц, голубое небо, по краям которого, как усталые, растянулись облака, – все, все было так светло, так хорошо, все дышало такою отрадою. Как понятна нам красота природы, когда на душе нашей счастие… А Вальтер был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился образ прелестной девушки. В душе его было ожидание близкой минуты свидания, перед ним был целый вечер, который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда, видит издали, что кто-то сидит у окна: это она; это верно она; это ее черные волосы колеблются; это ее белая рука лежит на окне; она подняла руку, опять опустила ее; он сейчас ее увидит, она сейчас его увидит, сейчас, сейчас!..
Вальтер поклонился Цецилии, проходя мимо; она встала. Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели у окошка, друг против друга.
Разговор их одушевился. Вальтер принес Цецилии свои рисунки; они говорили о живописи, о поэзии и, наконец, о любви.
– Да, Вальтер, – говорила так искренно Цецилия, – да, любовь – блаженство; но она не для тех людей, которым надобна тишина: для них она беспокойна. Вы любили, Вальтер?
Вальтер покраснел; он невольно вспомнил Карла, но мысль эта рассеялась в одну минуту.
– Я не знал любви до сих пор; но теперь я…
– Вы любите. Что же, вы счастливы?
– Счастлив, счастлив! Чего мне еще желать? Я могу видеть ее перед собою, слышать ее голос, думать о ней… О, если бы вы знали, как я счастлив! Когда б только я был уверен, что она любит меня, – прибавил Эйзенберг, несколько смутясь, – о, тогда бы, тогда бы…
Цецилия улыбнулась.
– Вы меня любите, Вальтер, – сказала она, – и я вас люблю.
Вальтер задрожал: эти неожиданные слова совершенно поразили его.
– Завтра мы едем в деревню: вы будете у нас.
Что мог сказать Вальтер? Он изнемог от силы впечатления. Цецилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог отвести глаз от ее взора; казалось, он весь перелился в зрение; казалось, там только сосредоточена вся жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно: перед ним все подернулось туманом; ему казалось, что он перешел в глаза Цецилии и что это чудный какой-то мир; со всех сторон блещут искры: он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею и вдруг исчезает, и он тонет, тонет; ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает перед ним и опять скрывается, а он все тонет, тонет…
Вдруг Цецилия повернула голову и взглянула в окно. Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по жилам.
Вальтер посмотрел в окно: это был Карл, который, пройдя мимо и взглянув на Цецилию, привлек на себя ее внимание, заставил оборотиться.
Она уже опять смотрела на него и сказала:
– Вы непременно приедете к нам в деревню.
– Да, да, непременно, – подхватил вошедший Эйхенвальд.
Вальтер не мог долго оставаться; изнеможденный, побрел он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив; но в этом счастии было что-то необыкновенно приятное; в сладкое чувство блаженства теснился какой-то вопрос.
Поутру все ему представилось в радужном, веселом свете: Цецилия его любит; он поедет к ним в деревню. Вальтер не мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему Карл.
– Ну, я видел твою Цецилию, – сказал он. – Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша; но в лице нет никакой приятности; как могла она тебе понравиться?
– Молчи, Карл, об этом не спрашивают и не рассуждают; а лучше радуйся моему счастию. Слушай, – и он рассказал ему весь разговор свой с Цецилией.
– Я счастлив, Карл, не правда ли?
– Дай бог, чтоб это была правда.
После обеда Эйзенберг пошел с своим другом к одному из своих товарищей, где нашел несколько других студентов. Весь вечер был он весел, шутил, смеялся п, наконец, простился с ними, сказав, что, может быть, долго не увидится; послезавтра он ехал в деревню к Эйхенвальду.
Следующий день он приготовлялся к дороге, увязывал свой станок, укладывал краски: Цецилия просила давать ей уроки в живописи. На другой день рано поутру лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его, сел и поехал.
Вечером подъехал он к деревне Эйхенвальда. Как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа! Он побежал сначала в дом – никого нет; все в саду. Он бросился в сад; идет наудачу по дорожкам, вышел на поляну – нет Цецилии; вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу; он спешит к роще, – и вот между ветвями замелькали черные локоны; Цецилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера.
– Вальтер, – сказала она таким голосом, который проник всю его душу, – я ждала вас.
Эйзенберг стал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на нее и не мог оторваться: казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу.
Цецилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце у Вальтера билось, он испытывал неописуемое чувство; он хотел говорить, но язык его не слушался, и он продолжал снова глядеть на Цецилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну; вдали блестела полоса воды; солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило тени от юноши и девушки, когда они отделились от рощи.
– Ты мой, – сказала Цецилия, устремляя глаза на Эйзенберга.
– Я твой, – прошептал он и снова потерялся в черном ее взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается… и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и повяну, и рощу, но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит сильфида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю; умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде плывут и стелются наяды; струи, переливаясь через них, покрывают их прозрачною легкою пеленою и блестят на; солнце. Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но Цецилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно, одушевленно раздалась по поляне:
Туда, туда! Иди за мною!
Я знаю чудный, светлый край.
Простись с коварною землею,
Там ждет тебя небесный рай.
Свет, полный суеты, не знает
Той очарованной страны,
Где прелесть вечная сияет
Неувядающей весны.
Но путь я знаю сокровенный
В тот край, где радость и покой —
О, друг мой милый, друг бесценный,
Туда за мной, туда за мной!
Боже мой, как хороша была Цецилия в эту минуту! Вальтер следил за каждым звуком ее песни, за каждым ее движением; казалось, он мог только молча понимать Цецилию, мог только чувствовать, но потерял способность выражения: он был в каком-то очаровании.
Солнце село; они пошли домой; в аллее встретился с ними Эйхенвальд. Доктор был очень рад гостю; из обращения его Вальтер заметил, будто он знает о взаимной любви его и Цецилии. Они долго еще трое ходили по саду. Луна взошла высоко. Все наконец пошли в дом. ЭЙзенбергу отвели особый флигель. Во сне ему все виделась Цецилия.
На другой день Вальтер начал давать свои уроки. Что сказать вам? Жизнь его покажется однообразною; но как она была полна и многозначительна для него! Часто засматривался он в очи Цецилии, засматривался, исчезал и забывался совершенно и только смутно чувствовал, что он счастлив, невыразимо счастлив.
Однажды, это было вечером; уже свежая роса серебрилась на листьях; Вальтер шел по аллее, которая вела к березовой роще: он искал Цецилию. Эйзенберг вышел на поляну, вдали синелось озеро, там на берегу различил он Цецилию, и через минуту он был с нею.
– Мы еще никогда не были за озером, друг мой, – сказала она ему, – Вот лодка: поедем.
Они сели, оба взяли по веслу, и челнок отплыл от берега. Вода струилась за кормою и всплескивалась, поднимая веслами и скатываясь с них блестящими брызгами; было тихо, парус был свернут; скоро доехали они до противоположного берега. В нескольких шагах была кленовая роща: они вошли туда и сели под навесом трех старых кленов.
– Ты любишь меня, – сказала Цецилия, устремив на Эйзенберга свой взор, в который он снова погрузился. – Да, ты меня любишь, – продолжала она через минуту, – да, я твое сознание, я твоя жизнь, без меня горе тебе, ты слился с моим существованием.
– Да, Цецилия.
– Слушай же, – сказала она, взяв его за голову и сжав ее обеими руками. Вальтеру показалось, что огонь прожег его череп. – Слушай же, ничтожное существо: я тебя ненавижу; сама природа поставила нас в мире друг против друга и создала нас врагами. Давно уж возбудил ты мое мщение: теперь я достигла своей цели; да, ты теперь будешь мучиться: счастия нет для тебя, тебе не выдастся ни одной сладкой минуты; я тебя ненавижу, но ты мой! Ты меня не забудешь: не оторвать тебе от меня души своей – ты мой! Никогда не найти тебе приюта: все твои мысли погаснут, окаменеют все твои чувства, все мечты рассеются. Ты любишь меня, ты полюбил меня навеки, и ненависть моя камнем ляжет на твоем сердце – ты мой.
Цецилия встала и исчезла между деревьями. Несколько времени лежал Вальтер как без памяти; наконец, он очнулся, встал, и вот из-за деревьев, из травы, с воздуха, отовсюду, отовсюду видятся ему блестящие глаза Цецилии, и все эти глаза устремлены на него: они жгут, палят его внутренность. В ужасе он закрыл глаза свои рукою; и вот со всех сторон раздался голос Цецилии: «Вальтер, Вальтер, Вальтер…» Эти звуки гремели и теснились в ушах его, он не выдержал и бросился бежать из рощи. Голос Цецилии загремел вслед его:
– Куда, куда, милый Вальтер?
– Куда, куда, милый Вальтер? – шумели ему деревья.
– Куда, куда, милый Вальтер? – раздалось со всех сторон, когда он выбежал из рощи.
– Куда, куда, Вальтер? – шептала трава под его ногами.
Вальтер добежал до лодки и бросился в нее: он прилежно начал грести; челнок поплыл скоро; из каждой струи, взбрасываемой веслом, на него глядели глаза Цецилии.
– Куда, куда, Вальтер? – журчали волны.
Он был уже в саду; он бежал по аллее; на дорог встретился ему Эйхенвальд, в халате, с книгою в руках старик увидел его.
– А, – сказал он, странно улыбаясь и провожая его глазами.
Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который сидел в ней, и уговорился с ним, чтобы он довез его до города, в такое-то место, в такой-то дом.
Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул немного; он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не мог.
Они проехали час в таком положении. Вальтер поуспокоился и открыл глаза. Смеркалось.
Вдруг крестьянин оборотился к нему и сказал, качая головою:
– Вальтер, Вальтер! Куда, Вальтер? Беги, беги, Вальтер!
Эйзенберг затрясся всем телом, хотел броситься на него; но силы ему изменили, и он упал навзничь.
Когда Вальтер пришел в себя, он был уже в своей комнате, и над ним стоял Карл. Бедный Эйзенберг был в горячке; скоро с ним сделался жар и бред, и он опять пришел в беспамятство. Ему все грезилась Цецилия, деревня, где он так счастливо проводил с нею время и где так ужасно был разочарован. Целый месяц провел он в таком мучительном состоянии.
Наконец, после долгого сна он проснулся однажды поутру. Время было прекрасно, птицы прыгали по деревьям и пели, и раскидистые березы, слегка покачиваясь, заглядывали своими свежими, зелеными ветвями в растворенное окно его комнаты. Вальтеру казалось что он теперь только проснулся. Освежительное, утрене нее чувство наполнило его; он сел, вздохнул и улыбнулся. Природа, благая природа производила опять над, ним свое действие. Вальтер поднялся и в первый раз со шел с постели и подошел к окну. Свежий утренний ветерок повеял ему на грудь; он ожил: перед ним понеслись тихие, светлые мечты; он вспомнил прошедшее, но не Цецилию, не озеро, не кленовую рощу, а свое детство и место, где он провел его; ему виделись: аллея из акаций, зеленый широкий двор, сельская церковь; ему слышался стук мельницы; перед ним расстилался широкий пруд; важно колыхаясь в камышах своих, вилась быстрая река, через нее перекинут мостик в три дощечки шириною; вдали высилась гора (это было все место его родины).
Вальтер сел у окна, погрузившись в мысли, освежаемый утренним ветерком, покоя взоры на зеленых ветвях берез, забывшись совершенно; такое тихое, ясное наслаждение разливалось по всему существу его.
Дверь в эту минуту растворилась, и вошел в комнату Карл.
– Слава богу, – сказал о«, пожимая руку Эйзенбергу. – Ты, кажется, оправляешься.
– Да, слава богу, я здоров.
– Еще не совсем, погоди немного: во-первых, тебе не годится сидеть у открытого окна: теперь еще свежо; во-вторых, ты должен несколько времени оставаться спокойным, не заниматься и не входить ни во что.
Скоро Вальтер совсем выздоровел.
– Ну, – сказал ему однажды Карл, – расскажи мне наконец, что случилось с тобою в деревне.
Эйзенберг побледнел: он все вспомнил. Карл раскаивался в своей неосторожности, он просил друга успокоиться и не говорить ни слова.
– Нет, Карл, – отвечал Вальтер, – мне будет легче, если я все расскажу тебе. Ах, друг мой, зачем ты мне напомнил!.. Но теперь делать нечего: слушай.
Когда Вальтер кончил, то Карл стал опять опасаться за его здоровье и всю эту ночь провел у него. На другой день Вальтер уже не мог быть спокойным. Образ Цецилии снова стал его преследовать; он искал развлечения; он углублялся в занятия, он бродил по окрестностям города: все напрасно. Так прошел год; Вальтер оставил университет. Наступил и день, который так ужасно провел он в деревне Эйхенвальда; он вспомнил и решился идти за город. Поутру он почувствовал как-то себя веселее. За городом есть одно прелестное место: неширокая река вьется и журчит под склоном ракит и ив, вдали березовый лес со своею живою зелен и белою корою; в стороне пестреют нивы. Туда пошел Вальтер, взяв с собою небольшой обед, не сказав никому, ни даже Карлу. День был летний, жаркий, и тучи всех сторон медленно поднимались на небо. Вальтер с на берегу, в тени дерев, где протекала прохлади влага, местами блестя на солнце; немного выше вод встречала в своем течении толстый сук дерева и, прыгая через него, так однообразно, так приветно журчал Вальтер не мог удержаться, чтобы не освежить себя купаньем, и потом принялся за обед свой; вдруг ему почудилось, что какая-то женщина мелькнула там в лес Вальтер посмотрел пристально: никого не было; он пр должал обед; но ему казалось, что кто-то все на нег смотрит; он чувствовал вблизи чье-то незримое присутствие; он не мог поверить, чтобы он был здесь один.
В самом деле, в лесу опять мелькнуло женское платье; в самом деле, между листьев видны черны длинные волосы… Как не узнать их Вальтеру! как не узнать этот возвышенный стан, эти огненные очи!., это Цецилия, да, это Цецилия…
Эйзенберг, как бы увлекаемый непреодолимою лою, бросился к ней. В это время тучи нашли на солнц Цецилия, казалось, убегала от него, мелькая между деревьями. Вальтер, как безумный, бежал за нею; скор он пробежал насквозь рощу, и вот перед ним на полян стоит Цецилия. Ветер развевает ее длинные волосы и белое платье; она простирает к нему руки и зовет его Вальтер спешит к ней, и ему кажется, что черные волосы зеленеют и шумят, руки поднимаются в сторон и кривятся, белое платье плотно облегает ее ровны стан. Вальтер ближе; да, точно, это дерево, это берез качает свои раскидистые ветви в порывах ветра. Страх объял Эйзенберга; он бежит прочь, спешит добраться города, который был в полуторе версте оттуда, бежит оглянулся, – и вот за ним опять стоит Цецилия, ман его, зовет его.
– Вальтер, Вальтер!
Эйзенберг ускорил шаги свои и через полчаса был дома.
Хотя впечатления этого дня были сильны, но Вальтер перенес их гораздо легче. Дня три он был нездоров, потом опять оправился. Тягостные воспоминания стал сильнее преследовать его; тогда он весь предался живописи; в ней находил он отраду и утешение, с нею как бы забывал он все свое горе. Он нанял себе домик на конце города и переехал туда. Там жил он в совершенном уединении; тихо, мирно, неизвестно катилась жизнь его. Все об нем забыли, и он всех забыл; один только Карл иногда навещал его. Воспоминание, преследовавшее Вальтера, не расставалось с ним, но было уже не так мучительно. Правда, долго кисть его рисовала только образы Цецилии, и он сам всегда содрогался, когда видел перед собою на полотне портрет ее; наконец, мечты более тихие, приятные мало-помалу овладели его душою, и он рисовал пейзажи, которые напоминали ему места его детства: то ясный вечер, по небу вытянулись румяные облака, воздух влажно-тепел, стадо удаляется с поляны; то сельский дом, то садик, по садику бегают дети: мальчик и девочка, смеются и целуются – это были все золотые воспоминания Эйзенберга. Раз как-то Карл унес у него одну картину и показал своим знакомым; картина поразила многих. Некоторые стали просить Карла доставить им случай познакомиться с Вальтером, по крайней мере приходить смотреть его картины. Вальтер вовсе не желал и, только согласись на неотступные просьбы своего друга, позволил ему приводить <к себе> его знакомых только тогда, когда его нет дома, и без него смотреть на картины. Не обращая внимания на суждения других, он скоро и забыл, что многие стояли перед его картинами и восхищались и он считался в свете отличным художником. Что ему было до этого?