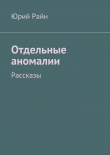Текст книги "Русская и советская фантастика (повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Антон Чехов,Александр Куприн,Иван Тургенев,Михаил Лермонтов,Александр Грин,Алексей Толстой,Алексей Толстой,Андрей Платонов,Владимир Одоевский,Валерий Брюсов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц)
Я кинулся к ней, схватил ее за руку… Это движение привело ее в чувство.
– Остановитесь, – сказала она, – я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутою слабости… Я уверена, что если бы я и забылась, то вы бы первый привели меня в память… Но я и сама не забуду, что я жена, мать.
Лицо ее просияло невыразимым благородством.
Я стоял недвижно пред нею… Скорбь, какой никогда еще не переносило мое сердце, разрывала меня; я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах, – частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня… Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни… Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы: преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды… В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностью образованного, утонченного, расчетливого Европейца.
Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась, и человек подал письмо графине.
– От графа с нарочным.
Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк – руки ее затряслись, она побледнела.
Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню.
Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах… Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видать ее, и быстро бросилась к колокольчику.
– Почтовых лошадей! – сказала она с твердостью вошедшему человеку. – Просить ко мне скорее доктора Вина.
– Вы едете? – сказал я.
– Сию минуту.
– Я за вами.
– Невозможно!
– Все знают, что я уже давно собираюсь в тверскую деревню.
– По крайней мере через день после меня.
– Согласен… но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Вин был мне друг с моего детства.
– Увидим, – сказала графиня, – но теперь прощайте.
Мы расстались.
Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре, как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, где и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь.
Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось.
– Граф умер, – отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе.
В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью.
Почти в дверях встретил я Вина, который бросился обнимать меня.
– Что здесь такое? – спросил я.
– Да что, – отвечал он со своею простодушной улыбкой, – нервическая горячка… Запустил, думал доехать до Москвы – да где? Она не свой брат, шутить не любит; я приехал – уже поздно было; тут что ни делай – мертвого не оживишь.
Я бросился обнимать доктора – не знаю почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.
– Ее, бедную, жаль! – продолжал он.
– Кого? – сказал я, затрепетав всем телом.
– Да графиню.
– Разве она здесь? – проговорил я притворно и поспешно прибавил: – Что с ней?
– Да вот уже три дня не спала и не ела.
– Можно к ней?
– Нет, теперь она, слава богу, заснула; пусть себе успокоится до выноса… Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих.
Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый человек! – говорил он. – Иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам, нечего греха таить, – прибавил он с улыбкою, – случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни разу не удавалось».
Ввечеру был вынос. Графиня как бы не заметила меня, и, признаюсь, я сам не в состоянии был говорить с нею в эту минуту. Странные чувства возбуждались во мне при виде покойника: он был уже немолодых лет, но в лице его еще было много свежести, кратковременная болезнь еще не успела обезобразить его. Я с истинным сожалением смотрел на него, потом с невольною гордостью взглянул на прекрасное наследство, которое он мне оставлял после себя, и сквозь умилительные мысли нередко мелькали в голове моей адские слова, сохраненные историею: «труп врага всегда хорошо пахнет!» Я не мог забыть этих слов, зверских до глупости, они беспрестанно звучали в моем слухе. Служба кончилась, мы вышли из церкви. Графиня, как бы угадывая мое намерение, подослала ко мне человека сказать, что она благодарит меня за участие и что завтра сама будет готова принять меня. Я повиновался.
Волнение, в котором я находился во все эти дни, не дало мне заснуть до самого восхождения солнца. Тогда беспокойный сон, полный безобразных видений, сомкнул мне глаза на несколько часов; когда я проснулся, мне сказали, что графиня уже возвратилась из церкви, я наскоро оделся и пошел к ней.
Она приняла меня. Она не хотела притворствовать, не показывала мне мнимого отчаяния, но спокойная грусть ясно выражалась на лице ее. Я не буду вам говорить, что беспорядок ее туалета, черное платье делали ее еще прелестнее.
Долго мы не могли сказать ничего друг другу, кроме пошлых фраз, но наконец чувства переполнились, мы не могли более владеть собою и бросились друг другу в объятия. Это был наш первый поцелуй, но поцелуй дружбы, братства.
Мы скоро успокоились. Она рассказала мне о своих будущих планах; через два дня, отдав последний долг покойнику, она возвратится в Москву, а оттуда проедет с детьми в украинскую деревню. Я отвечал ей, что у меня в Украйне также есть небольшая усадьба, и мы скоро увидели, что были довольно близкими соседями. Я не мог верить своему счастью; теперь передо мной исполнялась прекрасная мечта и мысль юности: уединение, теплый климат, прекрасная, умная женщина и долгий ряд счастливых дней, полных животворной любви и спокойствия.
Так протекли два дня; мы видались почти ежеминутно, и наше счастье было так полно, так невольно вырывались из души слова надежды и радости, что даже Иван Иванович начал поглядывать на нас с улыбкою, которую ему хотелось сделать насмешливою, а наедине намекал мне, что не надобно упускать вдовушки, тем более что она была очень несчастлива с покойником, который был человек капризный, плотской и мстительный.
Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к разным мыслям и поступкам графини. Несмотря на странность нашего положения, в эти два дня мы не могли не сблизиться более, нежели в прежние месяцы, – чего не переговоришь в двадцать четыре часа? Мало-помалу характер графини открывался мне во всей полноте; ее огненная душа во всем блеске; мы успели поверить друг другу все наши маленькие тайны; я ей рассказал мое романтическое отчаяние; она мне призналась, что в последнее наше свидание притворялась из всех сил и уже готова была броситься в мои объятия, когда принесли роковое письмо; изредка мы позволяли себе даже немножко смеяться. Элиза вполне очаровала меня и, кажется, сама находилась в подобном очаровании; часто ее пламенный взор останавливался на мне с невыразимой любовью и с трепетом опускался в землю; я осмеливался лишь жать ее руку. Как я досадовал на светские приличия, которые не позволяли мне с сей же минуты вознаградить моей любовью все прежние страдания графини! Признаюсь, я уже с нетерпением начал ожидать, чтобы скорее отдали земле земное, и досадовал на срок, установленный законом.
Наконец наступил третий день. Никогда еще сон мой не был спокойнее; прелестные видения носились над моим изголовьем: то были бесконечные сады, облитые жарким солнечным сиянием, везде – в куще древес, в цветных радугах я видел прекрасное лицо моей Элизы, везде она являлась мне, но в бесчисленных полупрозрачных образах, и все они улыбались, простирали ко мне свои руки, скользили по моему лицу душистыми локонами и легкою вереницею взвивались на воздух… Но вдруг все исчезло, раздался ужасный треск, сады обратились в голую скалу, и на той скале явились мертвец и доктор, каким я его видел в космораме; но вид его был строг и сумрачен, а мертвец хохотал и грозил мне своим саваном. Я проснулся. Холодный пот лился с меня ручьями. В эту минуту постучались в дверь.
– Графиня вас просит к себе сию минуту, – сказал вошедший человек.
Я вскочил; раздались страшные удары грома, от туч было почти темно в комнате; она освещалась лишь блеском молнии, от порывистого ветра пыль взвивалась столбом и с шумом рассыпалась о стекла. Но мне некогда было обращать внимание на бурю: оделся наскоро и побежал к Элизе. Нет, никогда не забуду выражения лица ее в эту минуту; она была бледна как смерть, руки ее дрожали, глаза не двигались. Приличия уже были не у места; забыт светский язык, светские условия.
– Что с тобою, Элиза?
– Ничего! Вздор! Глупость! Пустой сон!..
При этих словах меня обдало холодом… «Сон?» – повторил я с изумлением…
– Да! Но сон ужасный! Слушай! – говорила она, вздрагивая при каждом ударе грома. – Я заснула спокойно, я думала о наших будущих планах, о тебе, о нашем счастье… Первые сновидения повторили веселые мечты моего воображения… Как вдруг передо мною явился покойный муж, – нет, то был не сон – я видела его самого, его юного, я узнала эти знакомые мне стиснутые, почти улыбающиеся губы, это адское движение черных бровей, которым выражался в нем порыв мщения без суда и без милости. Ужас, Владимир! Ужас!.. Я узнала этот неумолимый, свинцовый взор, в котором в минуту гнева вспыхивали кровавые искры; я услышала снова этот голос, который от ярости превращался в дикий свист и который, я думала, никогда более не слышать…
«Я все знаю, Элиза, – говорил он, – все вижу; здесь мне все ясно; ты очень рада, что я умер; ты уже готова выйти замуж за другого… Нежная, верная жена!.. Безрассудная! Ты думала найти счастье – ты не знаешь, что гибель твоя, гибель детей наших соединена с твоей преступной любовью… Но этому не бывать, нет! Жизнь звездная еще сильна во мне – земляна душа моя и не хочет расстаться с землею… Мне все здесь сказали – лишь возвратясь на землю, могу я спасти детей моих, лишь на земле я могу отмстить тебе, и я возвращусь, возвращусь в твои объятия, верная супруга! Дорогою, страшною ценою купил я это возвращение – ценою, которой ты и понять не можешь… За то весь ад двинется со мною на твою преступную голову – готовься принять меня. Но слушай: на земле я забуду все, что узнал здесь; скрывай от меня твои чувства, скрывай их – иначе горе тебе, горе и мне!..» Тут он прикоснулся к лицу моему холодными посиневшими пальцами, и я проснулась. Ужас! Ужас! Я еще чувствую на лице это прикосновение…
Бедная Элиза едва могла договорить; язык ее онемел, она вся была как в лихорадке; судорожно жалась она ко мне, закрывая глаза руками, как бы искала укрыться от грозного видения. Сам невольно взволнованный, я старался утешить ее обыкновенными фразами о расстроенных нервах, о физическом на них действии бури, об игре воображения, и сам чувствовал, как тщетны перед страшною действительностью все эти слова, изобретаемые в спокойные, беззаботные минуты человеческого суемудрия. Я еще говорил, я еще перебирал в памяти все читанные в медицинских книгах подобные случаи, как вдруг распахнулось окошко, порывистый ветер с визгом ворвался в комнату, в доме раздался шум, означавший что-то необыкновенное…
– Это он… это он идет! – вскричала Элиза и в трепете, показывая на дверь, махала мне рукою…
Я выбежал за дверь, в доме все было в смятении, на конце темного коридора я увидел толпу людей; эта толпа приближалась… в оцепенении я прижался к стене, но нет ни сил спросить, ни собрать свои мысли… Да! Элиза не ошиблась. Это был он! он! Я видел, как толпа частью вела, частью несла его; я видел его бледное лицо, я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон смертный… Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих… Я. слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднялся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему… Итак, это было не видение, но действительность! Мертвый возвращался нарушить счастье живых!.. Я стоял как окаменелый; когда граф поравнялся со мною, в тесноте его рука, судорожно вытянутая, скользнуля по лицу моему, и я вздрогнул, как будто электрическая искра пробежала по моему телу, все меня окружающее сделалось прозрачным – стены, земля, люди показались мне легкими полутенями, сквозь которые ясно различал я другой мир, другие предметы, других людей… Каждый нерв в моем теле получил способность зрения; мой магический взор обнимал в одно время и прошедшее, и настоящее, и то, что действительно было, и что могло случиться; и описать всю эту картину нет возможности, рассказать ее не достанет слов. человеческих… Я видел графа Б. в различных возрастах его жизни… я видел, как над изголовьем его матери, в минуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью встречали новорожденного. Вот его воспитание: гнусное чудовище между им и его наставником – одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости; вот появление в свете молодого человека: то же гнусное чудовище руководит его поступками, внушает ему тонкую сметливость, осторожность, коварство, наверное, устраивает для него успехи; граф в обществе женщин: необоримая сила влечет их к нему, он ласкает одну за другой и смеется вместе с своим чудовищем; вот он за карточным столом: чудовище подбирает масти, шепчет ему на ухо, какую ставить карту; он обыгрывает, разоряет друга, отца семейства, – и богатство упрочивает его успехи в свете; вот он на поединке: чудовище нашептывает ему на ухо все софизмы дуэлей, крепит его сердце, поднимает его руку, он стреляет – кровь противника брызнула на него и запятнала вечными каплями; чудовище скрывает след его преступления. В одном из секундантов дуэли я узнал моего покойного дядю; вот граф в кабинете вельможи: он искусно клевещет на честного человека, чернит его, разрушает его счастье и заменяет его место; вот он в суде: под личиной прямодушия он таит в сердце жестокость неумолимую, он видит невинного, знает его невинность и осуждает его, чтобы воспользоваться его правами; все ему удается; он богатеет, он носит между людьми имя честного, прямодушного, твердого человека; вот он предлагает свою руку Элизе: на его руке капли крови и слез, она не видит их и подает ему свою руку; Элиза для него средство к различным целям: он принуждает ее принимать участие в черных тайных делах своих, он грозит ей всеми ужасами, которые только может изобресть воображение, и когда она, подвластная его адской силе, повинуется, он смеется над ней и приготовляет новые преступления…
Все эти происшествия его жизни чудно, невыразимо соединялись между собою живыми связями; от них таинственные нити простирались к бесчисленным лицам, которые были или жертвами или участниками его преступлений, часто проникали сквозь несколько поколений и присоединяли их к страшному семейству; между сими лицами я узнал моего дядю, тетку, Поля: все они были как затканы этою сетью, связывавшею меня с Элизою и ее мужем. Этого мало: каждое его чувство, каждая его мысль, каждое слово имело образ живых, безобразных существ, которыми он, так сказать, населил вселенную… На последнем плане вся эта чудовищная вереница примыкала к нему, полумертвому, и он влек ее в мир вместе с собою; живые же связи соединяли с ним Элизу, детей его; к ним другими Путями прикреплялись нити от разных преступлений отца и являлись в виде порочных наклонностей, невольных побуждений; между толпою носились несметные, странные образы, которых ужасное впечатление не можно выразить на бумаге; в их уродливости не было ничего смешного, как то бывает иногда на картинах; они все имели человеческое подобие, но их формы, цвета, особенно выражения были разнообразны до бесконечности: чем ближе они были к мертвецу, тем ужаснее казались; над самой головой несчастного неслось существо, которого взора я никогда не забуду: его лицо было тусклого зеленого цвета; алые как кровь волосы струились по плечам его; из глаз земляного цвета капали огненные слезы, проникали весь состав мертвеца и оживляли один член за другим; никогда я не забуду того выражения грусти и злобы, с которым это непонятное существо взглянуло на меня!.. Я не буду более описывать этой картины. Как описать сплетения всех внутренних побуждений, возникающих в душе человека, из которых здесь каждое имело свое отдельное, живое существование? как описать все те таинственные дела, которые совершались в мире сими существами, невидимыми для обыкновенного взора? Каждое из них магически порождало из себя новые существа, которые в свою очередь впивались в сердца других людей, отдаленных и временем и пространством? Я видел, какую ужасную, логическую взаимность имели действия сих людей; как малейшие поступки, слова, мысли в течение веков срастались в одно огромное преступление, которого основная причина была совершенно потеряна для современников; как это преступление пускало новые отрасли и в свою очередь порождало новые центры преступлений; между темными двигателями грехов человеческих носились и светлые образы, порождения душ чистых, бескровных; они также соединялись между собою живыми звеньями, также магически размножали себя и своим присутствием уничтожали действия детей мрака. Но, повторяю, описать все, что тогда представилось моему взору, не достанет нескольких томов. В эту минуту вся история нашего мира от начала времен была мне понятна; эта внутренность истории человечества была обнажена передо мною, и необъяснимое посредством внешнего сцепления событий казалось мне очень просто и ясно; так, например, взор мой постепенно переходил по магической лестнице, где нравственное чувство, возбуждавшееся в добром испанце при виде костров инквизиции, порождало в его потомке чувство корысти и жестокосердия к мексиканцам, имевшее еще вид законности; как наконец это же самое чувство в последующих поколениях превратилось просто в зверство и в полное духовное обессиление. Я видел, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий… Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека, раскрывшего себя влиянию существ нечистых и враждебных… Я понял, что «человек есть мир» – не пустая игра слов, выдуманная для забавы… Когда-нибудь, в более спокойные минуты, я передам бумаге эту историю нравственных существ, обитающих в человеке и порождаемых его волею, которых только следы сохраняются в мирских летописях.
Что я принужден теперь рассказывать постепенно, то во время моего видения представлялось мне в одну и ту же минуту. Мое существо было, так сказать, раздроблено. С одной стороны, я видел развивающуюся картину всего человечества, с другой – картину людей, судьба которых была связана с моею судьбою; в этом необыкновенном состоянии организма ум равно чувствовал страдания людей, отделенных от меня пространством и временем, и страдания женщины, к которой любовь огненною чертою проходила по моему сердцу! О, она страдала, невыразимо страдала!.. Она упадала на колени пред своим мучителем и умоляла его оставить ее или взять с собою. В эту минуту как завеса спала с глаз моих: я узнал в Элизе ту самую женщину, которую некогда видел в космораме; не постигаю, каким образом до сих пор я не мог этого вспомнить, хотя лицо ее всегда мне казалось знакомым; на фантасмагорической сцене я был возле нее, я также преклонял колени пред двойником графа; двойник доктора, рыдая, старался увлечь меня от этого семейства: он что-то говорил мне с большим жаром, но я не мог расслышать речей его, хотя видел движение его губ; в моем ухе раздавались лишь неясные крики чудовищ, носившихся над нами; доктор поднимал руку и куда-то указывал; я напряг все внимание, и, сквозь тысячи мелькавших чудовищных существ, будто бы узнавал образ Софьи, но лишь на одно мгновение, и этот образ казался мне искаженным…
Во все время этого странного зрелища я был в оцепенении; душа моя не знала, что делалось с телом. Когда возвратилась ко мне раздражительность внешних чувств, я увидел себя в своей комнате на постоялом дворе, возле меня стоял доктор Бин со склянкою в руках…
– Что? – спросил я, очнувшись.
– Да ничего! Здоровешенек! Пульс такой, что чудо…
– У кого?
– Да у графа! Хороших было мы дел наделали! Да и то правду сказать, я никогда не воображал, и в книгах не встречал, чтоб мог быть такой сильный обморок. Ну, точно был мертвый. Кажется, немало я на своем веку практики имел; вот уж, говорится, век живи, век учись! А вы-то, батюшка! еще были военный человек, испугались, также подумали, что мертвец идет… насилу оттер вас… Куда вам за нами, медиками! Мы народ храбрый…
Я вышел на улицу посмотреть, откуда буря идет, смотрю – мой мертвый тащится, а от него люди так и бегут.'Я себе говорю: «Вот любопытный субъект», да к нему, – кричу, зову людей, насилу пришли; уж я его и тем и другим, – и теперь как ни в чем не бывал, еще лет двадцать проживет. Непременно этот случай опишу, объясню, в Париж пошлю в академию, по всей Европе прогремлю, – пусть же себе толкуют… нельзя! любопытный случай!..
Доктор еще долго говорил, но я не слушал его; одно понимал я: все это было не сон, не мечта, – действительно возвратился к живым мертвый, оживленный ложною жизнию, и отнимал у меня счастье жизни… «Лошадей!» – вскричал я.
Я почти не помню, как и зачем меня привезли в Москву; кажется, я не отдавал никаких приказаний, и мною распорядился мой камердинер. Долго я не показывался в свет и проводил дни один, в состоянии бесчувствия, которое прерывалось только невыразимыми страданиями. Я чувствовал, что гасли все мои способности, рассудок потерял силу суждения, сердце было без желаний; воображение напомнило мне лишь страшное, непонятное зрелище, о котором одна мысль смешивала все понятия и приводила меня в состояние, близкое к сумасшествию.
Нечаянно я вспомнил о моей простосердечной кузине; я вспомнил, как она одна имела искусство успокаивать мою душу. Как я радовался, что хоть какое-либо желание закралось в мое сердце!
Тетушка была больна, но велела принять меня. Бледная, измученная болезнью, она сидела в креслах; Софья ей прислуживала, поправляла подушки, подавала питье. Едва она взглянула на меня, как почти заплакала:
– Ах! Что это мне так жалко вас! – сказала она сквозь слезы.
– Кого это жаль, матушка? – спросила тетушка прерывающимся голосом.
– Да Владимира Андреевича! Не знаю отчего, но смотреть на него без слез не могу…
– Уж лучше бы, матушка, пожалела обо мне, – вишь, он и не подумает больную тетку навестить…
Не знаю, что отвечал я на упрек тетушки, который был не последний. Наконец она несколько успокоилась.
– Я ведь это, батюшка, только так говорю, от того, что тебя люблю, вот и с Софьюшкой об тебе часто толковали…
– Ах, тетушка! Зачем вы говорите неправду? У нас и помина о братце не было…
– Так! Так-таки! – вскричала тетушка с гневом; таки брякнула свое! – Не посетуй, батюшка, за нашу простоту, хотела было тебе комплимент сказать, да вишь, у меня учительша какая проявилась; лучше бы, матушка, больше о другом заботилась… – И полились упреки на бедную девушку…
Я заметил, что характер тетушки от болезни очень переменился; она всем скучала, на все досадовала; особенно без пощады бранила добрую Софью: все было не так, все мало о ней заботились, все мало ее понимали; она жестоко мне на Софью жаловалась, потом от нее переходила к своим родным, знакомым, – никому не было пощады; она с удивительною точностию вспоминала все свои неприятности в жизни, всех обвиняла и на все роптала, и опять все свои упреки сводила на Софью.
Я молча смотрел на эту несчастную девушку, которая с ангельским смирением выслушивала старуху, а между тем внимательно смотрела, чем бы услужить ей. Я старался моим взором проникнуть эту невидимую связь, которая соединяла меня с Софьею, перенести мою душу в ее сердце, но тщетно: предо мною была лишь обыкновенная девушка, в белом платье, с стаканом в руках.
Когда тетушка устала говорить, я сказал Софье почти шепотом:
– Так вы очень обо мне жалеете?
– Да! Очень жалко, и не знаю – отчего.
– А мне так вас жаль, – сказал я, показывая глазами на тетушку.
– Ничего, – отвечала Софья, – на земле все недолго, и горе и радость; умрем, другое будет…
– Что ты там страхи-то говоришь, – вскричала тетушка, вслушавшись в последние слова. – Вот уж, батюшка, могу сказать, утешница. Чем бы больного человека развлечь, развеселить, а она, нет-нет да о смерти заговорит. Что ты хочешь намекнуть, чтобы я тебя в духовной-то не забыла, что ли? В гроб хочешь поскорее свести? Экая корыстолюбивая! Так нет, мать моя, еще тебя переживу…
Софья спокойно посмотрела в глаза старухи и сказала:
– Тетушка! Вы говорите неправду…
Тетушка вышла из себя:
– Как неправду? Так ты собираешься меня похоронить… Ну, скажите, батюшка, выносимо ли это? Вот какую змею я у себя пригрела.
В окружающих прислужницах я заметил явное неудовольствие; доходили до меня слова «злая! недобрая! уморить хочет!».
Тщетно хотел я уверить тетушку, что она приняла Софьины слова в другом смысле: я только еще более раздражал ее. Наконец решился уйти; Софья провожала меня.
– Зачем вы вводите тетушку в досаду? – сказал я кузине.
– Ничего; немножко на меня прогневается, а все о смерти подумает, это ей хорошо.
– Непонятное существо! – вскричал я. – Научи и меня умереть!
Софья посмотрела на меня с удивлением.
– Я сама не знаю; впрочем, кто хочет учиться, тот уж в половину выучен.
– Что ты хочешь сказать этим?
– Ничего! Так у меня в книжке записано…
В это время раздался колокольчик.
– Тетушка меня кличет, – проговорила Софья. – Видите, я угадала; теперь гнев прошел, теперь она будет плакать, а плакать хорошо, очень хорошо, особливо когда не знаешь, о чем плачешь.
С сими словами она скрылась.
Я возвратился домой в глубокой думе, бросился в кресла и старался отдать себе отчет в моем положении. То Софья представлялась мне в виде какого-то таинственного, доброго существа, которое хранит меня, которого каждое слово имеет смысл глубокий, связанный с моим существованием, то я начинал смеяться над собою, вспоминал, что к мысли о Софье воображение примешивало читанное мною в старинных легендах; что она была просто девушка добрая, но очень обыкновенная, которая кстати и некстати любила повторять самые ребяческие сентенции; эти сентенции потому только, вероятно, поражали меня, что в движении сильных, положительных мыслей нашего века они были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных. А между тем слова Софьи о смерти невольно звучали в моем слухе, невольно, так сказать, притягивали к себе все мои другие мысли и наконец соединили в один центр все мои духовные силы; мало-помалу все окружающие предметы для меня исчезли, неизъяснимое томление зажгло мое сердце, и глаза нежданно наполнились слезами. Это меня удивило! «Кто же плачет во мне?» – воскликнул я довольно громко, и мне показалось, что кто-то отвечает мне; меня обдало холодом, и я не мог пошевелить рукою; казалось, я прирос к креслу и внезапно почувствовал в себе то неизъяснимое ощущение, которое обыкновенно предшествовало моим видениям и к которому я уже успел привыкнуть; действительно, чрез несколько мгновений комната моя сделалась для меня прозрачною, в отдалении, как бы сквозь светлый пар, я увидел снова лицо Софьи.
«Нет! – сказал я в самом себе, – соберем всю твердость духа, рассмотрим холодно эту фантасмагорию. Хорошо ребенку было пугаться ее: мало ли что казалось необъяснимым?» И я вперил в странное видение тот внимательный взор, с которым естествоиспытатель рассматривает любопытный физический опыт.
Видение подернулось как бы зеленоватым паром; лицо Софьи сделалось явственнее, но представилось мне в искаженном виде.
«А! – сказал я сам в себе, – зеленый цвет здесь играет какую-то роль; вспомним хорошенько: некоторые газы производят также в глазе ощущение зеленого цвета; эти газы имеют одуряющее свойство – так точно! преломление зеленого луча соединено с наркотическим действием на наши нервы и обратно. Теперь пойдем далее: явление сделалось явственнее? Так и должно быть: это значит, что оно прозрачно. Так точно! в микроскопе нарочно употребляют зеленоватые стекла для рассматривания прозрачных насекомых: их формы от того делаются явственнее.
Чтоб сохранить хладнокровие и не отдать себя под власть воображениями записывал мои наблюдения на бумаге; но скоро мне это сделалось невозможным; видение приблизилось ко мне, все делалось явственнее, а с тем вместе все другие предметы бледнели; бумага, на которой я писал, стол, мое собственное тело сделалось прозрачным как стекло; куда я ни обращал глаза, видение следовало за моим взором. В нем я узнавал Софью: тот же облик, те же волосы, та же улыбка, но выражение было другое. Она смотрела на меня коварными, сладострастными глазами и с какою-то наглостью простирала ко мне свои объятия.
«Ты не знаешь, – говорила она, – как мне хочется выйти за тебя замуж! Ты богат – я сама у старухи вымучу себе кое-что – и мы заживем славно. От чего ты мне не даешься? Как я ни притворяюсь, как ни кокетничаю с тобою – все тщетно. Тебя пугают мои суровые слова; тебя удивляет мое невинное невежество? Не верь! Это все удочка, на которую мне хочется поймать тебя, потому что ты сам не знаешь своего счастия. Женись только на мне – ты увидишь, как я развернусь. Ты любишь рассеянность– я также; ты любишь сорить деньгами – я еще больше; наш дом будет чудо, мы будем давать балы, на балы приглашать родных, вотремся к ним в любовь, и наследства будут на нас дождем литься… Ты увидишь – я мастерица на эти дела…»
Я оцепенел, слушая эти речи; в душе моей родилось такое отвращение к Софье, которого не могу и выразить. Я вспоминал все ее таинственные поступки, все ее двусмысленные слова – все мне теперь было понятно! Хитрый демон скрывался в ней под личиною невинности… Видение исчезло – вдали осталась лишь блестящая точка; эта точка увеличивалась постепенно, приближалась – это была моя Элиза! О, как рассказать, что сталось тогда со мною? Все нервы мои потряслись, сердце забилось, руки сами собою простерлись к обольстительному видению; казалось, она носилась в воздухе– ее кудри как легкий дым свивались и развивались, волны прозрачного покрывала тянулись по роскошным плечам, обхватывали талию и бились по стройным розовым ножкам. Руки ее были сложены, она смотрела на меня с упреком: