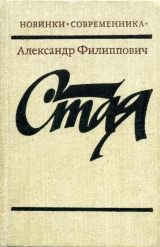
Текст книги "Стая"
Автор книги: Александр Филиппович
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
И все-таки, вяло поскиркав и распалив себя, он запел сегодня не столько призывая на бой и свадьбу своих соплеменников, сколько от отважного отчаяния, возвещая окружившей его теперь повсюду пустоте и собственному одиночеству, что он еще жив и не думает сдаваться, потому и непокорен, что он готов еще и дальше жить, петь и биться, что его песня, которую не одну весну неизменно слушала здешняя тайга и этот, что лежал сейчас весь перед ним, почти что последний мшаник в округе… что его песня будто бы все та же, и все так же он возвещает в ней о том, что в тайге еще живут и борются ее истинные аборигены и что живется им в ней по-прежнему сносно!
Да, теперь он спешил петь даже не по своей словно бы воле – теперь это уже сама природа в нем наверстывала все из-за выследившей его упрямой кошки пропущенные зори. И, заканчивая одну песню, он тут же заводил другую, пока не различил вдруг будто бы квохтанье копалухи… и очнулся.
Нет, слух и воображение обманули его и в этот раз: это просто пошел собиравшийся всю ночь дождь, заполняя тайгу своим ровным шумом. Дождь бил косо, крупный и сильный. Первый нынешний дождь, который должен был доесть по уремам и оврагам последние наледи, заставить распуститься уже давно изготовившиеся к тому деревья и дать траве росту.
Весна кончилась.
Еще покуда защищаемый сверху хвоей от прямых струй первого летнего дождя, он некоторое время, моргая и все еще нахохлившись, глядел на совершавшееся в природе неистовство, означавшее, что теперь уже окончательно пришло лето и потому его песни никому больше не требуются.
Но вот и первая капля, прошмыгнувшая сверху сквозь редкую хвою, упала ему на спину. За нею – другая, третья, четвертая…
Ждать больше было некого и нечего, и, сорвавшись с ветки, он точно так же, как после неудачного хищного броска голодной лесной кошки, будто подшибленный прямым выстрелом, тараня грудью ударявший ему навстречу дождь и почти не работая крыльями, спикировал в болото и затих наконец, забившись в мох и втянув голову, глядя, как на ветках сомкнувшихся вокруг него кустов то и дело скапливаются то тут, то там и затем с хлюпаньем обрушиваются крупные и какие-то нестерпимо голые, как одна жестокая и чистая правда, прозрачные капли первого летнего дождя.
Нет, он не сдался.
Просто он никак не мог победить в этот раз, потому что это было ему не под силу, и всю весну, оказывается, он вел откровенно неравный бой с врагом, нынче для него непобедимым, точное имя которого – одиночество и которого без друга и товарища еще никогда не удавалось и не удастся одолеть ни одному живому существу.
Ни птице.
Ни зверю.
Ни даже человеку.
Гранат
Сказать следует прежде всего, что был Гранат молодым гончим псом. Обыкновенно вислоухим, крепкобедрым, с увлекающимся чистым и звонким гоном, прослушав который в гулком, обнажившемся осеннем лесу еще в первый для Граната охотницкий сезон, многие со знаньем дела предсказывали ему добычливое будущее: «Во дает… во дает, артист! Козловский какой, да и только!..» В общем, чего тут долго-то говорить, гон у Граната народился и верно лихой, ровный, высокий. Впрямь что песня. К тому же на втором году жизни к столь рано обнадежившей мощи и чистоте голоса присовокупился у него еще и природный талант в поиске: оказался Гранат вынослив, жаден до работы и послушен в ней да быстр и ловок, как добрая, в нынешних, небогатых весьма охотах уже порядком охитревшая собака. А впрочем-то, вымахал он в обыкновеннейшего гончака, у которого все этакие высочайшие промысловые достоинства подразумеваются само собой. Худых собак в наших местах не держат: коль сразу не пошла – пристреливают. Так что Гранат попросту удался на славу и не обманул ожиданий.
Но во вторую осень, когда пошел он уже по-взрослому твердо и, полагать надо, раскрыл далеко, конечно, еще не все свои таланты, Витька недолго успел поохотиться с ним, распаляясь до истинного, до обжигающего душу азарта, до острого замирания духа перед выстрелом по зверю, будто летящему через лаз в болотном густяке, когда кажется, что ничего лучшего в мире, чем охота с гончей, и не сыскать, – в октябре пришла из военкомата повестка. Пришла, когда уже и до праздников-то рукой подать было, когда, по правде-то говоря, домашние и ждать перестали ее вовсе, когда и сам Витька уж уверовал, что еще с годок отпускается ему вольно казаковать…
Несколько вечеров не гас в доме свет, не смолкали аккордеон и гитара, песни и бабий визг.
Витькин отец в эти дни ничего не хозяевал по усадьбе и не ходил в завод вахтерить. В выпущенной поверх «парадьних» штанов косоворотке вываливался он время от времени из избы, на мгновение выпуская во двор из жилья жаркий человеческий говор. Придерживаясь коричневыми пальцами за бревна избы, устраивался он на завалинке, доставал кисет и трубку и, закуривая, рассыпал самосад на острые коленки.
Схоронившись в конуру, Гранат наблюдал за ним настороженно: молчаливого этого, узколицего старика с тонким красным носом и седыми щеками побаивался он и трезвого-то. Но в эти дни старик не задирался, как обычно. Только то и дело посасывал трубку, попыхивая едким дымом, на все вокруг роняя искры и по-удалому не туша их нисколечко, что по обыкновению всегда раньше спешил исполнить. Насосавшись табаку до сипов в горле, он из трубки выколачивал в снег пепел, глухо, с клекотом в груди, кашлял, поднося ко рту кулак и раздувая седые щеки, и снова придерживаясь за бревна стены, скрывался в доме, где не прекращалась гулянка.
А мать Витькина, старуха еще крепкая, находившаяся уже в тех покойных годах, когда кажется, будто человек совершенно не меняется и так никогда молодым словно бы не был, нынче тоже ничего почти не хлопотала по хозяйству. С утра пораньше засыпав курам зерна, она лишь два раза в день выносила скотине пойло и давала сена. Доила скоро и неловко, так что, всегда смирная, корова вдруг необычно взбрыкивала в хлеву.
А во дворе стоял переполох, с утра и до вечера.
То и дело приходили и уходили всякие чужие люди. Иногда же невидимая и корежащая сила из избы выхлестывала на морозный воздух молодых пошатывающихся парней, Витькиных годков и товарищей, кое-кто из которых был, в точности как и Витька сам нынче, острижен наголо.
Вечерами, когда меньше становилось в избе народу и размокавший днем снег начинал затвердевать и поскрипывать под ходом, Гранат подбегал к окошку в горницу, ставил на завалинку передние лапы и, вытягиваясь, через желтое, снизу инеем покрывшееся стекло заглядывал в щелку меж цветастыми занавесками. И сколько он этак ни заглядывал, за сдвинутыми друг к дружке столами все сидели гости. Закрыв глаза и опустив к мехам распаренное до поту, мокрое лицо, играл, точно в беспамятстве, аккордеонист, и посередь избы отчаянные девки дробно отстукивали по половицам веселыми крепкими ногами, и взметались легкие подолы их нарядных платьев, и под лапами у Граната подрагивала завалинка.
Изредка на улицу выходил и Витька.
С радостным визгом Гранат кидался к нему навстречу, оставляя на хозяйской нарядной одежде снежные следы быстрых и радостных от возбуждения лап и норовя лизнуть Витьку в сморщившийся от веселья нос, в оттопырившиеся, улыбающиеся губы. Лизаться Витька не давал, но и не отгонял прочь сразу, да и не сердился вообще, как часто прежде, за такие-то проделки. Добродушный и общительный, Витька весело теребил Граната за ушами и говорил непонятное:
– Служить, пес, едем! Служи-ить! – Небольно при этом щелкал по морде и говорил снова: – Так-то вот, псина! Эх, предки наши – обезьяны…
Так проходили эти дни, суматошные и по-человеческому шумные, визгливые, когда востро следовало держать ухо – больно много шлялось всякого народу. Но и по ночам Гранату не было долгого сна и доброго отдыха: в избе допоздна не умолкали и не выключали лампочек, и луч света падал на конуру, слепя взгляд, и как Гранат ни мостился, свет, озаряя конуру через лаз, мешал все равно. Словом, несмотря даже на обилие праздничной еды, Гранат все эти дни томился и уставал, как никогда не уставал раньше.
Но вот наступила ночь, когда потушили свет рано, как поступали и всегда-то прежде, до гулянки.
Уже ко сну устраиваясь, Гранат услыхал, как тайно будто бы скрипнула дверь избы и следом крадучись прошел кто-то по двору на огороды. По запаху он определил, что это Витька, и успокоился. Однако через некоторое время сквозь дрему различил он даже подозрительный отчего-то шум в той стороне, куда прошел Витька. Недовольно порычал, высунув морду в лаз конуры. Прислушался и услыхал на этот раз уже и тихие два голоса, один из которых был чужим. Выбравшись во двор, Гранат сладко потянулся, скребанув когтями, и заторопился за стайку. Морозец выдался хоть и невелик, да из тех, первых, пусть и по-настоящему уже зимних, но какие еще с непривычки в приятность. Луна над крышами ровным и тихим светом озаряла свежий наст, легший на усадьбу мерцающими голубыми блестками. Зарод вдалеке у изгороди и сама изгородь из длинных и крепких жердей, покрытых инеем, отбрасывали на снег долгие тени. Звуки человеческой речи возникали там, где стояло сено, и Гранат осторожно устремился по свежей тропинке к зароду, чутко прислушиваясь и нюхом трогая воздух.
– Кто-то идет, Витя! Пусти… – разобрал он шепот.
Гранат замер тотчас, удержав на весу переднюю лапу, и тихо скульнул.
– Гранат это! – ответил Витька, выглянув из-за сена. – Пес мой, не бойся…
Сбежав с тропинки, Гранат по целине обогнул зарод, окуная в снег лапы. Витька, привалив к зароду, целовал девушку, а она неловко сопротивлялась. Услыхав, как Гранат визгнул позади, Витька обернулся строго и с досадой сказал:
– Место, Гранат! Место, пес, слышишь?!
Из предосторожности Гранат отпрыгнул шага на три, чтоб нельзя было ухватить его за ошейник, и снова с любопытством остановился, склонив морду набок. Витька словно забыл о нем тотчас и отвернулся к девушке. Раза два тявкнув, но убедившись, что ничего здесь особого за зародом не совершается, Гранат выбежал на тропинку и, когда уже возвращался в конуру, косясь на свою огромную черную тень, что бежала теперь по снегу рядом и чуть впереди, услыхал слабый девушкин голосок:
– Не надо, Витя! Витенька… Боюсь я, о-ох… – И заплакали там, кажется…
На следующее утро, еще в рассветных сумерках, Витьку и его дружков-одногодков провожали на станцию.
Часа за два до того, как выходить к поезду, в избу снова набралось множество всяческого народу. К Витькиной матери пришли старухи в таких же точно, что и она, шалях, накинутых поверх белых платков, низко на глаза повязанных. Старухи эти с такими же, что и у Витькиной матери, темными лицами, никогда словно бы не бывшими девическими, тихо и словно само собой плакали, утирая глаза кончиками платков. К Витькиному же отцу-старику тоже дружки нынче пожаловали, и под стать такие же седые или плешивые. Но они не плакали, как их старухи, а даже бойко хорохорились.
В суматохе проводов двери в избу почти не закрывались, и Гранат однажды проскользнул в горницу. За двумя по-прежнему друг к дружке придвинутыми столами сидели такие же, как и во все прошлые дни, возбужденные и распаренные гости. Многие из них – лишь шапки с голов постаскивав – в пальто и в телогрейках.
Но вот засобирались все и вышли на улицу.
Парень с аккордеоном на груди играть продолжал и на морозе. Вокруг него собравшиеся смеялись и пели, и от людей дружно валил пар. Процессия растянулась, окружив Витьку и еще несколько парней, таких же, что и Витька, с котомками за плечами и одетых, в отличие ото всех, не в мало-мальски нарядное, а наоборот – в рабочее. Потешные старики все норовили шумно напутствовать парней, время от времени восклицая что-то громко и по-пустому потрясая в воздухе коричневыми руками с огромными, точно когти какие, желтыми прокуренными ногтями на узластых, корявых пальцах.
Сам Витька не переставая бренчал на гитаре, а перед ним полукружьем отступали девушки, которые и все прошлые дни гуляли и ликовали в избе. Они с подвизгом подпевали Витьке время от времени, глаз не спуская с одной своей подружки в коротеньких, с меховою оторочкою сапожках, совсем еще худенькой, узколицей девчонки, почти что школьницы, которая в этом людском кругу отплясывала очень бойко по утоптанному свежему насту первой зимней дороги. Чуть румяная от морозца, худенькая девчонка эта выглядела решившейся вдруг точно бы на все, да только бог весть на что и отчего – тоже. И молодые серые глаза ее отчаянно поблескивали, и пела она озорно, подстраиваясь под гитару, на которой Витька от вдохновения чуть ли не рвал струны:
Мы тоже люди,
Мы тоже любим,
Хоть кожа черная у нас!..
Заскочив в круг, Гранат метнулся к девушке, от которой шибанули в него вчерашние запахи той молодой женщины, с какою Витька целовался вчера у зарода. Отчего-то обрадовался он всем этим запахам, радостно рванулся было девушке на грудь, чуть ли не лизнуть ее норовя в расчудесное, слегка румяное личико, как девушка вскрикнула вдруг, схватилась руками у горла, и тогда подружки ее закричали, замахали руками дружно и прогнали его с дороги, мигом забросав снежками. Витька, однако, приказал им что-то, и кидать снежки они перестали. Следом Витька позвал его к себе, чтоб успокоить, но подбегать Гранат не решился. Заскулил он только, закружил на месте, будто жалуясь: что, мол, и рад бы был мордою ткнуться в хозяйские руки, да боязно шибко. И до самой станции бежал он уже на предусмотрительном отдалении от людей, по тропинке обок дороги, ну и девушка, между прочим уже тоже ничего не отплясывала отдельно, а шла вместе со всеми своими подружками. И все это время Гранат крутился подле людей, не сводя с Витьки взгляда.
Но вот Витька заметно обеспокоился, огляделся и наконец позвал его к себе, да и сам еще шагнул навстречу. Привычно вскинувшись на задние лапы, Гранат ткнулся хозяину в грудь, поскуливая, и розовым горячим языком лизнул Витькино ухо, распахнутое под мороз здоровое Витькино горло, весело сморщившийся Витькин нос.
– Жди меня, и я вернусь! – улыбнулся Витька, сладко почесав ему за ушами. – Ну, будя-будя, псина!
И после этих ласк опять ушел он к своим людям, к друзьям и девушкам, к отцу с матерью. И сказал родителям громко:
– Берегите пса!
Прикатил серый, заиндевелый поезд, от которого разило углем, смазкой и человеческим потом. Витька и его товарищи скрылись в отворившихся дверях вагонов, окутавшись плотными клубами пара. Паровоз прогудел, всколыхнув стоячий, будто пристывший утренний воздух, и поезд стронулся и покатил все бойчее и бойчее, постукивая на стыках колесами и взметая легкий, еще не успевший толком улежаться на междупутьях снег, и в этой, самим-то собою поднятой, метели скоро скрылся из виду, мигнув на прощание красным треугольником сигнальных фонарей последнего вагона…
На усадьбу воротился Гранат с задов. Сиганул меж жердями изгороди и ткнулся тотчас в зарод возле того его места, где вчера застал Витьку с девушкой. Натоптано было здесь вокруг и насорено сеном, а в боку зарода прорыта как бы нора. Гранат уловил запах человеческого тела, поскреб лапой и выворотил из трухи зелененькую вязаную рукавичку.
Вернулись в дом старики и старухи, чтобы доедать и допивать.
Витькин отец по малой нужде отошел за стайки и услыхал, что ли, как он, Гранат-то, балуется у зарода с рукавичкой, окликнул:
– Грана-ат?
Гранат вывернул из-за зарода горячий и веселый от забавы.
Старик прошагал к зароду. Наклонясь, поднял рукавичку, которую Гранат почему-то сообразил на снег бросить при приближении старика.
– Та-ак! – сказал вдруг старик, осмотревшись. – Чо с зародом-от натворили, чо наделали, кобеля!
С рукавичкой этою подошел он к стайке со стороны поленницы. Старуха, на время тоже оставив гостей в избе одних, чего-то, слыхать это было, хлопотала со скотиной. Старик подошел к отворенному окошку, через которое обычно выкидывали на огород теплый, парной назем, и позвал старуху:
– Гляди-ко, ма-ать, чего пес наш у зарода добыл! – И показал старухе рукавичку.
– Ну дак чо? – откликнулась на это старуха, выставляясь в окошко, моргая и сморщившись от яростного снежного света улицы, шибанувшего ей теперь в глаза.
Широко расставив лапы, Гранат издали наблюдал за стариком и старухой, чуть склоняя набок вислоухую свою, любопытную морду.
– Бабья! – сказал старик. – Вота чо!
– Ну дак чо, говорю? – снова повторила старуха.
– Чо, да не чо! – передразнил ее старик. – А как Витька наш?
– Рано ему, – осадила мужа старуха. – Обжимаются ишшо просто! Да и почем ты знаешь, что это Витька наш? И гостей чужих лишку было, да и девки всяки счас: мигни только – сама, поди подол задирать станет!
– Пес у нас, дура! – разозлился старик. – Он чужому-то на усадьбе баловством заняться не даст!
– Ну и чо? – снова заявила старуха. – Ну и чо, дак Витька? Его теперь дело мужчинское…
– Дура! – Старик распалился еще более. – Не мужик он никак покедова, а всего – парень! И с Ликою это трофимовской. Знаю! Девка скромная, а нынче все в избе шарилась, как искала чего-то, как чего-то забыла. Вот, оказывается, варежку. Я у ей такие именно вспоминаю.
– Пожалел-те кого? Скромная, как же! От отцов-то каторжников не иначе как скромные больно дочеря плодятся…
– А как и верно обидел ее Витька? И заженить скоро, да и вообще до скандалу недолго. Сама посуди, куда ж ему зажениваться пока?
– Болташь много! – не сразу ответила на это старуха и сурово захлопнула окошко.
К вечеру выпроводили гостей, и дальше сразу вроде бы направилась тихая и обыкновенная, да уж теперь в чем-то неуловимо не прежняя жизнь.
Граната никогда не держали на цепи, кроме как в ночь перед днем охоты. С вечера выходил Витька из дому с поводком, свистал ласково, и он прибегал к нему, покорный, запыхавшийся, с дрожащими от возбуждения боками, и подставлялся сам под ошейник. Это уж ясно было, что на охоту с утра. Но случалось такое лишь во время гона зайца, с сентября и до глубоких снегов. Каких-нибудь полтора… ну, два месяца продолжалось это. Теперь же, когда Витька укатил, до Граната и вовсе как бы никому никакого дела не стало. Раз в сутки вытаскивала только старуха во двор остатки щец, хлеб да труху от селедок. Хоть и была еда не всегда сытна и обильна, да зато была она надежно всякий день, а одно это уже кое-что значило.
Гранат перешел исключительно на ночной образ жизни.
Днем он отлеживался в конуре, наблюдая за жизнью двора из-под чутко полуприкрытых век, а ночью исчезал на волю через зады усадьбы, пробегая мимо зарода, который теперь, крепкой-то зимой, с каждым днем как бы на глазах таял, и тропка к нему, присыпанная сенной трухой, становилась все глубже и глубже. Он носился по сонным улочкам поселка, испугивая редких прохожих, возвращавшихся из города с ночными поездами. Фонари не отключали до утра, и улицы всегда были светлы даже в безлунные часы и в пасмурные погоды.
В одну из ночей Гранат встретился с черной низкорослой сукой с быстрыми и дикими глазами… А были то всё долгие, пустынные, прекрасные зимние ночи! С матово тронутыми морозом штакетниками, с отсверкивающими в темноте стеклами окон, с хрустом к утру леденеющих изнутри деревьев. Долгие зимние ночи, за которые успеешь обежать все дворы в округе возле двухэтажных коммунальных домов. Нет, действительно были это всё прекрасные ночи, полные множества запахов и звуков, когда люди упрятывались в черные провалы подъездов и за высокие, глухие ворота усадеб с крохотными палисадниками перед избами; ночи, когда остаешься один посреди всей этой стылой огромности поселка – ловкий, сильный, осторожный, мгновенно готовый драться за свое право пробегать по ночной улице, ни перед кем не сворачивая, выпуская на мороз жаркое, властное дыхание…
Уж перед самой весной, когда солнце нагревало днем доски конуры и оголялись от снега скаты крыш, когда от бревен и назема повалил прелый пар, а мягкий, повсюду проникающий ветер не переставая стал доносить отовсюду запахи талого снега даже хрусткими, звонкими ночами, что, вымораживая лужи, сменяли теперь дни, к Витькиным родителям стала наведываться та самая девушка, с которою в последний вечер перед уездом на службу Витька хоронился за зародом. Гранат узнавал ее по ласковым запахам, сохраненным памятью, но подошел к ней не сразу, а когда наконец решился на это, то девушка нисколько его не испугалась и не отогнала от себя, как тогда, по дороге на станцию, а погладила, почти как Витька прежде.
В дом, однако, старуха девушку не впускала, а всегда сама выносила на улицу какие-то листки. Притулясь к завалинке и подставляя листки эти под свет, падавший из окна, – а приходила она всегда почему-то в сумерках, когда мало встречаешь на улицах людей, – девушка подолгу их разглядывала, эти листки, вытирая глаза скомканным платочком. В такие-то ее приходы старуха принималась вдруг громыхать по двору ведрами или шебаршить метлой, делая вид, будто занята сильно, но в действительности – так краешком глаза зорко послеживая, как листает девушка поданные бумажки да как лицо промокает платочком.
С каждым своим приходом девушка становилась толще, как бы пухла, а старуха при ее появлениях все больше чернела лицом, все громче позвякивала ведрами и поругивалась на него, на Граната, то и дело угоняя его на место, будто он так уж особенно ей мешал… он, всегда из предусмотрительности старухи сторожившийся.
Но вот за стайкою, раскидав назем, вспахали огороды, и первою зеленью опушило долгие, глянцево заблестевшие прутья малин. И тогда девушка пришла вдруг еще засветло, с вздувшимся к грудям животом, с переставленными на плаще пуговками, совсем на лицо подурневшая. Вот уж на этот раз старуха неожиданно провела ее в избу, и Гранат через полуотворенную в сенки дверь видел, как Витькина мать усадила девушку на табурет посреди кухни.
– Это чо, ветерком-от тебе надуло? – сказала старуха первая, кивнув на огромный девушкин живот.
– Почему вы так грубы со мной? – взмолилась девушка, закрыв лицо руками.
– Дак уж как умею, так и разговариваю! – ответствовала на это старуха с усмешкою.
– Прошу вас, хоть теперь дайте мне Витин адрес, – снова взмолилась девушка. – Ни разу я у вас его не просила, а нынче не могу никак… прошу вас.
– Да на чо он тебе! – прищурилась старуха. – Адресок-от на что?
– Теперь я просто обязана написать Виктору. Он поймет…
– Ишь чего-о! – вскрикнула старуха. – Да не шибко ли многого хотишь! Он служит, и спокой его надо всем берегчи! Он там со всяким орудием, может быть, дело имет, так кто знает, чего с им станет, когда он письмецо-от твое получит, – и она снова уставилась на девушкин живот, – с таким-от известьицем…
Девушка со стонами расплакалась после этих слов старухи, и выставившийся из-под расстегнутого плаща ее огромный живот заколыхался.
– Ты все письма читала, – заявила тогда старуха. – Разве о тебе он поминает? Может, еще и при твоем-от пузе ни при чем, а?
Вот уж после этих слов поднялась девушка тихо и, придерживаясь за стену, из избы вышла.
– Стер-рва! – из горницы заорал вдруг старик. – Стерва! – И выскочил на кухню в исподнем. – Сама баба, а жалости к другим в тебе никакой нету!
– Жа-алости, да? А ты сообрази лучше, что от каторжников каторжное семя только и пойдет!
– А заткнись, дура! Такими, как Иван, каторжниками-то любой стать могет! От тюрьмы да сумы, известно, не зарекайся! Ведь разобрались и выпустили… Ка-аторжник! Тьфу… А девка чем виноватая! Сама смекни лучше: вдруг как и верно, если от Вити нашего ждет дитя? Да от всех твоих таких-то криков на мать еще и уродом каким сделается, а?
– Жа-алостливый какой! – нисколько старика своего не страшась, сощурилась старуха. – Ишь, жалостливый какой сыскался! Когда сам не могешь, тогда жалешь? А мог, так девка не девка – на всяку без разбору ки́дался! Эх, сколь слез я через тебя, варнака, сглотала…
– Конверт давай! – загромыхал старик, затрясся и стал весь красным, даже под белою щетиною на щеках.
– Не дам! – И старуху затрясло тоже.
Но уж тут старик сам вырвал из рук у нее конверт, выбежал, как и был, в исподнем, на двор, а Витькина мать, вскинув руки, повалилась на лавку и завыла.
Девушка все еще сидела на завалинке, не в силах домой двинуться и закрывая лицо ладошками. Старик подошел к ней, тронул ее за плечико, протянул конверт. Мокрыми глазами взглянула на него девушка, головой покачала и, оправив на коленках платьишко, трудно поднялась, в завалинку упершись руками, а затем, не став и глядеть конверт, прошла со двора прочь.
Гранат выбежал за девушкой следом и сопроводил до самого ее дома, ласкаясь в пути, общительно виляя хвостом и поскуливая, утешая точно бы. На скамеечке возле своего палисадника девушка посидела немного, поласкала его, Граната-то, а как в дом к себе уходить, махнула рукой, чтоб и он убегал прочь.
С того дня стал он часто прибегать к ее дому, такому же, что и все дома в этих окраинных улочках, – с высокими, глухими воротами, со скамеечками перед воротами подле штакетника палисадников, с малинниками и огородами, выходящими к полям и болотам. Чаще всего в малиннике и заставал он ее на аккуратной лавочке перед самодельным же, в землю вкопанным столиком. И всякий раз каким-нибудь, да занята она была делом. Читала книжки либо вязала, и тогда ворошился у нее на коленках яркий клубок толстых ниток. Но чаще всего девушка стрекотала на швейной машинке, устроенной на столике, разрезая и вымеривая при этом белую и сухую материю. И всегда припасала она для него какие-нибудь лакомства, а уж кости, так непременно. Это все так было похоже на прежнюю жизнь с Витькой – обилием ласки и спокойствия. На прежнюю жизнь, когда рядом всегда оказывался человек, которого не следовало остерегаться…
Иногда заходил к девушке в малинник ее отец, неизменно в черной фуражке, в брезентовом, как правило, дождевике. Говорили они друг с другом обычно тихо и добро. Девушка, правда, иногда начинала от этих разговоров поплакивать, и в такие моменты отец, утешая, гладил ее и говорил обязательно, как бы обнадеживая на будущее:
– Я, ты знаешь, Лика, что исключительно реализьм вещей исповедываю и тебе того же советую. Так что… вот так!
Однажды, много дней загуляв кряду, Гранат долго не прибегал к ней, а как примчал, то никого отчего-то не застал в малиннике. Он подал голос, зовя, но девушка ниоткуда не откликнулась, как Гранат ни прислушивался. Сев и от волнения запереступав лапами, Гранат тихо провыл, перемежая вой с тонким коротким взлаем.
На крылечко вышел отец девушки в черной своей всегдашней фуражке с ремешком, выпущенным под подбородок, в неизменном дождевике. Закурил. Вздохнул чему-то, горько на него, на Граната-то, глядя, и сказал:
– Иди-беги, пес… своей дорогой. И тебе, впрочем, не мешает постигнуть всеобщий реализьм вещей.
Затем, сошедши с крылечка, сел он на мотоцикл, газанул резким сизым дымом и укатил в улицу.
К ночи Гранат снова явился на усадьбу. Обежал весь дом, позаглядывал в окошки, вспрыгивая на завалинку. След девушки обрывался на улице, у колеи дороги, которая хранила лишь запахи стада да автомашин с мотоциклами.
Не стало девушки нигде, как никогда не было.
Тишина стояла. Березы вздыхали листьями. В поселковом клубе уже играла к вечеру далекая музыка. От домов же доносились обычные житейские звуки: подойниками там погромыхивали, калитками хлопали, шумно ворочалась в хлевах скотина. И в то же время со всем вокруг как бы произошло нечто непонятное да еще и непоправимое: как бы изломалось что-то напрочь, не стало словно бы во всем окружающем прежней прочности. Улавливалось во всем теперь что-то неясное и тревожное, что повсюду подстерегает, должно быть, человеческую жизнь и сопровождает ее незримо.
Воротясь домой притихший, усталый, уже ко сну устраиваясь, услыхал Гранат бессловесную какую-то возню в избе и лишь время от времени доносившиеся оттуда непонятные и жалобные вскрики. Он выбрался из конуры, добежал до завалинки и заглянул в окошки.
– На твоей душе грех! Ты жизнь малую загубила! – в голос уже бушевал Витькин отец, худой этот старик с седыми щеками и красным носом.
Старуха стонала, безо всякого движения пластаясь на лавке. Выпив водки, старик тоже присел на лавку, в изголовье жены, свесив с коленок огромные мосластые руки. И тихо, без прежнего крика заключил в сердцах:
– А! Видать, все вы, бабы, стервы! И нет в вас никакой друг к другу жалости…
Лето выгулялось теплое и урожайное.
К старикам приезжали с мужем и детьми старшая их дочь и холостой средний сын-офицер. Старик и старуха на это время перестали вдруг тихо поругиваться меж собою, были со всеми приветливы и порой играли-забавлялись с внучатами, которые, между прочим, и к нему, к Гранату, привязались крепко.
Хозяйская дочь, здоровенная, круглолицая и очкастая тетка с тугим узлом светлых волос на затылке, которая красила губы и курила, все почти дни, скрываясь от солнца, пролеживала в дому, полистывая книжки одну за другою и выходя на воздух лишь по утрам с вечерами, когда жара спадала. Его, Граната, она не боялась нисколько и добилась даже разрешения впускать его в горницу, когда детишкам того очень хотелось. А детишки ее – мальчик и девочка – были потешными и всем интересовались:
– Мама, а деревня – это где одни бабушки и дедушки живут?
О многом, о своем, конечно, детском, но беседовали они и с ним, с Гранатом.
Мужчины обычно проводили дни в рыбалках на болоте и притаскивали домой когда и по целому ведерку тугих и сытых желтых карасиков. Гранат и к этим двум мужчинам привязался, особенно к Витькиному брату, который иногда по вечерам, собираясь в клуб, надевал свой офицерский пиджак с погонами. Он уж и вовсе, гораздо более сестры, напоминал Витьку: и верхняя губа вздергивалась у него этак же, когда он смеялся, и нос в точности так же морщился, да и круглолиц он был так же к тому же…
Дни в дому завершались тихо.
Витькина сестра укладывала своих детишек спать, а сама устраивалась доглядывать телевизор. Мужчины же, как правило, вынося в палисадник бутылочку и летнюю, из свежей зелени закуску, усаживались под освещенным окошком доигрывать в шахматы. И царствовали чудесно вокруг тонкие запахи по горло наработавшейся за день земли.
Несколько дней провели все на покосе в лесу, и Гранат вдоволь набегался за молодняком, по которому никто стрелять и не собирался. Потом все сено свезли из лесу на сером в яблоках мерине, заправлял которым поселковый конюх Фалей. На прошлогоднем месте сметали новый зарод, крепко погуляли, угостив и Фалея, а затем гости разъехались, и вновь потянулись однообразные и долгие-предолгие дни.
Осенью Гранат несколько раз ходил со стариком в лес, гонял зайчишков, но старик оказался то ли уж шибко стар, то ли ленив на гон и вовремя к лазу не поспевал или же поспевал неудачно, в хвойный густяк выходил, и, случалось, прогнав круга по три, Гранат гнать переставал и возвращался к старику, который к этому моменту уже покуривал. Гранат укладывался у его ног, а старик принимался за оправдания:








