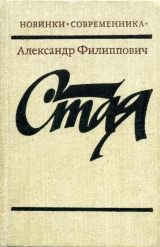
Текст книги "Стая"
Автор книги: Александр Филиппович
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Грудь жгло нестерпимым огнем, и звука второго, теперь почти в упор сделанного выстрела он уже не слыхал из-за этой огневой боли. Он различил перед собою лишь острое жало вспышки, яркое, как и боль, уже полыхавшая внутри него, почувствовал новый глухой удар в грудь тяжелого заряда, но никакой второй боли не испытал – она была одна, все та же, первая, как свет ударившего вдруг сквозь ветви дерева внезапного солнца, напрочь ослепившего на миг. Ничто уже не было способно добавить ему больше страданий, их было уже предостаточно – настолько, что все их убить могла теперь единственно лишь сама его смерть.
Он ткнулся перед собою, точно бы и навстречу человеку, и, упав, заметил, что человек медленно опустил ружье и снял шапчонку.
Несколько мгновений человек – и ведь крохотный в сравнении с ним, с великаном! – облизывая тут же сохшие от возбуждения губы, прищуренно разглядывал его, зверя, лежавшего перед ним уже в нескольких шагах всего посреди растекающейся лужи крови, от которой тотчас таял снег. Закинув на плечо ружье, человек снял очки, сверкнувшие желтой железкой, протер их, близоруко помаргивая, и, по-прежнему держа в руках свою рыженькую шапчонку, медленно направился к нему, неловко переваливая через кочки тяжелые, неповоротливые унты, в какие был обут. Не дойдя совсем немного, человек остановился, и взгляды их встретились.
И одного этого оказалось достаточно зверю, чтоб в последний короткий миг его умирающее сознание заслонило всю огромную ослепляющую боль в груди, – он вдруг разглядел испуг в глазах чуть отпрянувшего от него человека, который совсем не ожидал, видно, что он, старик, уже лежащий без движения, еще жив. Последняя сила в умирающем звере подбросила его с земли, и в броске старик настиг отшатнувшегося от него человека, почувствовал, как копыта, круша ребра, мягко вошли в грудь врага, и лишь следом расслышал он безумный крик и упал на землю вместе с человеком и его остановившимся криком.
Нечто вроде удовлетворения пережил старик в этот миг.
И, если бы он был наивным человеком, стремящимся передавать словами свои чувства, он, возможно, нисколько не подозревая, что это не бой, а обыкновеннейшее убийство, подумал бы в этот свой последний миг: «Я честно бился…»
Впрочем, еще некоторое время зверь был жив.
Хотя, правда, и как-то неестественно жив, словно бы отделившись уже от самого себя и собственной, только что еще заполнявшей все его нутро боли. Глаза его видели, как тотчас, едва он окончательно и навсегда рухнул на землю вместе с человеком и его криком, от леса, прыгая через кочки, к ним подбежал другой человек, огромный в сравнении со своим очкастым соплеменником и краснорожий, тоже почему-то без шапки. Как и все животные, старик не понимал смысла звуков человеческой речи, но он слыхал еще все-таки, как этот краснорожий вдруг закричал, словно бы призывая очнуться уже мертвого своего товарища:
– Михал Николаевич… Михал Николаевич!
Упав пред товарищем на колени, он даже попытался было освободить ему грудь, насквозь прошибленную копытами, но не смог этого сделать и распрямился, пошатываясь, держа в руках лишь исковерканную желтую дужку очков товарища с посверкивающими на ней осколками стеклышек – вероятно, убитый только что человек в последний миг взмахнул руками, словно надеялся в этот последний миг заслониться от смерти. С останками искореженных очков краснорожий здесь же опустился в снег, руками обхватив голову.
Затем расслышал старик и другие шаги, третьего человека, но его уже не видел.
Третий сказал:
– Я в деревню, завгар… надо за лошадью бежать…
– Витя, я уж тут с ним побуду… Ты один беги. Нет, ну и гадство: ему нужны были рога! – откликнулся краснорожий. – Он говорил, понимаешь… одни, гадство такое, рога!
И это оказалось последним, что старик еще слышал.
Снег тем временем продолжал тихо осыпать землю.
Он падал на человека с изуродованной грудью и на второго, все сидевшего с ним рядом, обхвативши голову измазанными в крови руками и бессознательно по-прежнему сжимая в пальцах исковерканные очки убитого товарища. Тихо и равнодушно засыпал он и мертвую, рыже-бурую шерсть двух животных, закрывая собою их леденеющую на глазах, растекшуюся вокруг кровь.
Старик лежал, как и умер, с открытыми глазами, умевшими выражать, пока он жил, и гнев, и страдание, осторожность и боль, любовь и испуг, всю, словом, сложность его взаимоотношений с окружающим миром природы. Но сейчас старик был мертв, и эти же его глаза стеклянно смотрели в белесое и низкое небо, переполненное тихо осыпающимся вниз снегом. Жизнь навсегда покинула их, и они, совсем недавно – да еще ведь и только что! – как бы со стороны видевшие и наблюдавшие окружавший их мир, теперь наконец словно бы и впустили его в себя, лишь теперь отразив в самих себе кусты багульника, корявую и черную болотную березку с тремя мертвыми листами, все еще цеплявшимися за уснувшие к зиме ветки, по-прежнему с непокрытой головой сидящего возле нее краснорожего и губастого человека, и рваный дым его судорожной сигареты. Словно переставший уже жить зверь впервые увидел мир, а не одного себя только среди него, таким, каким тот был и есть сам по себе испокон веку и в каком отныне для него, старика, места больше не было: он, зверь, исчез.
Точно так же, впрочем, как и лежавший сейчас с ним рядом человек, близорукие глаза которого тоже ничего уже теперь, никакого движения души не отражали, кроме одинаково окружившей их обоих, зверя и человека, столь смертельно сцепленных, безмолвной природы, которая теперь-то, уж как бы и сказав все, как бы разглядывала в них и саму себя сейчас – какая она всегда была, есть и будет…
Егор и Михайловна
Год от году поселок исчезал – безвестно, тихо и неуклонно.
А вместе с ним, столь же безропотно и неотвратимо, как она сама это трезво считала, все более приближалась к завершению жизни и Михайловна в одиноком и новом своем дому, срубленном сыном и двумя крепкими зятьями всего-то в прошлом году. Дом сей наконец-то сложили вместо поставленной еще перед самой войной времянки, которая, однако, просуществовала преспокойно более трех десятков лет, точно бы лишний раз утверждая своей живучестью еще один парадокс нашей действительности: нет ничего более постоянного, нежели сооружения временные. В общем, за эти более чем три десятка лет, проживая во времянке, Михайловна сумела преспокойно родить, а затем и, не без труда и напряжения, конечно, вырастить сына и дочек.
Нарядно белеющий теперь первосортным шифером, издалека в улице заметный ладно пригнанными желтыми венцами из неподсоченной сосны, этот новый домина Михайловны оказался, пожалуй что, и последним в поселке. Никто не то чтобы таких крепких на загляденье домов, словно бы и в насмешку рассчитанных на века, не только давно уже не ставил здесь, в гибнущем-то леспромхозовском поселочке, а и вовсе не строил никакого нового жилья. Более того – в обозримом будущем никто здесь как будто изб рубить и не собирался.
Первым, еще пять лет назад, удалился из поселка совхоз, покинув на произвол судьбы, и в итоге – верную погибель, несколько вполне добрых коровников, капитально кирпичных, да еще и под железом.
Отошел, значит, поселок в соседнюю северную область, а правление хозяйства осталось в прежней, и вышло глупей глупого: руководству, мол, великий и непреодолимый тормоз теперь случился, если в двух областях отделения у него; а новой-то, северной области эти столь случайно, как снег на голову, подвернувшиеся добрые коровники не представились отчего-то никакою надежною базою для того, чтоб заводить новое продуктивное хозяйство. И Михайловна подчас горевала по-крестьянски искренне, наблюдая, как репьи в полный человеческий рост глушат покинутую людьми и животными совхозную усадьбу, да и размышляла про себя: «Уж какая разница, откуда руководить-указывать? Было б управлять кем; одна же вокруг земля, и скотина – одна, тоже общая для страны-государства, а потому ведь и для обеих областей! А они, области-то, – на-кося – никак договориться меж собой не смогли, ровно им с иной державой договариваться, а не друг с дружкою…»
Три же года назад еще и участок леспромхозовский покинул поселок насовсем. Затем разобрали железнодорожные стрелки и лесоперевалочную эстакаду и оставили один только сквозной путь: двое рельсов – один след, убежал – возврата нет. В довершение этого, поскольку опустевшее здание станции последние поселковые мужички мгновенно обратили себе на пользу, окрестив его рестораном «Тайга» и став в нем собираться, чтоб распить, случалось, бутылочку под какой-никакой, а крышею, да и вроде бы скрытно от тоскливо-гневных бабьих глаз, – кто-то из завсегдатаев «Тайги» поджег вскорости казенное, покинутое путейцами строение, и оно, сгоревши дотла, уничтожило ненавистную «Тайгу» да оставило в память по себе огромные вокруг пепелища, навсегда и смертельно уже обожженные тополя. Другой станции учреждать на месте сгоревшей не собирались, поскольку теперь пролегал через поселок всего-то один путь без семафоров, и этаким манером даже само название поселка, некогда на века, казалось, прочно запечатленное еще и в трех, так сказать, экземплярах – под коньком крыши, на фронтоне и на боковых стенах вокзалишка, регулярно каждый год подновлявшегося светлой охрой, – словно вообще исчезло с лица земли, как бы предвещая тем самым и постепенное следом исчезновение всякого человеческого жилья в здешней округе.
И наконец – уж если пришла беда, так отворяй ворота! – в погибающий и обреченный поселок принялись откуда ни возьмись стекаться крикливые цыганские массы, по дешевке скупая дома, спешно покидаемые жителями в этой абсолютно, дескать, бесперспективной, как начали выражаться в районе, местности. И Михайловне временами уж и вовсе невмоготу стало бороться с тоской и унынием, какие вполне естественно обуревали теперь ее, обыкновенную русскую бабу, прокрестьянствовавшую всю свою жизнь. Против цыган она лично совершенно ничего не имела, кроме обычного предубеждения, будто глаз-де у них дурной. А так-то чего ж… люди вроде как люди – ноги-руки есть, ну а беспечные… так ведь и те, у кого головы тоже будто бы на плечах наличествуют, жизни проживают, случается, еще и ох какие безголовые! И все-таки преспокойно глядеть-наблюдать, как невесть откуда пришлые люди истапливают в очагах и на кострах за усадьбами бывшие в недалеком еще прошлом почти сплошь как на подбор – дерева хватало! – ладные подворья и прясла и вовсе не пашут под кормилицу картошку, было Михайловне и больно, и горько: у нее на глазах гибла вокруг земля, а следом окончательно гиб и весь родимый на ней поселок, пускай – старинный, не старинный там, а ведь обживший потихоньку и немалый погост, где почти что за век его негромкого и печального существования навсегда поуспокаивалось немало и старателей, и крестьян да лесорубов с путейцами, обильно, кстати, проливших поту, прежде чем им удалось обратить эти полугорные леса в места, пригодные наконец для более или менее прибыльного проживания. Да вот только внезапно отчего-то все их прошлое умение, терпение и старание пошли вдруг прахом…
Потому, когда сын с дочками, в который уж раз, завели речь снова да ладом – а как, мол, глядит она, чтоб совсем к ним в город перебраться для дальнейшей спокойной, на заслуженном, как говорится, отдыхе, жизни «со всеми, значит, удобствами» (это сын Саня подчеркнул для убедительности!), Михайловна – неожиданно для себя – с серьезностью задумалась, чувствуя, что теперь-то, наверное, и есть полный резон соглашаться (хотя всегда прежде и отвергала, уже даже в мыслях, столь естественный для себя выход).
В сентябре, когда дружно выкопали картошку и убрали весь остальной огород, Михайловна и дала на переезд из поселка в город – пока только на зиму – свое окончательное согласие.
Утром в воскресенье сын приехал на «Жигулях» один, чтоб в машину на заднее сиденье влезло все, что мать пожелает брать с собой в город «из тряпок», как он подчеркнул, ибо еще на семейном совете было постановлено, что дом остается как бы постоянно действующей дачей, готовой в любой миг принять – на зимнее воскресенье, допустим! – дорогих постояльцев, и потому обстановку, вплоть до занавесок, трогать незачем. Михайловна и сама-то превосходно все понимала: да если уж и вовсе, а не просто на зиму, переезжать ей отсюда к детям, то зачем же тогда и нехитрую деревенскую обстановку переправлять в город, в квартиру с паркетными полами и с блескучей коричневой мебелью-шкафами?
И пока собиралась в дорогу да прибирала в дому, остававшемся пустым на всю, считай, долгую зиму, Михайловна крепилась, держала себя в руках, даже посмеивалась: да чего это, мол, так переживать, ведь просто от печек с дровами в постоянное тепло едет она на время. Но вот уж и погрузили узел с постельным бельем и прочей разной мелочишкой, сели в машину сами, как Михайловна вдруг увидала гревшегося на крыше веранды кота и обомлела, впервые за все утро про него вспомнив.
– Саня… а Егора-то куда девать? – спросила она сына, изготовившегося уж и мотор включать. – А, Саня?
– Какого Егора? – сперва ничего не понял сын и нахмурился в недоумении. Но вот спохватился: – Тьфу ты, ну ты… Здесь, в этом вопросе, ты уж сама решай! – вздохнул он, заключив какие-то недолгие свои раздумья.
Егор же тем временем все продолжал дремать, примостившись на шифере веранды, прогретом солнышком, совершенно не подозревая, естественно, о том, что в эти мгновения должна коренным образом решиться его дальнейшая судьба.
Был же это давно и вполне удовлетворенный условиями своего существования могучий деревенский котище, серо-зеленый, с рысьими пятнами и черными тигриными кольцами по шерсти. Если быть точным, то никаким Егором, кстати, он сперва даже не был. Еще его предшественника, со временем вымахавшего в кота грозного и самостоятельного, Саня, тогда в школе учившийся, принес в дом и назвал по-иностранному Георгом. Книжку тогда, наверное, читал про ихнего какого-то Георга. Само собой разумеется, что Михайловна тотчас перекрестила кота в более привычного русскому уху Егора. Когда первый Егор сдох от старости, снова Саня, хоть уже и в городе он жил, раздобыл где-то другого котенка, почти ничем не отличавшегося по масти от своего предшественника, и тоже нарек его этим каким-то чужим Георгом, да теперь еще и «вторым». В этот раз, видимо, уже одной шутки ради, потому что книжек уже как будто никаких развлекательных давным-давно не читал, а серьезно успевал проглядывать регулярно лишь одни газеты, работал на хорошем, денежном заводе и успешно растил двоих сыновей. Михайловна, понятно, и этого наследника мгновенно переделала в привычного ее слуху Егора, но теперь и сама, как и сын, называла его иногда «вторым».
Егор второй был кот как кот, что и первый – себе на уме. Для порядка и поддержания, что ли, спортивной формы придушивал, когда ему заблагорассудится, мышку-другую, редко – крысу. А вот лакомиться синичкой или воробышком – откровенно любил и мог потому часами напролет терпеливо охотиться за ними, таясь в картофельной ботве недвижно и вроде сонно, пока будущая добыча, потеряв бдительность в поисках жучков и червей, не забредала далеко в борозду, где ей мешала спасительно взлететь разросшаяся картошка.
И вот сейчас, когда Егор мирно дремал на осеннем солнце, ничего про свое будущее не подозревая, Михайловна вдруг трудно задумалась: как же быть-то?
Особой чувствительностью по отношению к этому упрямому и своехарактерному бездельнику (а ими ей всегда представлялись все без исключения коты; кошки – те хоть время от времени брюхатятся и до поры заботятся о потомстве) она никогда не питала. Присутствие кота в деревенском доме просто-напросто крайне необходимо, точно так же, как и всякие житейские нехитрые приспособления – ухват там, кочерга, веник: да ведь мыши без кота заедят! Михайловна даже упрямо отказалась записывать кота в домашние животные, когда прошлой зимою приехали какие-то студенты, опросы какие-то проводить, назвались, как ей сперва-то послышалось, еще и «социалистами» какими-то как будто и, заполняя с ее слов листок со сведениями разнообразными, все норовили вписать Егора в эти домашние животные, а она им настойчиво и вразумительно доказывала, что кот вообще – никакая не скотина, а всегда сам по себе, как те же, скажем, крысы и мыши либо тараканы с клопами, какие давно привыкли жить в дому рядом с человеком. Девушка, ответы-то записывавшая, после такого объяснения «фикнула» по-городскому – «разве у вас клопы? неужели у вас клопы?» – и носик брезгливо сморщила. А паренек, выспрашивавший и растолковывавший, что к чему, нахмурился, да и стал разумно узнавать дальше про другое. Когда Михайловна рассказала сыну, что из города приезжали студенты, которые работают какими-то «социалистами», кажется, и про все вызнают, Саня рассмеялся и поправил: «Социологи это, мама… социологи! Мода теперь на них такая всеобщая».
Глядя сейчас на Егора, Михайловна вспомнила про тех студентов и вздохнула. Саня, по-своему истолковав ее задумчивость и вздох, напомнил:
– Так чего ж, мам, делать с Егором будем?
И тут только Михайловна впервые в своей жизни подумала о Егоре как о существе, не просто способном, как и все живое, лишь обыкновенно спать, есть и пить, а подумала почти как о человеке о нем, как о старом члене семьи, которого они здесь чуть не позабыли, обрекая его на зимнее тоскливое одиночество в немолодых уж годах, что определенно могло бы закончиться голодом, холодом и… в общем, ясно, чем еще в итоге. Уж если не придушат его собаки либо не прибьет кто-нибудь… а цыгане хотя бы…
О цыганах она подумала невольно. Просто так. Для порядка. И потому сказала:
– А забирать его с собой, Саня, надо. Не оставлять же одиночкой или… цыганам? Нет, надо же, мы-то сами собрались, продухи в избе закрыли. Он на солнышке грелся, а в избу ему уже и не попасть было. Неладно оставлять, Саня!
Сын вдруг рассмеялся в ответ:
– Ну, мам! Ты даешь…
– Ты против, что ли?
– Да нет… почему – против? – отмахнулся сын. – Как сама решишь, так и будет. Я к тому… ну, смешно мне, что ты – «цыганам», «одиночкой»… Никогда не замечал в тебе чувствительности к Егору.
Неожиданно для себя Михайловна обиделась:
– Это потому, что он теперь, как и я, на пенсии, считай, оказался! Меня вот самою тоже разве, когда я еще робить в силу могла, кто жалел? Михайловна – туда, Михайловна – сюда…
Теперь уже и Саня обиделся:
– Ма-ам?
– Тащи Егорку в машину, сынок, – Михайловна прекратила спор. – Доживешь до пенсии, тогда поймешь – чувствительность, чувствительность…
Сын с готовностью выбрался из машины, открыл калитку, притащил лесенку, но только приставил ее, чтоб подняться на крышу веранды, как Егор, до этого мгновения совершенно равнодушно взиравший с высоты на окрестности, встал на лапы, зевнул, потягиваясь, и, едва Санина голова возникла над кромкой карниза, с достоинством проследовал к дыре под крышу, которую как раз для него-то специально и прорубливали, и ловко исчез в недрах чердака. Михайловна с трудом смех сдержала, вспомнив, что на улице Егор предусмотрительно никому в руки не дается.
Пришлось самой выбираться из машины и, открыв замок, возвращаться в сенки, хоть это и дурная примета. Егор и верно уже поджидал ее здесь, сиганул сверху к двери, готовый, едва она приоткроется, в избу шастнуть, но Михайловна ловко подхватила его на руки, и, прежде чем Егор сообразил, пусть и по-своему, по-кошачьему, что вольная жизнь для него в этот момент прекратилась, он очутился уже в машине.
– Может, в мешок посадим? – предложил сын.
– А куда он из машины денется? – возразила недовольно Михайловна, прижимая Егора к груди и гладя его, чуть ли и не впервые в жизни, отчего с непривычки Егор вздрагивал, настороженно недоумевая: к чему бы это?
– Окошко же открыто, – пояснил сын.
– А ты закрой его, Саня. Поедем, так меня еще продует, не лето, а я старуха, – упрямо заявила она.
Сын послушался – в пустяках он был с детства покладист, – завел машину, осторожно выехал на накатанную грунтовку посреди поселковой улицы, и для Михайловны, а следовательно и Егора, началась новая совершенно жизнь.
Впрочем, новою городская жизнь была только с виду, с одной внешности, когда все, что тебе нужно, вплоть до морковки, приходится приобретать в магазине. Глубинная же ее сущность оставалась и здесь конечно же неизменною по-прежнему, какою она была, есть и будет всегда и везде для любого честного человека, а уж для рабочего человека – так в особенности: постоянное изо дня в день добывание средств к существованию и обеспечение будущего. Но как раз эта-то особая внешняя сторона городской жизни всегда раньше Михайловну и отпугивала от города: больших денежек у нее никогда не водилось, а ведь в городе только и возможно на одну денежку жить, поскольку все приходится покупать, иначе – хоть воруй… Нет, никогда не пугали ее нисколько ни рабочий распорядок городской жизни (работа, ясное дело, есть работа, и за нее полагается надежная заработная плата). Естественно, что ни с какой стороны не могли «угрожать» ее самочувствию, как некоторые насмеливаются утверждать, и полные, скажем, удобства быта в квартире, – что такое самой воду натаскивать, истапливать для постоянного личного обогрева печь и полоскать с мостков на пруду белье, уж она-то, слава богу, знала превосходно и давным-давно, в общем-то, устала все это делать. Понимала хорошо Михайловна и то, что молодому, допустим, человеку живется в городе веселей и легче, ибо отработал – заработал, и – никаких тебе хлопот более. Но лично себя она мгновенно здесь почувствовала как не у дел вовсе, и после многих, да ведь считай, что и всех почти что прошлых многотрудных лет своей жизни Михайловна, вместо того чтоб этак с облегчением вроде бы вздохнуть наконец-то, оттого что и вправду уставать ей теперь в работах совсем не требовалось, она, наоборот, ощутила не облегчение, а… трудность какую-то в новой своей жизни и положении.
Уже на второй, третий ли городской день ее принялись измучивать однообразные мысли о своей полной теперь никому ненужности, что ли. Да чего там – никому! Себе даже самой полной ненужности. Более того, нынешняя собственная жизнь в городе стала представляться ей столь же «уютной» и наполненной значеньем и смыслом, как жизнь птицы в клетке, когда у той все с человеческой точки зрения есть, а вот самой-то птичьей жизни как раз и нету. Однако по характеру была Михайловна старухой терпеливой – жизнь научила жить без скорых и суетливых выводов, с размеренностью и приглядкой. И потому она, взявши себя в руки, попросту ждать стала, когда и как все образуется дальше, и что, возможно, ладно образуется. А что? Всякое бывало, и еще не такое вытерпливали…
Поскольку же первые городские дни оказались для нее такими отчаянно тревожными, Михайловна и более, чем обычно, обращала внимания на своего невольного товарища по беде – на Егора. И жалеть его нынче, тоже необычно для себя, пробовала, но с каждым днем только все больше Егору удивлялась. Ей представлялось заранее, что уж исконно-то деревенский кот если не вовсе не примет поначалу города, то хотя бы привыкать станет к нему мучительно, но Егор, дотошно обнюхав новое человеческое жилище, в каком его поселили, преспокойно и деловито сам сообразив при этом, для кого же в туалете теперь поставлен ящик особый с песком и опилками, облюбовал себе на шифоньере под потолком место среди картонных коробок с елочными игрушками и норовил спать-дрыхнуть там дни и ночи напролет. Постепенно он столь обнаглел даже, что не только привычную ему в деревне отварную картошку и хлебушек есть перестал, а и от сырой рыбки, какою Михайловна дома у себя его иногда потчевала, как лакомство на праздник давала, начал нос воротить – одну, мол, ему колбаску нынче подавай. Ну, и о мышах с синичками, ясное дело, не скучал как будто…
Глядела-глядела на него Михайловна подолгу в одинокие свои дневные-то часы, когда сын с женою на работе были, а двое внуков – в школе-садике, и диву давалась, как мгновенно приспособился Егор к новым условиям существования, да и вздыхала: «Ах ты, бездельник, ах ты, дармоед дармоедович!»
Но теперь, однако, все больше и больше к нему привязывалась.
Все чаще, удивляясь самой себе, брала она его на колени, садилась с ним к теплой постоянно городской батарее подле кухонного окошка и подолгу смотрела перед собою просто так, от вынужденного безделья, на улицу, которая лишь тогда, когда в первый раз на нее глядишь, кажется вся разной и миг от мига не похожей на себя толькошнюю, из-за постоянно снующего по ней народу. А приглядишься – и уже замечаешь, что не только все дома на ней одинаковые и все те же, но и люди-то в основном одни ведь и те же шастают по ней. Больше их только здесь, в городе, людей-то, и все они тебе – незнакомые лично. На улице встретишь – и в лицо не заглянешь из-за стеснения, а из окошка, когда на всех преспокойно смотришь, то и замечаешь, что все они одни и те же: на работу – с работы; в садик – из садика; в магазин – из магазина…
Вот так сперва-то в городе, у кухонного окошка и жаркой батареи, с Егором на коленях, и проводила Михайловна свои одинокие дневные часы, постепенно догадываясь, отчего этот превеликий бездельник Егор так начал ее здесь притягивать, – единственный он теперь был, кто впрямую напоминал ей о родном поселке.
В первое же городское воскресенье, чтоб отпраздновать переселение матери в город, обе дочки с зятьями и внуками тоже заявились к Сане. За столом младший зять Юрка, всегда откровенно-общительный, а потому и бесцеремонный, возьми да и спроси:
– Как вам тут у нас, мама? На заслуженном-то? Опытом не поделитесь? Эх, когда еще я свой-то заслужу заслуженный… Вот уж наотсыпаюсь тогда!
Михайловна похмурилась, повздыхала и ответила все же, в точности почти что, как было и есть:
– Ничего так-то. Только вот по первой поре… – она уж чуть не обмолвилась, что одиноко ей здесь, да опомнилась вовремя. – Только пока мне скучно здесь днями, когда никого в квартире. Без дела-занятия я у вас тут, на заслуженном-то. А уж тебе, Юрок, скажу, что, может, как свой заслужишь, так и спать расхочется…
Юрка захохотал, скаля крепкие прокуренные зубы.
– Резон. Расхочешь! – как всегда – немногословно и веско, подтвердил зять старший.
– Мам, – подал тогда свой голос и Саня, бывший как бы признанным председателем семейного совета, а потому и стремившийся рассуждать постоянно по-деловому и убедительно. – Тут ты сама, по-моему, крепко виновата! Ведь все сиднем сидишь и сидишь в квартире. А ты, днями-то, на лавочку у подъезда повыходи. Повыходи, повыходи! Там тебе знаешь сколько сразу нескучных-то подружек найдется?
– После еще и по квартирам ходить с Саней станем, вас звать-искать! – развеселилась невестка. – Мама, ау, где же вы там?
– А и верно! – улыбнулась Михайловна. И для успокоения детей, чтоб с расспросами ее в покое оставили, еще сказала: – Я ведь сама понимаю, это мне так сначала только. Опривыкну! – И рукой махнула, что, дескать, пустяки все это: – Опривыкну, опривыкну…
«Опривыкать» Михайловна принялась не откладывая дела в долгий ящик, а решительно – с понедельника тотчас.
Прибрав в квартире после обычной спешки, с какою ее обитатели – от внуков до отца с матерью – разлетались по будним утрам кто куда, Михайловна придумала захватить с собою кота, чтоб как бы не простой зевакою на лавочке-то объявляться («А кота пасти вывела!» – такое хитрое для любопытных придумала она себе оправдание), и спустилась к подъезду.
Солнце напоследок шпарило еще вовсю, и Саня, как и всегда ведь, оказался отчаянно прав в понимании практики жизни – через некоторое время появилась на лавочке одна соседка, затем другая и еще… и незаметно затеялась долгая и совсем не обременительная беседа про то, кто где раньше жил да чем в родных местах занимался.
Не без удовлетворения Михайловна уяснила из разговора, что все они здесь, на лавочке-то у городского подъезда собравшиеся, уже прожившие, считай, свои жизни женщины, как бы и товарки по нынешней беде и прошлой прожитой жизни, кто из деревни, оказалось, а кто и из подобного, что и ее родной, поселка, где жизнь по сходным, в общем-то, причинам утихает, перебрались сейчас в город к своим детям, и почти все на первых-то порах тосковали так же по привычному укладу жизни.
Одна соседка с пятого этажа, шибко этак говорливая, но на лицо какая-то неясная, смутная – хитрая, видимо, как решила Михайловна, – бойко и гораздо больше, чем нужно, если б это было все и верно так, засокрушалась вдруг о том, что до сих пор, дескать, никак не может привыкнуть пить воду водопроводную и все свою вспоминает – «из колодчика», деревенскую; что завтра же накажет дочке все-таки купить-приобрести ей коромысло и тогда станет, не ленясь, приносить для себя воду от колонки. Городские старухи ее, смутную-то, знали, вероятно, уже превосходно и взялись потому с увлечением с ней спорить, посмеиваясь, что вода не просто везде вода, а и что вода в колонке за два квартала от их дома – тоже водопроводная, и то да се…
Слушала их Михайловна, слушала, да и принялась потихоньку думать вовсе успокоительно о своем будущем: что не она, мол, одна – первая, не она – и последняя, и дело ее теперь, как и для всех ее новых городских товарок, одно – старушечье. Погодя она и вовсе перестала споры слушать, а так-то, задумавшись о себе и будущем, покойно и незаметно пребывала рядом и все же в стороне от спорщиц, пусть и на одной с ними лавочке, пока не хватилась Егора – ведь он вроде только что лежал у ней на коленках, и вот на тебе, уже удевался куда-то!
– Господи, Егор-то? – засуетилась она невольно и позвала: – Егор, Егор!
Городские женщины – спорить и над пустяками привычно ломать головы им к тому времени уже и самим надоело, жаждалось им теперь определенно новых бесед-развлечений, – близко к сердцу приняли исчезновение малознакомого им Егора и взялись тотчас говорить о котах, их повадках и характерах, но смутнолицая-то, и не только, видимо, хитрая, а еще и востроглазая любительница колодезной водички, вдруг по-деловому первая Егора углядела: кот с достоинством, по-царски жмурясь от сознания своего надо всем превосходства, сидел на асфальте возле окошка в подвал и преспокойно дремал в лучах последнего нынешнего солнышка. Тревожить его сейчас Михайловна не стала.
Когда все вдоволь для первого раза наговорились и всё как будто вызнали про новую свою соседку, а сама Михайловна и про них в свою очередь, кажется – все нужное, Михайловна собралась домой.
Егор сидел все на том же месте у окошечка в подвал и вроде в удовольствие всего лишь беспечно дремал. Однако при приближении хозяйки вдруг поднялся, но словно только для того, чтоб переменить положение тела и сладко потянуться. Потянувшись безмятежно, он, хотя и лениво с виду, этак все же проворно, мигом сиганул просто-напросто в подвал дома. В первое мгновение Михайловна расстроилась и рассердилась на строптивца, но следом представила почему-то, что Егор глубоко прав: разве не легче ему там, на воле, где и кошки, поди, вольно гуляющие имеются, и, чем черт не шутит, вдруг еще и мыши, хоть и непонятно, чем питающиеся здесь, в городе-то, где только через магазин все и достанешь: из-за отсутствия погребов-ям запасов никто не запасает.








