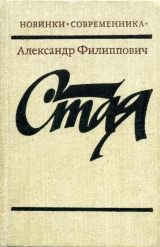
Текст книги "Стая"
Автор книги: Александр Филиппович
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Ночка
Вовка тотчас же заподозрил недоброе, едва услыхал в боковой улочке стрекот мотоцикла. И верно: дядя Иван Трофимов это, оказалось, вырулил из проулка к их дому. «За Ночкой?!» – сообразил Вовка. Эх, этак-то уж сколь раз было, что прикатит-примчит, в дом зайдет, там же перво-наперво закурит, ну и разговоры после обязательно заведет про коров да про хозяйство вообще, свою станет, значит, «агитацию гнуть», как папка-то говорит: это чтобы они, словом, Ночку свою в стадо совхозное продавали.
В груди у Вовки заколотилось, и оттого даже дух перехватило. Он поспешно, безо всякого аппетиту доел репу и, поднявшись на коленки, отряхнул с рубашки приставшие к груди и на пузе травинки.
– А ты чего?! Куда ты это, Вовка? – заспрашивали ребята.
Вовка поглядел на сваленные в траву репы, которые успешно удалось нынче «настрадовать» с совхозовских полей. Реп несъеденных еще немало было. Большие и не очень – в спешке все же выдирали-то! – все они вместе лежали теперь ладным буртиком, все с одинаково серенькими от землицы мышиными хвостами корешков, в ожидании справедливой на всю артель дележки.
– Эх, позабыл я, – в штаны рубаху заправляя и шмыгая осопливевшим от волнения носом, сказал Вовка с притворным равнодушием. – Мамка мене наказывала быть нонече как раз в это время в дому.
– Ну, гляди! Мы тебя ждать долго не будем! – «обнадежили» его тотчас «пайщики», намекая, что без него добычу делить начнут, и не обижаясь, что он уходить вздумал, а даже как бы и радуясь такому обстоятельству.
«А задавитеся! – подумал Вовка и встал с коленок вовсе решительно. – Да у нас и у самих в огороде-то такого добра, да еще и послаже которые, так навалом!» Однако он еще разок оглядел-ошарил артельные репы и просто так, из воспитанности и благородства будто, что, дескать, никак не брезгует плодами совместного озорства – ну да ведь и заслужил свое-то! – взял одну репку еще с собой. Оборвал ботву, а саму репу укромно в карман штанов сунул: «Ночке отдам!»
– А и не ждите! – пообещал, как пригрозил, друзьям-артельщикам и, как бы беспечно, припустил к дому.
У ворот отдышался сперва, чтобы дома родители чего не подумали. Вернее, чтобы подумали, что он просто так воротился: ну, что захотел вот домой и пришел вольно. Затем, тихо проскользнув во двор, Вовка еще тише прокрался по крыльцу, далее – через сенки и явился наконец в избу.
Так и есть – основательно уже, на табуретке, сидел у порога кухни он сам, дядя Иван Трофимов, облаченный в неразлучный брезентовый дождевик, в яловых сапогах, с тугой военной сумкой через плечо, водрузив на колени черную свою флотскую фуражку-мичманку. Ну и ясно, уж накурив вокруг невпроворот!
– Здравствуйте! – вежливо и тихо возникнув здесь для всех неожиданно, поприветствовал для начала Вовка.
Дядя Иван кивнул – здравствуй, мол.
– Ишь, заявился! – сразу удивилась мамка. – Натворил где чего? До ночи ведь в избу не загнать, а тут – и верно, что здрасьте!
Папка же только поглядел, но не молвил ничего пока.
– Исть хочу, – находчиво соврал Вовка.
– Супу налить? – предложила мамка.
«Уж сразу и супу!» – нахмурился Вовка, а вслух вздохнул:
– Я бы лучше, конечно, хлебушка какого с сахарком поел и молока попил…
– Вот садись и ешь, чего наложат! – всякий спор-препираловку прекратил папка.
И тут Вовка сообразил, что – пропал. И потому пропал, что придется теперь хлебать этот постылый суп, и потому, что при нем, при Вовке-то, ничего такого важного говориться, разумеется, не будет. «Эх-ха! Видать, надо было просто в сенках затаиться! Там-от все слыхать…» – подосадовал он на себя крепенько, бредя к умывальнику, оборудованному в уголочке кухоньки.
Пока же хлебал он этот свой постылый суп, взрослые и верно ничего не обсуждали. Папка сидел тоже на табуретке, как и дядя Иван, еще в заводских, рабочих штанах с мазутными коленками, но уже босой и в майке. Покуривал только да поглядывал, как он, Вовка-то, ест – ладно ли? «Ну, вот чего глядит-замечает? Ведь ем, ем же!» – злился меж тем Вовка, нарочно отворачиваясь к окну, чтоб лица у него видно не было. И мамка в это время, притулясь к печке, тоже больше на него, на Вовку, глядела. Только отчего-то как и не в себе сейчас была. Будто не дядя Иван, а вот она сама в своем дому, да в гостях находилась: стеснялась все чего-то, под фартук руки прятала, то и дело волосы поправляла, на дядю Ивана этого зыркая. А дядя-то Иван, ишь – тоже наблюдатель! Ясно, за ним одним, за Вовкой, и наблюдает. Локтями уперся в коленки, темный да коричневый, все исподлобья этак глядит-поглядывает своими серыми, на постоянном солнце выгоревшими будто глазами. «Ага, а как репу в штанах у меня углядел? – строил свои догадки Вовка. – Ну да, вона она и выставляется! Эх, помене следовало ухватить репу-то. А то схватил, будто сроду добра такого не видывал…»
Был дядя Иван Трофимов вообще-то из тех взрослых, которые и не поймешь сразу, чем они занимаются. Работал-то он, конечно, известно где – на подсобном. Правда, подсобное там раньше было, в войну, от Уралмаша, кажется. Нынче это оно стало вдруг совхозовским отделением. И от такого еще совхоза-то, который и не знаешь, где он такой сам находится. Далеко, говорят, находится где-то, километров за двадцать отсюда… Ну а если еще и должность-то его, дяди Ивана, в толк взять, так и вовсе ничего понятного нету: директор не директор, а только какой-то управляющий. Вроде, значит, и главный, а вроде как и нет. Но вот что всякий для него пацан – прямо-таки наивреднейший человек, так это уж точно. И вообще, он, дядя-то Иван, отчаянный какой-то. Вон когда мерина Гришку у Фалея зарезали, так ведь именно он за главного и верховодил. Направо и налево команды свои разные подавал. В мичманке этой своей морской. Капитан какой, да и только, каких по кину показывают! Что и говорить, не любил Вовка дядю Ивана. Ну, и боялся, конечно.
«И чего это ему всего надо, всего мало и всего жалко? Будто обедняет все его казенное отделенье, если с десяток всего какой-нибудь репок у него надерут! Во всех-то полях вокруг их же видимо-невидимо…» – все фыркал энергично про себя Вовка, краснея, однако, под пристальным взглядом серых глаз дяди Ивана. Но вот беда, пока он, Вовка-то, строил такие всякие свои домыслы и догадки, взрослые меж собою завели какой-то разговор, а вот с чего он начался и про что, Вовка как-то неосмотрительно не услушал.
– …Сорванец! – услыхал он внезапно, как дядя Иван вдруг заключил какое-то свое размышление. А ведь надо полагать, что про него, про Вовку, размышление-то? Про кого ж еще так? И произнес-то, выговорил как: то ли одобрял, то ли осудил за что неведомое?! Эх, у него всегда, у дяди-то Ивана, по-двойному выходить: ведь никак одного точно не понять!..
– И не говорите! – тотчас же мамка поспешила откликнуться, и с поддержкою как бы. О фартук руки снова завытирала, уж раз десяток до того вытертые, однако. Поддержать-то поддержала, а ведь тоже не поняла, верно: хают его, Вовку, нет ли?
«Ну, никто его не просит, а он всегда выставится-сунется! – подосадовал Вовка на дяди Ивановы слова. – Эх и совало! Какое, однакова, совало нашлось!»
– А чего? – со спокойствием вступая в разговор, откликнулся папка. – Учится – и ладно. Трояков пока из школы не притаскивает. А если другое что имеешь в виду, так он у нас шустряк! Ничего, как-нибудь ладом воспитается. Мишка-от у нас этак же поначалу шел.
«А папка – он ничего, – одобрительно заключил Вовка. – Вот только все невозможного хотит. – И вздохнул: это как-то поздним вечером, когда уж спать легли, слыхал он некоторый на этот счет мамкин с папкой разговор, что папка, оказывается, хочет, чтобы он, Вовка-то, ходил чинненький и гладенький, еще и в коротких штанишках да в матроске, как нового директора завода сын Игорь… – Все они, взрослые, – усмехнулся Вовка, – не так, однако, понимают. Им зачем-то надо, чтоб по-ихнему только было, чтоб жить по-ихнему. А если этого, по-ихнему-то, не хочется и не получается?»
Но, пока он про все это думал так, мамка и папка нарочно для дяди Ивана завели уже речь далее про брата Мишку. И что он, мол, такой умный, и хороший-пригожий такой, и то да се… Некуда и хвалиться дальше! Чего тут: Вовка ведь тоже любил Мишку. А конечно, любил! Учился Мишка в техникуме, приезжал домой раз в месяц, а то и чаще. По-городскому брюки каждый день гладил и курил, как достойный и взрослый, при папке с мамкой открыто. Когда папка с мамкой заговаривали с посторонними про Мишку, Вовке неловко даже за них становилось. И стыдно тоже: точно они тогда, папка с мамкою, вдруг переставали быть взрослыми. И с Мишкой, кстати-то сказать, с самим разговаривали они уже порою будто с Игоревым отцом-директором или же точно он, Мишка, становился для них вроде школьного, все по-грамотному понимающего учителя…
– Эх, неправильно, неправильно у нас это все поставлено! – чего-то свое заканючил теперь дядя Иван Трофимов, и снова Вовка прослушал, про что дядя Иван навострился говорить. Да и все равно, всегда ведь рассуждал он о непонятном, дядя-то Иван. По-умному. Может, оттого все его всегда плохо и расслышивали. А может, и привыкли, что он всегда так по-непонятному говорит-рассуждает? Да ведь и кто он вообще-то? Дядя-то Иван? Чтобы его слушать-прислушиваться? Учитель школьный? Директор заводской? Ровня он, а она, ровня-то, всегда ровней и есть… «Ишь, речь завел! Ну и выставляется же, будто все знает! – заехидничал Вовка. – Нет, все же какое совало во все человеческие дела отыскалось!» А дядя Иван рассуждал тем временем уже дальше: – Вот на прошлой неделе, слыхал я по радио, выступала в передаче Анка Козлова. Сварщика Козлова дочь, который в заводе у вас работает…
– Ну-ну? – с готовностью слушать быстро поддакнул папка.
– В Режевском районе нынче живет. До-олго выступала! Не слыхал?
– Нет-нет! – опять скоро сообщил папка.
– Ох до-олго! Все звала подруг и годков ехать на село. – Сплетя пальцы, дядя Иван переставил на коленках локти и стал с серьезностью в пол глядеть. Рано поседевшие его волосы все еще были смяты так, как их флотской фуражкой придавливало весь день. – Дело-то, конечно, очень затеяно хорошее. Да ведь Аня-то про что дольше всего говорила? А мало, говорила, у нас в деревне хватких председателей, бригадиров, инженеров! Эх, точно все, кто на землю вернутся, станут исключительно председателями и бригадирами. Ну как же этакое вслух произносить можно, тем более что по радио? Неправильно, даже вредно у нас это заведено! Ведь и по-всякому уже бывало…
И заводы – хорошо, конечно. Необходимо. Да только ведь и хлебушек нельзя переставать сеять. И молоко в бутылочках всякому городскому человеку, уж о детях – так молчу, желательно – подай. Нет, разве ж это дело: председателевыми постами народ в деревни звать? Земле требуется труженик. Труженика земля требует! Я реализьм вещей исповедывал и исповедывать продолжаю! Так что трудом на землю надо звать. Трудо-ом!
– Как же, трудом ты зазовешь! – разочарованно зевнул папка, притушивая папироску. – Сейчас туда только отдыхом зазвать возможно.
– И не говори! – поддержала его мамка, махнув даже рукой, будто подтверждая, что ничего путного, конечно, от дяди-то Ивана и не услышишь.
– Трудом… – никак не мог успокоиться папка. И еще повторил: – Трудом… Лику-то свою тоже на землю, что ль, спроворил? Нет же!
– Дак она на стройку уехала. Говорит, что по технике пойти дальше в жизни желает. У нее, мол, к математике склонности, – с терпеливым спокойствием разъяснил дядя Иван.
Мамка при этом как-то этак хмыкнула.
А чего, Лику трофимовскую и он, Вовка, очень даже хорошо знал. Мамка всегда отчего-то говорила, что Лика красивая. Но он, Вовка, еще не понимал этого. Чувствовал, что не понимает. А вот еще говорили про нее, старухи в основном, что она, мол, какая-то позорная… замешано тут было что-то тайное и взрослое…
– До института пусть на стройке поработает, – еще сказал дядя Иван. – Математика с техникой – науки строгие. А на земле, как ее ни люби, одна ведь тебе все же математика – гектар! Сколько шагов-метров в ширину, столько в длину – вот и вся здесь тебе высшая математика! Так что надо бы смотреть только на реализьм вещей. Всегда и во всем…
Допив молоко, Вовка уперся ладошками в край табуретки и задрыгал ногами. Обернулась же эта беззаботность, однако, ошибкой неисправимою: полуботинок-то с ноги вдруг сорвался и громко под столом стукнул, и все тогда снова посмотрели на Вовку.
– Ладно! – заключил папка. – Делать, я погляжу, тебе более нечего. Поди-ка на улицу!
– Голова у меня болит по улицам-от бегать! – соврал Вовка.
– А чего другого, противоположного, не болит? – весело справился папка.
Мамка, уж на что человек добрый, ладошку свою ко лбу приложила, в глаза заглянула обеспокоенно, но даже после этого не поверила тоже:
– А не врешь?
– Да болит! – потея от обмана, упрямо отозвался Вовка и отвернулся к окошку.
– Вот чего, – произнес тогда папка. – Устал я с чего-то нынче. Сходи-ка, Вова, на болоты, проверь мордешки! – И папка пошарил в карманах штанов, отцепил от связки заветный ключик. – Это там, которые у проток, больше шарь. Наши все, ты знаешь, с красными поплавками. В общем, чего там долго-то объяснять, и сам, поди, уже ученый…
Вовка так и обмер, и сразу позабыл, зачем в этакую рань, рискуя уличной своей самостоятельностью и независимостью, прискакал в дом: никогда еще папка не доверял ему лодку, чтобы он в полном одиночестве осматривал снасти. Про все потому и позабыл он сразу: про дядю Ивана, про Ночку. Однако сдержался – показалось ему, конечно, что он сдержался, – выказывать свою радость открыто. Он взял ключ из папкиных рук и спросил как бы по-взрослому, как бы о деле исключительно:
– В садок надо сколько садить или же домой нынче всех притаскивать?
– А все, чего наловишь, и тащи, – объяснил папка.
– Вот еще чего… Воропаев же на нас ругается, что мы по болотам, мол, по-пустому шарим, – пользуясь удачным случаем, пожаловался Вовка. – Сказал бы ты ему как-нибудь, что мы ничего ему плохого не делаем. Он же за свои морды-то больше дрожит, а не за общий порядок… – Должно, от серьезности да и важности момента и просьбы у Вовки из носу выскочило.
– Скажу, – улыбнувшись, пообещал папка.
Ну и дядя-то Иван Трофимов тоже зачем-то улыбнулся и стал глядеть на него своими выгоревшими глазами. Даже ободрял точно бы, что, мол, не бойся Воропаева. А по правде-то, так чего его, инвалида Воропаева одноногого, бояться? Это ведь только голос у его громкий, а ни бега, ни сноровки-движенья быстрых нету. Ну, поругает когда, конечно, на все плесо в крик, а так-то чего… брань не смола, высохнет – отстанет! Да и никого еще одноногий Воропаев ни веслом, ни другим чем тяжелым не обидел будто бы…
– Ватник надень! – вдогон, когда он уж в сенках был, крикнула мамка.
Вовка подумал: притворяться, нет ли, что будто бы не расслышал, чтоб ватника не надевать.
– Тепло еще! – откликнулся он все же, хоть и повременив немного.
– А болоты не печка! – приказывая, крикнул папка. – К ночи дело!
– Ладно! – лишь тогда согласно обнадежил Вовка.
Забравшись на кадку – стояла она пуста, выскребана и подготовлена, чтобы капусту квасить осенью, – Вовка сдернул с вешалки ватник, закатал рукава, чтобы короче были и не обмочились случайно. Карманным ножичком отрезал от веревки одну жилку, зацепил ее за петельку в брюках, а к другому кончику привязал ключ от лодки – мало ли, обронишь в воду, ищи тогда поискивай! Сунув в карман ключ, Вовка наткнулся на репу, о которой позабыл. «Ночке отдам!» – решил от тотчас же и спрыгнул с крылечка.
В стайке было прохладно, тихо, пусто. Лишь, важно нахохливаясь, куры на насесте мостились ко сну. Голодные, худые комары, с тонкими, еще прозрачными брюхами, лепились к потолку в ожидании позднего своего хищного часа. И слепней еще не было поблизости нигде, эти-то всегда с Ночкой из лесу налетают. Только, как обычно, зазудели вокруг потревоженно черные навозные мухи. Эти уж всегда: и сыты вроде, а все равно вечно недовольные. «Эх, дак ведь коров еще не приганивали!» – успокаиваясь, что Ночки и быть пока здесь не может, вспомнил вдруг Вовка. Постоял немного, раздумывая, чего с репой сделать. Сунул ее наконец в кормушку – пригонят когда коров, так Ночка догадается, чего с репой делать. Лишь после всего этого он снял с гвоздика на стене бидончик под рыбу и, вывернув за стайку, через огороды устремился к болотам…
Из низины, в которой заброшенные торфоразработки вот уж пяток последних лет обращались в обширные, зарастающие камышом и кустарником болотины, Вовке хорошо, во все стороны видать было холмы, эти болота обступавшие.
С востока и запада подбирался к болотам глухой островерхий хвойняк. С юга же, за огородами, разбитыми по склонам, обращенным к болотам, над макушками холмов, на сухоте полной, за ворохами зелени из тополей, черемух, рябин, краснели крашеным железом и белели шифером крыши поселка, над которыми выше всего выставлялась водонапорная башня. Была она сложена четырехугольником из толстых бревен и казалась издали складной, точно мехи гармошки. В стороне же, на краешке жилья, почти уже на самой нижние, выставлялись вверх долгие железные трубы ремзавода, на котором в литейке работал папка. И из литейной трубы, не то что из отопительной от котлов, из которой ничего сейчас не шло, вовсю буровил в небо желто-розовый дым, а ведь здорово красиво озаренный теперь вечерним, закатным солнцем!
Еще видно было Вовке флажок на водонапорной башне, – пока флажок висит, печи никак топить нельзя. А еще видна была за всем этим – только на макушке уж другого холма, что выставлялся и вовсе за поселком, потому наполовину из-за домов невидимый, – геодезическая вышка, которая нужна, как папка объяснял, для «перенесенья на карту всей окрестности». Но это, по правде-то говоря, папка не сам услыхал, – это Мишка ему рассказывал. Вот уж с той-то, говорят, вышки по утрам, когда солнце далеко светит, видать-разглядеть даже и сам Свердловск. Это, правда, еще самому бы проверить надо, что видать…
А вот с севера, за болотами, в той как раз стороне, куда солнце летом опускается, желтели подсобовские поля среди островков умышленно сохраненного леса и хорошо вырисовывалось и само-то подсобное, а нынче совхозовское отделение – несколько деревянных коробушек-домов и приземистый, под соломою, коровник – все дяди Ивана Трофимова хозяйство-владения.
Все эти картины окружающие наблюдал Вовка множество раз, но все многие разы виды эти ему не надоедали, несмотря на то что его никак не переставало манить в город, в котором в техникуме учился Мишка и о котором редко кто из взрослых помнил плохо. Всегда они, взрослые, когда говорили, что кто-то стал очень уж счастливый, подчеркивали, что счастливый этот живет теперь в городе и что ему даже, мол, квартиру там дали «со всем удобством». Но эти болота вокруг поселочка с заводскими трубами и водонапорной башней, подсобовские поля и низкий, соломою крытый коровник обладали в своей совокупности каким-то собственным, прочным и неистребимым притяжением. Всего десять лет от роду было Вовке, и не знал он еще, не догадывался толком, что это все есть такое. Не мог он еще покудова знать то, что тайна эта откроется ему лишь через много-много трудных лет, когда заметит он вдруг, что в тяжкие или возвышенные мгновенья жизни при слове «Родина» не представится ему вдруг некая могучая бескрайность, а припомнит он сперва вот эти именно все крыши, трубы, башни, эти вот подсобовские дальние дома-коробушки, коровник, крытый давешнею, забуревшею от дождей соломою, и поля вокруг островков умышленно сохраненного леса, и уж потом только – исходящую вдаль ото всего этого конкретного, как от изначала, всю безбрежность и незыблемость голубой по горизонту земли…
Стоя в лодке и загребая легоньким веселком то с правого, то с левого борта, Вовка тихо скользил по протокам, отыскивая поплавки, помеченные красными тряпочками. Вечерняя вода стояла гладью, жарко в лицо отсверкивая и стеклянно отражая в себе облака и затаившиеся по краям проток камыши да худые болотные березки над этими камышами. Первые отпавшие уже листья, сухо скоробившись, лежали на этой глади, как на чем-то твердом. Там же, где в воде ничего не отражалось, видно было растущие из дна, почти что как-нибудь по-африканскому диковинных видов колыхающиеся водоросли и дружные стайки мальков, шныряющие меж ними, тоже будто фантастические существа.
Вовка зацепливал поплавки крючочком, приделанным к рукоятке веселка, хватал ловко тросик и наверх выволакивал из няши самодельные, сплетенные из проволоки морды с забитыми торфом ячеями. Кое-кто в поселке звал эти морды «фитилями», и Вовке отчего-то тоже больше нравилось звать морды так. Карасей вываливал он прямо в лодку, выкидывая обратно, какую успевал заметить, мелочевку, и переставлял «фитиль» на новое место. Как бы исподтишка, с надеждою во взгляде осматривался он вокруг: не замечает ли его кто из случайных взрослых при этом? Но не было взрослых в этот час на болотах почему-то нынче. И вообще как будто бы никого не было, и ребят тоже, одногодков. И все потому досаднее становилось Вовке, что никто не видит, как уже доверено ему отцом в полной самостоятельности обшаривать «фитили» эти.
Лишь под конец рыбалки заметил Вовка все же одного взрослого. Взрослый этот был, однако, из городских, потому как сидел с безнадежной удочкой. Неожиданно для самого себя Вовка отвернул вдруг в сторонку, издали еще этого удочника углядев, и, потея от волненья-испуга, во всю мочь заплескал веселком, удаляясь прочь по укромной протоке. «Эх, мало ли чего! – подумал он, прислушиваясь к гулкому в груди стуку и оправдывая в душе свое малодушие. – Как еще начнет прицепливаться, что все, мол, местные не рыбачиют, а хищничают, не на удочки раз ловют».
И только примкнув лодку к вбитому в землю рельсу и принявшись перекладывать карасей в бидон, Вовка опять храбро засожалел, что никто из взрослых его не видел нынче.
Карасиков в бидоне вышло четверти на три посудины. Присев на взмокший от вечерней росы травянистый бережок, Вовка запустил в бидон руку, перебирая скользкие рыбьи тельца. Солнце село и светило уже откуда-то из-за края земли высоко вверх. Но было еще достаточно светло. От поселка неразборчиво доносились голоса. На усадьбе, на которой к зиме спешили достроиться, топор тукал: сруб подгоняли там, должно быть. А в окраинной улице кто-то гонял взад-вперед на мотоцикле.
К ночи от воды уж тянул потихоньку парок и воздух набухал сыростью. Вовка потуже завернулся в ватник: и верно, что «болоты не печка», как папка-то сказал. Вовка решил было еще посидеть так немного, наслаждаясь и нынешней своей рыбацкой самостоятельностью, и храбростью своей пред вечерним одиночеством, как за ближайшим кустом мужики заговорили:
– Эт кто там подъехал-то?
– А Орловых вроде младший. Вовка…
Вовка затаился, дыхание даже задержав, так как по голосам узнал Воропаева и Кудри, тоже постоянных рыбаков. Укромно они хоронились невдалеке, за кустиками возле причалов, и «пировали», как сообразил Вовка, услыхав следом, что там стекло звенькнуло и потом пробулькало – из бутылки разлили. «Ну, цепляться счас начнут!» – решил он, настраиваясь поскорее отсюда смываться и еще раз перепроверяя, не забыл ли чего, обшаривая лодку. Конечно, чего еще доброго от Кудри с Воропаевым дождешься! Воропаев, это ясно, вообще «болотный» законник: говорят, сам малька карасевого сюда запустил, а сейчас переживает, что его все налавливают! А для чего другого еще карась, как не для того, чтоб все его ловили? Про Кудри же тоже чего говорить хорошего… он, как папка-то говорил, давно, сразу после войны где-то, что ли, одного детдомовского чуть не расстрелял, когда в милиции служил, а детдомовский в киоску у завода ночью забрался. И вообще, свирепей, чем Кудри, не вообразишь человека! Кудрявый, рыжий, морда кирпича просит, и росту вроде бы точно два метра. Даже ничего говорить тебе не будет, просто глядишь на него – и уже страшно…
– Ну, и как там у тебя уловишко нынешний, Вовка? – не спросил, а прямо-таки пророкотал из-за кустов Кудри.
– Да худо почему-то сёдни, – вздрогнул Вовка от испуга, хотя и обычный оказался улов – нормальный, средний.
– А как не худо будет? – нехорошо хмыкнул Воропаев. – И малька гребут! Ячейки-то какие плетем на морды? Вообразить и то неудобно самому же! Сантиметр на сантиметр! Разве что одну икру еще оставляем, да и то оттого, поди, что вылавливать ее не научились пока. Но, по всему судя, когда-нибудь и к этому приловчимся, найдутся умельцы… Однако я тебе вот еще что скажу, что даже не с этой стороны надо бы ждать беду-то, а вот если базу построят, как грозятся… тогда всему гибель живому…
– Живому… – хохотнул Кудри. – Ну, рыбе, ну, птице…
– Да и всему! – заспорил Воропаев. – Такой от самолетов гул разведется, что люди из поселка побегут!
«Вот здорово!» – услыхав про базу, Вовка затаился, чтоб получше все расслушать. Папка тоже говорил, что вроде начнут строить у них рядышком такую самолетную базу.
– Побегут, как же! – громоподобно, будто леший, на все болото, опять хохотнул Кудри. – Я сам, да и многие, как мне известно, ждут базы не дождутся! Пойдет строительство, работенка там повыгоднее, глядишь, отыщется. Я вот, например, на сверхсрочную еще там, может, словчусь устроиться. По хозяйству чего-нибудь там, а? По хозяйству ведь не образование требуется, а опыт. Его же у меня не отымешь…
– Эт где ж ты его, такой опыт, как ты говоришь, скопил? В милиции, что ль? Да ведь тебя ж из нее выгнали, если вещи своими именами называть, конечно. Опыт… Это из нагана-то по пьянке в белый свет пулять?
– Дело прошлое! С кем не бывало чудачеств? Однако ведь хотишь не хотишь, а и награды фронтовые имею, «За отвагу».
– Ну, на это нынче уже и не глядят… – Опять за кустиками забулькало. А чуть погодя Воропаев начал «учить»: – Человеку не опыт требуется, а талант! Опыт же… да и пока его приобретешь, причем неведомо какой, скорее – так отрицательный, лучшие годы уйдут! Человеку прежде всего нужен талант, даже пускай для начала какой-нибудь талантишко хотя бы… – И пошло-поехало, зарассуждал о каких-то там «талантах» неведомых Воропаев! Папка его, Воропаева-то, нет-нет да «артистом» и назовет, потому как, говорят, сразу-то после раненья, когда Воропаев вернулся без ноги, его директором клуба назначили…
Вовка без сожаления перестал мужиков слушать и размечтался насчет базы: аэродром построят, самолеты прилетят, а он вдруг словчится убежать из дому и пристроиться к летчикам навроде «сына полка», а? В кожанке, в хромовых сапогах станет в клуб приходить на взрослые, вечерние кино! Пацаны-однокашники просить станут: «Вовка, проведи! С тобой пустят, ты вон – военный!» – «А чего? – замахнулся он столь высоко в своих мечтах и вдруг вспомнил… про Ночку: – Да как же так-то я позабыл про все? Не иначе папка нарочно отослал меня!» – сообразил он и поскорее теперь покинул причалы, «пирующих» Воропаева одноногого и Кудри, свои «летчицкие», пустые и праздные мечты…
Все так же тихо, однако, было в стайке.
Даже еще потише, чем давеча, перед рыбалкою: умаялись, изворчались за день навозные черные мухи, а вот слепней опять не оказалось. Точно бы поняли они, слепни-то, что делать им здесь больше нечего. Правда, занадрывались тонко ожившие к ночи комары, но они не столько звук усилили, сколько даже прибавили тишины.
Через окошко в огороды, куда назем выкидывали, светила теперь красная полоска закатного неба. И было в кормушке пусто, как никогда еще не бывало. Лишь одиноко все так же лежала репка, чуть уже, правда, поклеванная курами. Сами же куры мохнато ерошились на насесте – спали уже теперь. А на стене висели на гвоздике ненужные больше Ночкины веревка, за которую ее водили в стадо, и ботало. И вилы и лопата деревянная, которыми стайку чистили, не стояли более в уголке. Папка, должно, уже забросил их на полок, как вещи лишние. Там было и так набросано много всякого-разного, случайного барахла.
«Все! – понял Вовка, приседая на чурбачишко, на котором папка обычно дрова колол и который обычно в стайку не втаскивал. – Эх, продали Ночку! Меня, значит, на болоты, а ее…»
И стало Вовке столь тоскливо, как может становиться только ребенку, когда он с честностью и добросовестностью пробует постигнуть тот смысл, какой его детскому пониманию еще недоступен совершенно.
А в стайке еще все дышало Ночкою. Теплым ее скотским духом. И до-олго еще этак-то будет. Пока не подсохнет здесь… Вовка всегда всерьез принимал Ночку, огромную ее черную допотопность с выпученными грустными глазами: ему всегда казалось, что думает она и чувствует ровно человек. И тогда представил он вдруг Ночку в подсобовском коровнике, в казенном и на скорую руку разгороженном под стойла. Как стоит она перед кормушкою, куда навалено истасканного, изломанного – да ведь как и все оно и всегда-то, если казенное, – сенца. Как плачет, поди, выпученными своими карими глазищами и есть от горя ничего не может, не понимая никак, отчего это этак обошлись с нею: выхаживали, выкармливали, вылечивали и вдруг взяли да и чужим вовсе отдали, будто раба какого, будто она вещь какая, которая ничего не чувствует. Ну, ясно! Дядя Иван рядышком с ею стоит, ощупывает и со всех сторон оглядывает. А вот и именно, будто эту самую вещь нечувственную. Ровно шифоньер какой приобрел, а не животное живое. Вспотевший, довольный, конечно, дядя-то Иван Трофимов…
«А он и во всем ведь такой, деревяшечный какой-то! – горько и зло подумал Вовка. – Изо всего одну только пользу и выуживает! И не какую-нибудь там видимую, а какую-то общественную… Точно они, коровы-то, и вовсе не живые!»
И следом снова ему вспомнилось, как ловко орудовал дядя Иван, помогая Фалею управляться с серым в яблоках поселковым мерином Гришкою, когда забивали того. И сразу рабы в воображении явились, с которыми все раньше делали, точно бесчувственные они. Читал он маленько про них в Мишкиных книжках, когда книжки, конечно, стаскивать удавалось. Про Спартака, например. И еще даже далее того, что читал, понесло Вовку тотчас воображение и так занесло, что он как-то мгновенно позабыл вдруг и про Ночку, про то, что в бидоне у него карасишки, что поздно уже и что дома его ждут-волнуются, а вот он сидит на чурбачке в опустевшей стайке… Сперва сделал Вовка рабом самого себя, потом всех годков своих, потом уж, верхом на верном и грозном коне-мерине Гришке, сером и в яблоках, и притом новый ударный род войск даже создав, латы на коров приспособив, стал он даже восстание поднимать против императора вроде римского, внешностью точно под дядю Ивана… И вдруг голос мамкин услыхал:








