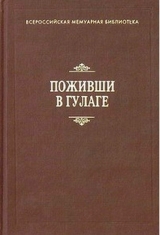
Текст книги "Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний"
Автор книги: Александр Буцковский
Соавторы: Н. Игнатов,А. Кропочкин,Николай Болдырев,Всеволод Горшков,Владимир Лазарев,Николай Копылов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
Глава 4
Этап на Байконур
Конец февраля месяца 1949 года. Прошло уже два года следственных тюрем, лагерей, пересылок, и вот состав из товарных вагонов с решетками на оконцах мчит нас куда-то. Хоть бы увидеть название одной станции, и станет ясно, куда едем.
И первой станцией, которую мы увидели, был Барабинск. Едем на запад. Дальше начались гадания… Куда??? Если Северный Урал – плохо…
И никто в вагоне не мог догадаться куда до тех пор, пока не приехали на станцию Петропавловск. Здесь мы повернули на юг от Транссибирской магистрали.
Было высказано предположение: на угольные шахты в Караганду. Но когда приехали в Караганду и нас не высадили, тогда все потерялись в догадках – никто из нас не знал, что есть на земле Байконур, рабочий поселок, Джезказган, Кенгир, Карсак-пай, Балхаш, где безраздельно господствовал Степлаг с центром в Караганде…
Выгрузились на станции Новорудная. Конец февраля. Заметно теплее, чем у нас в Новосибирске. Солнечно. Чистое голубое небо и степь без конца и края на все четыре стороны. После недели, проведенной в вагоне, закружилась голова.
Построение.
– Первая пятерка, пять шагов вперед, вторая, третья… Не оглядываться, не разговаривать!
Мы проходим метров двести-триста и грузимся в вагоны узкоколейки. Вагоны приспособлены для перевозки зэков. Я до тех пор не видел вагонов узкоколейки, и все это кажется игрушечным, неправдоподобным, маленьким. Отсчитали десять пятерок.
– Куда? – Этот короткий вопрос почти шепотом задаем железнодорожнику – осмотрщику вагонов.
Он так же коротко и негромко ответил:
– Байконур.
Оказалось, что это рабочий поселок в девяноста километрах на запад от Джезказгана.
Формальности с отправкой этапа задержали нас почти до вечера. Ясный, сравнительно теплый день сменился порывистым ветром, полетели хлопья снега. Короткий гудок паровоза, и вагоны, подрагивая, застучали на стыках, увозя нас в неизвестность. Не знаю, сколько мы проехали, поезд сперва замедлил ход и еле тащился, потом остановился совсем. За окном бушевала вьюга. Свист, вой ветра слились в какой-то адский рев. Казалось, что эти игрушечные вагончики вместе с нами унесет в степь.
Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу. Вагон продувался насквозь. Опустилась ночь. Но прежде чем наступила ночь, в вагоне стало совсем темно от того, что сугроб снега закрыл окна. В вагоне потеплело. В кромешной темноте и грохоте мы потеряли счет времени. На крыше вагона послышался топот ног и еле слышный голос:
– Откройте вентиляцию!
А кто знал, где она находится, эта вентиляция, и что нужно открывать? Духота становилась невыносимой. Люди шарили по стенам, по потолку вагона и не находили того, что можно было бы открыть. Мы были заживо погребены в этих коробках под сугробами снега. Запахло мочой и испражнениями. В этих вагонах не предусмотрен туалет или параша. Это еще больше усугубило и без того критическое положение. Люди падали в обморок. Выбили через решетку оконце. Но это не помогло. За окном плотно спрессованный снег не дал возможности проникнуть свежему воздуху в вагон, ставший для нас газовой камерой.
Истошно кричали, били в стены вагона кулаками, ногами, прислушивались, но в ответ – гробовая тишина, и теперь слышалось только прерывистое, хриплое дыхание обреченных людей.
– Спишут нас, братцы, за счет стихийного бедствия, – проговорил кто-то.
– Заткнись, будем сидеть молча, так и спишут.
– Давайте ломать вагон.
– Чем?
– Руками!
Я чувствовал, как начинала кружиться голова, стали путаться мысли, и вдруг меня осенило. Вспомнил, как мы, трое комсомольцев, в 1938 году по набору обкома комсомола ехали на поезде, который в народе называли «Максимкой». От Новосибирска до Владивостока восемь – десять суток тащился товарно-пассажирский поезд. В этом поезде была половина товарных, телячьих, половина пассажирских вагонов. Мы ехали в пассажирском вагоне на общих нарах без постели. И вот когда было жарко, я находил над собой в потолке вагона маленькую металлическую шишечку на диске и поворачивал диск с окошечками, которые устанавливал против таких же окошечек в потолке вагона. На ходу поезда в этих окошечках свистел вытягиваемый из вагона воздух. Этот рычажок нужно искать посередине вагона.
Я долго шарил руками по потолку вагона, нашел злополучный рычажок и стал поворачивать его в разные стороны. Диск не поворачивался – наверное, приржавел. Я снял с ноги ботинок и начал бить по диску каблуком. Снова пробовал повернуть – диск не поддавался.
– Нужно ударить ногой, – посоветовал кто-то.
– А что, можно и ногой.
Мы, четыре человека, подняли пятого. Он лежал у нас на руках на спине и бил ногой в то место, куда мы направили его ногу. После третьего-четвертого удара с потолка посыпались проржавевшие куски жести, и нога застряла в отверстии вентиляции. Из этого отверстия чуть-чуть потянуло холодом. Конвой, очевидно, освободил от снега вентиляционные грибки на крыше вагона. Они тоже отвечали за то, чтобы довести нас до места живыми. И их могли наказать – не за наши загубленные жизни, нет! В этом мы все были убеждены. Могли наказать только за то, что не была доставлена ко времени рабочая сила.
К этому отверстию в крыше вагона, откуда струился свежий воздух, подносили по очереди упавших в обморок людей. И как только человек открывал глаза, подносили другого.
Мы потеряли счет времени. По предположениям, должно было быть утро. Людей охватило какое-то оцепенение, и непонятно было, то ли они спят, сидя на корточках, то ли мертвы. Нет. Если прислушаться, можно услышать еле слышное дыхание, слабые стоны, бормотание. Погребенные были живы. Но вот снаружи вроде послышались голоса, еле различимые, однако обостренный слух улавливал их, и ошибки быть не могло. Потом стали скрести по стене вагона с той стороны, где были окна. Обозначился тусклый квадрат зарешеченного окошка, и вслед за этим (удары, треск отдираемой решетки) от удара прикладом автомата рама, со звоном разбитого стекла, упала на нас. К окну приблизилось лицо конвоира.
– Всем сидеть на полу. В окно не высовываться. Стреляем без предупреждения.
– Пить! Пить! – понеслось из вагона.
– Молчать! – рявкнул конвоир. – А то сейчас напою!
– Пить!..
Минут через пятнадцать-двадцать в окошко просунули кусок слежавшегося снега, потом другой. Оттесняя друг друга, люди набросились на снег и не столько разобрали руками, сколько растоптали его ногами.
– Что, фашист, жить захотел? – это проговорил казах в лисьем малахае, загородивший все окно улыбающейся физиономией. Значит, откапывало поезд местное население – казахи.
Утолив жажду, люди опять заговорили. Посыпались предположения: сколько времени нужно, чтобы откопать весь состав, сколько времени нужно, чтобы расчистить путь, и куда повезут – вперед или назад? А время между тем шло, за стенами вагонов слышались крики, мат, рев верблюдов.
Буран, по-видимому, утих, так как траншея, пробитая к окну за день, не была занесена снегом.
Во второй половине дня в это же окно нам забросили соленой рыбы и по кусочку хлеба.
И снова крики:
– Пить!..
Опять несколько кусков снега в окно и снова тишина.
Спустя какое-то время команда:
– По пять человек на оправку выходи!
Под дулами автоматов через открытый тамбур спускались на землю у самого вагона и обратно.
– Следующая пятерка! Выходи…
Состав был откопан на всю длину. День клонился к вечеру. Неужели впереди еще одна кошмарная ночь? Где-то в полночь еле уловимый толчок вагона и следом скрежет и визг колес по заснеженным рельсам. Кажется, поехали. В какую сторону – не все ли равно? За ночь еще не раз наш поезд останавливался, сдавал назад и снова полз вперед.
Да, теперь сомнений не было, мы вернулись на Новорудную, на ту станцию, с которой мы двое с лишним суток назад выехали в Байконур.
Справка: Поселок Байконур, давший название космодрому, на самом деле находится в 400 км от самого космодрома, у железнодорожной станции Тюра-Там.
Позже, в Джезказгане, мы встретили людей, побывавших в Байконуре. Там был небольшой лагпункт Степлага – п/я 392/7. Когда-то здесь было открыто месторождение каменного угля с толщиной пласта 60–100 сантиметров на глубине 100 метров от поверхности. Использовать технику при такой толщине пласта невозможно, а вот обушок и санки в виде деревянного корыта с лямкой были самыми подходящими.
Каторжный труд саночников на шахтах в царской России в литературе отражен достаточно хорошо, но таким способом в XX веке ни в Донбассе, ни в Воркуте, ни в других местах уголь уже не добывали. Забойщик долбил кайлом, нагружал корыто углем, и саночник на коленях тащил к стволу добычу. Только у ствола можно было распрямиться и стать во весь рост, высыпать уголь в бадью – и снова на коленях ползком до забоя.
Наколенники и рукавицы после пяти-шести смен превращались в лохмотья, а выдавались они сроком на один месяц. Тогда на колени привязывались куски старых, полусгнивших телогреек, которые для этой цели лежали в куче у шахты. Редкий день проходил без того, чтобы на поверхность не выволакивали труп. Умирали, сходили с ума из-за того, что человек, работая в полумраке забоя, все время чувствовал страх быть раздавленным, похороненным заживо, а обвалы были обычным явлением. Эти ежедневные спуски в шахту, как в могилу, доводили людей до отупения, безразличия ко всему окружающему и к своей судьбе. Потом человек «доходил», потом лазарет и… «деревянный бушлат».
Ночами в бараке слышались стоны, нечеловеческие крики «спасите!». Это новички привыкали к новым условиям работы, это подземный кошмар первых дней работы приходил к людям в страшных снах.
План добычи угля эти подземные кроты должны были выдавать ежедневно. И выдавали – ценой собственных жизней.
Стихия прервала наш путь на Байконур, и не все ли равно, куда нас бросят завтра. А сегодня мы хотим есть и спать после двухсуточного снежного плена.
Глава 5
Этап на Джезказган
Каторжный лагерь Джезказган (медный котел)
После неудачного этапа на Байконур нас возвратили на станцию Новорудная, и вот случилось то, чего боялись все зэки, которых привозили в Степлаг: боялись медных рудников Джезказгана.
У А. И. Солженицына в третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» есть описание, как зэки, среди которых был и он, молили Бога, чтобы не попасть в Джезказган, когда их привезли в Степлаг. «Это была та джезказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдерживали больше четырех месяцев», – пишет Солженицын.
От станции до лагеря – три-четыре километра. Идем в колонне пятерками, взявшись под руки, по талому снегу, перемешанному с песком. В высоком голубом небе слышны трели жаворонков; даже собаки и те сегодня не рвутся с поводков, как обычно, когда сопровождают нас на этапах.
Справа от меня – высокий, широкий в кости человек лет шестидесяти, со сморщенным лицом. Когда-то добротный синий костюм висит на нем. Он все тяжелее опирается на мою руку. Не глядя в мою сторону, шепчет:
– Не бросайте меня…
Теперь я понял, что рядом идет крайне истощенный человек, еле переставляющий ноги. Онемела правая рука, и я сам уже начинаю запинаться. Сосед слева смотрит на меня, я глазами показываю ему вправо, тот понимает, крепче прижимает мою руку, поддерживает меня. Так мы в тройной связке подходим к лагерю. Колонну сажают на землю в стороне от ворот, не нарушая состава пятерки.
Как только мы сели, мой подопечный сразу же упал головой ко мне на колени.
Команда:
– Встать!
Встаем. Я пытаюсь поднять его, но мне не удается.
Конвоир замечает возню в колонне.
– А там что, особое приглашение нужно? – кричит он.
Отдает автомат конвоиру, подходит к нам.
– Он не может встать, – говорю я конвоиру.
– Ну ничего, здесь быстро вылечат.
Между тем с вахты пришли с носилками и унесли бедолагу в лагерь. Так состоялось мое знакомство с бывшим послом в Англии Майским. После лазарета он был заведующим лагерной пекарней, и мы с моим дружком Володей Хоменко теперь имели возможность приходить после работы в шахте на пекарню – подносить, разгружать мешки с мукой и наедаться от пуза теплого хлеба с квасом. На первых порах этот дополнительный хлеб помог нам выжить после пересылок, этапов, тюрем, после непосильной работы в шахте. Но не прошло и года, как на Майского было совершено покушение и его убрали с лагпункта. Заведующим стал чечен и в подсобники стал брать своих.
Когда мы подошли к лагерю, то невольно сравнили эти мощные, выложенные из камня высокие стены с теми, что пришлось видеть до этого, – либо дощатые заборы, либо огороженные колючей проволокой, с вышками по углам деревянные бараки.
– Вот это капитально, – произнес кто-то.
С визгом и скрежетом раскрылись железные ворота, пятерку за пятеркой пропуская нас внутрь лагеря.
Утром кое-как натягиваем на себя шахтерскую робу. Чуни подвязываем на ногах обрывками веревок, проволоки.
Столовая. На завтрак – 300 граммов хлеба, миска баланды и несколько ложек овсяной каши. Стало страшно. Неужели с голодным брюхом идти в шахту? До этого я никогда в жизни не видел шахты вблизи, и эта неизвестность страшила. Шли по голой степи, окруженные автоматчиками с собаками. Трудно кому-либо из нас сделать шаг влево или шаг вправо и быть застреленным без предупреждения.
Небольшой шахтный двор.
– Садись!
Сели прямо в лужи талого снега. Разговаривать запрещено. Так хочется спросить, что будет дальше. Знали только то, что сказал бригадир перед разводом:
– Пайка зарыта на глубине сто пятьдесят метров, и, чтобы получить ее вечером, нужно дать план.
Потом это слово: «дали» или «не дали» план – уже воспринималось как понятие – будет вечером 300 или 600 граммов хлеба.
Где-то послышались глухие взрывы. Земля под нами вздрогнула. Что это? Минут через двадцать-тридцать из-под копра шахты с зажженными карбидками в таких же робах вышли три человека и скрылись за машинным отделением.
– К спуску приготовиться! Первая пятерка – марш! Вторая… третья.
Первая пятерка подошла под строения копра и через минуту как бы повалилась на землю. Тусклая лампочка, висящая где-то вверху, еле освещала четырехугольное отверстие, уходящее вниз, в темноту. Из этой ямы тянуло сырым теплом и дымом от взрывчатки.
Ноги нащупали внизу опору; это была лестница, стоящая почти вертикально. Одна ступенька, вторая, третья… Скользко, сыро. Одна лестница кончилась. Площадка (полок) – и дальше опять дыра и следующая лестница. На пятой или шестой я сбился со счета. В четырехугольнике отверстия, где-то в бездне, светила лампочка. Тяжелое дыхание людей ниже меня и выше. Остановиться нельзя. Спускались с интервалом в тридцать секунд. Остановишься – тебе раздавят пальцы те, кто спускается следом за тобой. На площадке тоже нельзя остановиться передохнуть: задержишь спуск всей бригады, так как там двоим не разминуться. Вот дошли и до той лампочки, что светила где-то внизу, но вместо света от нее небольшое желтоватое пятно – таким густым и плотным был после взрывов (отпалки) дым.
Мы спускались как бы в стопятидесятиметровой дымовой трубе. Ствол шахты и ходок были естественной вентиляцией «Петро-2». Двадцать одна лестница по семь метров каждая преодолена, и мы ступили на каменную твердь. Здесь горело несколько более мощных ламп, однако все равно этот свет не мог рассеять дымной мглы.
Но вот спустился последний человек.
– Все? – спросил бригадир.
Ждем минуту-другую, никого нет: значит, все.
– Зарядить карбидки.
Толстостенный цилиндр с носиком, как у чайника, и отверстием в верхней крышке, куда насыпают карбид. Стоит смочить карбид водой, как начинает выделяться ацетилен. Поднесешь зажженную спичку к носику – вспыхивает голубовато-красное пламя.
И вот мы, длинной цепочкой растянувшись по штреку, освещая путь карбидками, идем в дымной мгле за бригадиром в забой.
Не знаю, какой из десяти кругов Дантова ада, где бредут грешники, напоминало мне это шествие. И даже подумалось, что это испытание специально устроено для новичков, спустившихся в шахту. Тогда я еще не знал, что так было до меня, так будет после, – так было всегда, сколько существует эта шахта.
– Газвагон, – проговорил кто-то.
– Душегубка!
Людей душил кашель. Мы шли и шли, и казалось, этому пути не будет конца. Но, как потом выяснилось, забой от ствола шахты находился всего в трехстах метрах.
Нам казалось, что вот кончится этот штрек – и мы выйдем куда-то, где свет и свежий воздух. И мы вышли. Стены штрека вдруг как будто раздвинулись, но дым стал еще удушливее и плотнее.
– Садись! – скомандовал бригадир.
Работать было нельзя. Не было видно вытянутой руки.
Эта дымная мгла напомнила мне ноябрь 1942 года, Калининский участок фронта. Полк ночных бомбардировщиков вылетел на задание, и вот при хорошем прогнозе погоды внезапно надвинулся туман – такой плотной стеной, что ничего нельзя было различить. Тогда напрасно мы жгли костры, стреляли из ракетниц – самолеты, пришедшие с задания, не видя аэродрома, кружили над ним в надежде, что хоть где-нибудь появится окно и можно будет сориентироваться для посадки. Туман не проходил, горючее в машинах кончалось. И тогда летчики начали сажать машины где попало. Полк потерял восемь машин – это почти целая эскадрилья.
Особисты тогда хотели перед строем расстрелять двух девчонок с метеостанции (если ее можно было назвать станцией), где был один полевой телефон да указатель направления ветра. Им давали сводки погоды сверху, из дивизии, а командование полка получало эти сведения от них. Я не знаю, что остановило особистов, но этих девчонок-«ветродуев», как их в шутку называли на аэродроме, не расстреляли, однако мы больше их не видели.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы начали различать силуэты людей, плотно сидевших на валунах и на куче, отбитой у целика руды.
Потом стал более четко проступать свет от электрической лампы, освещая забой, похожий на грот высотой пять-шесть метров. Не верилось, что и норы под землей, и эти высокие забои в руде твердого гранита проделали вот эти люди, похожие на маленьких пещерных жителей в фибровых касках и рваных шахтерских робах.
Бригадир Лешка Лавриков, «контрик из бытовиков», как он нам отрекомендовался, изрек:
– Здесь я тебе и прокурор, и следователь, и судья. Не захочешь сдохнуть – будешь вкалывать, будет пайка. Да не вздумайте не послушать моего помощника: недосчитаетесь ребер, – поучал он нас.
Помощник его, Пашка, неопределенных лет человек, недомерок, был для нас действительно страшен и опасен. Никто не знал, когда и за что он мог напасть и безжалостно избить забурником. Жалоба начальству на произвол была равносильна смертному приговору самому себе. Пашка был из бандеровцев и так же, как и бригадир, имел срок 25 лет.
Бригадир распределил работы среди пополнения: откатчики, путейцы, обезопасчик, валунщик, бурильщик, помощник бурильщика, скреперист, крепильщик.
Многое стерлось в памяти, забылось, но этот первый день в шахте запомнился на всю жизнь.
– Будешь валунщиком, – сказал мне бригадир, подавая тяжелую кувалду на длинной ручке. – Разведу по работам всех и покажу, что и как делать.
В его мирном голосе мне показалась даже какая-то забота. Минут через пятнадцать он подошел снова ко мне.
– Вот, смотри: такой валун не пройдет через колосники рудоспуска, значит, его нужно разбить. Разбивать нужно тоже с умом. Не бей кувалдой по ребрам, а бей по лбу. Это значит, что валун, если он лежит кверху углом или ребром, нужно повернуть вверх плоскостью и ударить вот так.
Полупудовая кувалда, описав над головой дугу, как мне показалось, не так уж сильно ударила по валуну. Валун как будто бы остался на месте целым, но, пошевелив его ногой, я увидел, что он весь разбит на остроугольные куски.
– Теперь давай пробуй ты.
Я выбрал валун поменьше, прицелился, держа кувалду на уровне груди, и ударил. Брызнули в сторону мелкие осколки, валун остался целым. Ударил еще раз – результат тот же. Я поворачивал валун и бил, бил. Пот и слезы застилали глаза, и скоро я, обессиленный и мокрый от пота, опустился рядом с этим проклятым валуном, теперь уже круглым.
– Сила есть – ума не надо! Сноровки нет. Силы нет, а есть хочется, а пайка зарыта вот здесь, под валуном, и ее нужно добыть к концу смены, – приговаривал бригадир, стоя надо мной. – Бери кувалду! – резким криком скомандовал он. – Дурень, вместе с кувалдой опускай руки и корпус, не задерживай кувалду в воздухе.
В этот удар я, кажется, вложил всего себя, и – чудо! Я еще не увидел, а почувствовал, что валун расколот. Итак, усвоив нехитрую науку, я колол и колол валуны. Колол до тех пор, пока не потемнело в глазах. Последнее, что мелькнуло в сознании перед тем, как я упал среди валунов, – нужно было… с отдыхом! Очнулся весь мокрый. Кто-то принес в каске воды и вылил на меня. Через пелену тумана проступали стены забоя, свет ламп, копошащиеся люди, занятые каждый своим делом.
– Ну что, освоил науку? Отдохни. Скоро съём.
Я хотел подняться с земли, но страшная боль в пояснице, в суставах, руках посадила меня снова на землю. Длинный звонок – конец работы. Плохо помню, как дошел до ствола. Видно было по всему, что мне по ходку не подняться. Не преодолеть двадцать одну лестницу, стоящую почти вертикально. Бригадир послал помощника, чтобы тот спросил разрешение конвоя выехать по клети с больным. Так я единственный раз, первый и последний, поднялся из шахты в клети.
Всякий раз, кончая смену, каждый из нас со страхом думал, хватит или нет сил подняться на поверхность, преодолеть сто сорок метров по мокрым, скользким лестницам. Двадцать одна лестница по семь метров каждая.
Наконец все на поверхности. Те, кто вышел раньше, ложатся на землю – это отдых перед переходом в лагерь.
– По пятеркам разберись!.. Марш!
Я в середине пятерки, взят под руки, шагаю как в полусне. Ворота, лай собак, шмон…
От вахты иду в санчасть.
– Раздевайся.
Хочу снять робу, но рук согнуть не могу. Не могу расстегнуть пуговицы на куртке.
– Не темни. Раздевайся.
Врач-грузин свирепеет. Срывает с меня куртку, бушлат, мнет суставы, с силой сгибает и разгибает руку; кричу от боли, и опять темно в глазах. Подносит к носу ватку с нашатырным спиртом. Растирает виски. Я смотрю на свои руки, и мне кажется, что это сон. Суставы в локтях распухли до такой степени, что кажутся неправдоподобными. Это было во второй раз после Асино.
– Иди!
Накидывает мне на плечи бушлат, куртку. Врач. Так закончился мой первый день работы в шахте «Петро-2». Это был день, когда я дрогнул и испугался. Испугался того, что заболею и не смогу работать. Болезнь в лагере – это прощание с жизнью. «Доходяга», «фитиль», «деревянный бушлат» в конце концов неизбежен. Это не для меня. Тогда выход один: несколько шагов в сторону из строя, и конец. Шаг влево, шаг вправо – это не простая угроза конвоя.
Это был февраль 1949 года.
Впереди еще долгих шесть лет в каторжном лагере, именуемом п/я 392/1.
Каторга
Осенью 1950 года произошло событие на первый взгляд малозначительное, но повлекшее за собой другие, которые мы не могли даже предположить.
Как-то, когда мы пришли с работы, после ужина, бригадир принес лоскуты белой бязи с написанными на них номерами и список бригады. Против фамилии каждого из нас стоял номер. Мы выходили из строя и получали под расписку четыре таких лоскута, становились в строй, недоуменно рассматривая эти номера.
– Все получили? – спросил бригадир.
– Все.
– А теперь смотрите, где и как их пришить.
И он показал нам телогрейку и ватные брюки, где были нашиты номера. Для этого нужно было на спине, на груди слева, на рукаве телогрейки и на штанине выше колена вырезать по размеру отверстие и вшить номер. Эту работу мы выполняли до отбоя, занимая друг у друга иголки, нитки. Бригадир торопил. На развод все должны были выйти уже занумерованными.
Итак, с этого дня я стал человеком СЛ-208. Стали гадать, что обозначали буквы «СЛ» – «спецлагерь»? Так у других были все буквы алфавита от «А» до «Я». Номер мог быть номером уголовного «дела». А, черт с ним, не все ли равно?
Утром вышли на развод. Кроме конвоя и надзирателей на разводе были начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, опер и еще кто-то. Придирчиво осматривали каждого. Пробовали, прочно ли вшит номер. Двоим из нашей бригады повезло – вернули в зону. Начальник режима без труда оторвал слабо пришитые номера. Довольно ухмылялись конвоиры, надзиратели. В присутствии начальства казалось, что даже собаки, окружавшие колонну, были злее обычного.
Ко всем заботам нашим прибавилась забота содержать в порядке номера, то есть чтобы они всегда были хорошо видны и различимы. Один раз в две недели бригадир приносил баночку с черной краской, и художник из КВЧ подновлял номера.
Мы уже без труда определяли придурков и вообще лагерную аристократию – по тому признаку, что номера на их одежде были чистыми, четко выделялись на бушлатах, а у работяг через месяц с трудом можно было различить вшитую тряпку с номером. Через какое-то время уже перестали сажать в БУР за нарушение формы одежды тех, кто работал в шахте, – сохранить номера чистыми после одной смены не было возможности.
После нашивания номеров мы ждали дальнейшего ужесточения режима, и это ожидание не замедлило подтвердиться. Внезапные ночные шмоны-обыски стали обычным явлением и участились. Если ты по забывчивости не откликнулся на вызов надзирателя, назвавшего твой номер, тогда надзиратель имел право в наручниках увести тебя на вахту и там выяснить, почему ты не отозвался на вызов. После такой профилактики номер запоминался на всю жизнь.
Теперь надзиратели ходили по зоне, поигрывая блестящими браслетами с цепочкой. Кто говорил, что эти наручники с трещоткой подарили американцы, а кто был в плену у немцев, уверял, что это немецкое изделие.
В бараках курить запрещали, но после того как барак закрывали на замок, в полумраке можно было там и сям видеть тлеющие огоньки цигарок. Барак наполнялся табачным дымом.
И в этот вечер так же надзиратель, погремев задвижкой и замком, закрыл дверь. Так же задымили цигарки. Как надзиратель оказался в бараке – никто не заметил. Зажегся свет.
– Кто курит?! – рявкнул надзиратель.
В таких случаях нужно не только не поднимать головы, но даже не шевелиться, замереть… спать.
Я, по всей видимости, только что задремал и при окрике надзирателя машинально поднял голову – спал я на верхней вагонке. И в тот же миг с меня сорвано одеяло, а сам я сдернут на пол.
– Пошли…
– Я не курил, у меня нет махорки, – стал я объяснять казаху-надзирателю.
– Сейчас узнаем, курил или нет.
В тамбуре барака между входной дверью с улицы и дверью, ведущей в барак, слева каморка для надзирателей. Две табуретки, стол, маленькое зарешеченное окошко.
– Руки на стол!
Я стоял в нижнем белье, руки за спиной, как и положено, когда тебя ведет надзиратель…
– Ты глухой?!
– Я не курил…
И в следующую секунду я получил оглушительный удар кулаком в левый висок. Очнулся сидящим на табуретке в наручниках. Ко мне пододвинули второй табурет, положили на него руки и нажали коленом на браслеты – сперва на один, потом на другой. Скоро я перестал чувствовать боль, из-под браслетов сочились капельки крови, и они почти уже скрылись в сине-багровой опухоли вокруг них.
Сколько продолжалась эта экзекуция, не помню, только вскрикнул от невыносимой боли, когда наручники снимали, – как будто бы вместе с ними отдирали от рук кожу.
Втолкнули в барак и закрыли дверь.
– Что, больно? – спросил меня дневальный, добрый чех Киричек Василий Васильевич. Длинный, сухощавый, как жердь, он чудом выжил, проработав в шахте всего три месяца. Попал в лазарет и после к нам в барак дневальным.
– На, смочи тряпку мочой и прикладывай – пройдет.
Только к утру забылся немного от потрясения и боли, как раздалась команда:
– Подъем!
Руки в запястьях не сгибались. С помощью моего дружка Володи Хоменко натянул робу и вышел на развод. Бригадир Лешка Лавриков, этот безжалостный садист и бандит, для которого ежедневный план шахты был важнее, чем смерть любого из нас, и то, посмотрев на руки, сказал:
– Выходи на работу и там в забое просидишь смену, а останешься в бараке, значит, будешь в БУРе отдыхать.
Так единственный раз за весь срок я, выйдя на работу, не работал. Ребята, скинув бушлаты, отдали их мне. Я их постелил под себя и, укрывшись, уснул. Постоянная температура в забое и зимой и летом – плюс четыре градуса при большой влажности не самое подходящее место для сна, но я уснул, согревшись под бушлатами, под грохот загружаемых вагонеток.
Закончилась смена. Предстояло еще одно страшное испытание – подняться на поверхность. Нужно было преодолеть проклятые лестницы. Лестницы в ходке поставлены почти вертикально, каждая из них крепилась к полку размером метр на метр с отверстием, чтобы можно было подняться к следующей лестнице, то есть каждый полок был основанием следующей лестницы. Сигнал о конце работы подавался из машинного отделения долгим звонком. Я знал, что мне, с опухшими руками и негнущимися пальцами, не преодолеть и двух лестниц.
Бригадир спросил меня, смогу ли я выйти на поверхность.
– Мне нужен минимум час, чтобы преодолеть все лестницы, – ответил я ему.
Время для съма мы научились определять без часов с точностью до пяти – восьми минут. И вот примерно за час до конца смены я начал подъем. Ребята напутствовали:
– Обнимай лестницу согнутыми у локтя руками, в лазу опирайся тоже локтями и на каждом полке отдыхай сидя.
Плохо помнил, как с помощью ребят, обливаясь потом, преодолел последние марши лестниц. Как во сне дошел до лагеря. Потом они мне рассказывали, что, поднимаясь, нашли меня на двадцатой лестнице, лежащим на полке, на какое-то время потерявшим сознание.
Так шел за годом год, без особых событий, если не считать прихода очередного этапа или этапа из лагеря, этапы доходяг в Спасск под Караганду. Этот лагерь у нас звали «всесоюзной инвалидкой». Из него этапов и переездов для тех, кто попал туда, уже не было…
1949–1951 годы. За это время дважды, почти полностью, сменились люди. Память сохранила всего несколько имен: Иван Цилярчук, Владимир Хоменко, Вл. Григолавичюс, бригадир Лешка Лавриков и два-три человека, фамилии которых время стерло из памяти; они, как и я, выжили каким-то чудом. Остальные – по конвейеру: лазарет, этап, Спасск – и там находили свое последнее пристанище. Силикоз – вещь серьезная: «от лат. silex… кремень – профессиональная болезнь, вызываемая длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния… что вызывает глубокие расстройства жизненных функций организма…» (БСЭ, 1956, т. 39, с. 30).
В один из дней, когда мы пришли на смену, бригадир велел мне остаться на поверхности.
– Пойдешь на верхнюю откатку. Работа нехитрая, но требует силы, и силы должно хватать от начала до конца смены.








