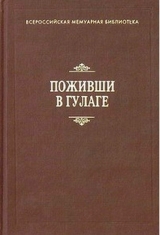
Текст книги "Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний"
Автор книги: Александр Буцковский
Соавторы: Н. Игнатов,А. Кропочкин,Николай Болдырев,Всеволод Горшков,Владимир Лазарев,Николай Копылов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Глава 11
Свободен!
Буквально через несколько дней на 5-й шахте мне выдали паспорт. Ура! Я свободен и поеду домой! Мне выдали деньги на билет до Мелитополя. Я сел в поезд один, без конвоя – впервые за долгие годы.
Жена в это время заканчивала театральный сезон. Что ожидало нас впереди, я не знал, но я был молод и полон оптимизма. Я остался в Мелитополе, так как родители тяжело болели. Работал худруком, режиссером, организовал вокально-инструментальное трио, которое прогремело на весь Союз. Был в Польше, дальше не пустили: был невыездной.
В Мелитополе за мной тоже следили и таскали по Особым отделам – они не могли иначе, наши органы безопасности.
Добавлю немного о своей жене. Она, конечно же, приехала ко мне после гастролей. Мы с моим папой встречали ее. И вот подходит поезд, в окне я вижу ее милое лицо, мы улыбаемся друг другу, и я верю: что бы ни ждало нас впереди – мы не расстанемся больше, мы дойдем до конца вдвоем, мы будем счастливы!
Я завершил краткое описание своих страданий, унижений, мучений. Итак, я побывал в десяти тюрьмах и двенадцати лагерях. Мне жаль жизни, которая, по сути дела, прошла зря.
Вечная память узникам ГУЛАГа, памятником которым служит только Соловецкий камень в Москве, и все!
В. В. Горшков
Мне подарили мою жизнь
Это был не самый страшный эпизод, когда председатель Военного трибунала города Москвы читал приговор, а у меня легкой дрожью тряслись колени.
– Учитывая несовершеннолетний возраст преступника…
Я слышал это как будто издалека, как-то приглушенно, вовсе не догадываясь, что это касается меня, сосредоточившись на том, чтобы вот они, эти трое из трибунала, и этот, слева, прокурор Дорон, только что требовавший для меня расстрела, не догадались, что мне страшно.
– Десять…
Это не роковое, это волшебное число. Дрожь в коленях прекратилась мгновенно, будто оборвалась. Мне подарили мою жизнь. Потом, на пути через семь лагерей и лагерных пунктов, смерть воспринималась более хладнокровно, вплоть до безразличия.
Давно минули те годы. Мне повезло, я остался жив. О том, что все кончилось безвозвратно, я понял 5 марта 1953 года. Но что-то осталось на всю жизнь, как послеоперационный рубец, как неправильно сросшаяся кость. Осталась неполноценность, та же, что вынуждает калеку чувствовать себя одиноким среди здоровых людей.
Глава 1
«Казенный дом»
Все началось с туза пик. Он упал острием вниз, будто укол в сердце.
– Удар!
Потом пошли «казенный дом», «казенные разговоры», «дальняя дорога». Ни мать, ни я всерьез не верили в гадания, которыми она чередовала раскладку пасьянсов в досужее время. Но какой-то тревожный осадок остался.
– В армию тебя возьмут, – заключила мать.
Если бы действительно.
Постучались ночью, часа в два. Я еще не спал, только что отложил книгу. «Не паспорта ли проверять?» – подумал я не без тревоги. Уже чуть не год, как мне исполнилось шестнадцать – возрастной ценз на получение документа, удостоверяющего личность.
Мать пошла отворять. Вошли четверо. Впереди офицер в шинели и в фуражке с голубым верхом. Спросил грубо:
– Фамилия? Имя? – И тут же: – Вставай, одевайся.
Уже знают, что у меня нет паспорта. Сколько раз собирался…
Офицер сунул мне маленькую желтоватую бумажку. Я прочел: «Ордер на обыск и арест». Короткая спазма перехватила горло. Я не удивился.
Рылись всю ночь. Я догадался, что они ищут, и радовался: еще совсем недавно приходил Родька Денисов и взял почитать журналы, как раз последние четыре номера.
Обыск закончился грабежом. Кроме моих рукописей и писем забрали коллекцию марок, старинные книги, фотоаппараты, бинокль – из чего не все, как выяснилось много лет спустя, оказалось занесенным в протокол.
Снег растаял. Накрапывал дождь. Под ногами было сыро и скользко. Один из сопровождавших уронил фотоаппарат. Я видел, как он покатился по льду, и мне стало жаль: не разбился ли? Я еще не понимал, что вся моя жизнь разбилась вдребезги.
Остаток ночи я провел на жестком диване в здании, соседнем с милицией. Не спалось. Страха не было. Думал, дня три продержат и выпустят. Потом таскали по кабинетам, снимали допросы, все по очереди: Ногтев, что руководил моим арестом, начальник городского отдела майор Лукьянов и еще кто-то, противный, с корявой рожей, что пришел последним на мой арест.
– Не догадываешься, за что арестовали?
– Нет.
Смотрели и говорили серьезно, будто поймали матерого. Но иногда мелькало недоумение: уж очень мелка оказалась рыбешка. Дали даже поесть щей с хлебом. Аппетита, как и сна, не было.
На следующее утро на меня надели тулуп и посадили в машину «эмка». Выехали рано, совсем темно. Снегу намело – не видать дороги. Рядом со мной на заднем сиденье оказалась Сутормина, знакомая женщина, кажется, буфетчица из приютившего меня заведения.
– Передайте маме, – тихо шепнул я ей, чтобы не слышал сидящий с шофером Лукьянов, – что меня отправили в Горький.
Конечно, просьба не была выполнена. Видимо, это считалось разглашением государственной тайны и строго каралось.
Где-то под Горьким слетели на повороте в задутый кювет, перевернулись. Невдалеке, распахивая снег, по полю шел танк. На дороге стоял второй. Около него толпился взвод солдат: занимались танкисты. По просьбе Лукьянова солдаты подошли, на руках вынесли нашу «эмку» на дорогу.
Замелькали домишки Мызы, бараки Ворошиловского поселка. Все заспанное, скучное, в снегу. Остановились у большого красивого здания на Воробьевке. Я и раньше знал про этот дом и про его репутацию. Но сейчас мое предубеждение к тем, кто в нем работал, теснило любопытство – было интересно заглянуть в логово наших опричников, тем более что я не рассчитывал злоупотреблять их гостеприимством.
Меня оставили в каком-то проходном кабинете, и казалось, что весь день на меня никто не обращал внимания и я никому не был нужен. Входили, выходили люди в форме, в штатском. Все были заняты своими делами, ни в ком я не вызывал любопытства. Только раз какой-то штатский, взяв из кучи доставленных со мной «трофеев» ящичный фотоаппарат, спросил:
– Что это, передатчик?
И уставился на меня долгим, но пустым, ничего не выражающим взглядом. Я ничего не ответил, а про себя подумал: «В госбезопасности, а дурак».
Нашелся кто-то сердобольный, догадавшийся во второй половине дня, видимо подобрев после обеда, что меня тоже не грех покормить. В соседнем кабинетике передо мной поставили тарелку с биточком и тушеной капустой. Так как с начала войны я не знал иных разносолов, кроме куска черного хлеба и крахмальной лепешки, то тут же отметил про себя, что на таких харчах здесь жить можно.
Короткий зимний день кончался, и я, не видя нигде дивана, уже начал беспокоиться, на чем буду спать, когда услышал, как кто-то сказал, видимо, в трубку:
– Заберите в тюрьму арестованного.
Я не сразу понял, о каком арестованном идет речь, но тут же подозрение пало на себя: «Зачем же? Я могу и в кабинете…»
Но пришли все-таки за мной. В конце длинного коридора вполне респектабельная, обитая черной клеенкой дверь. Рядом кнопка звонка. За черной дверью оказалась вторая, из толстых стальных прутьев. Крутая лестница уходила куда-то в преисподнюю, откуда потянуло холодом и тоской. Глубоко внизу, будто в трюме, скупо мерцал свет. Неужели туда?
Первое впечатление о тюрьме явно складывалось не в ее пользу. Я сообразил, что ночевать в ней мне придется, видимо, не одну ночь. Это опасение в дальнейшем с лихвой оправдалось.
В подвал мне не пришлось сойти. На площадке, делившей лестницу на два марша, оказалась обитая железом дверь с разными приспособлениями (как выяснилось в дальнейшем, с дверцей раздаточного окна, глазком с круглым щиточком для подглядывания за арестантом и огромным, больше пригодным для крепостных ворот, накладным замком).
Раздался ни на что не похожий, несоразмерный по своей мощи полумраку и узкой лестнице грохот. Это встретивший меня надзиратель отпер замок. Тяжелая дверь разомкнула мрачный зев. Надзиратель молча, легким кивком головы дал понять, что тюремная пасть распахнулась, чтобы поглотить меня.
Одиночная камера невелика, чуть больше метра в ширину. Прямо напротив двери простая железная койка, устланная потемневшими от времени досками – нестругаными, но отполированными до шелковистости в результате многолетнего ерзания на них арестантов. Рядом с койкой слева такая же замызганная тумбочка. Справа ржавый бачок ведер на пять-шесть с крышкой, приподняв которую я понял его назначение по острой клозетной вони, ударившей в нос. Между всей этой меблировкой – свободное пространство, можно ходить три шага туда, три – обратно. Над койкой большое окно с решеткой – надежной, как у клетки для хищника. Снаружи окно закрыто железным козырьком, раструбом уходящим вверх, благодаря чему можно видеть клочок свободного неба.
Несмотря на оказанное мне гостеприимство, эти двое суток я почти не спал и поэтому, едва ознакомившись с интерьером нового жилища, почувствовал, что пришло время выспаться. Как был в пальто и в шапке, я повалился на голые доски, по причине моих аскетических привычек посчитав это ложе вполне приемлемым. Но заснуть сразу не удалось, прежде всего из-за дикого холода в камере. Согнувшись, как говорят, в тридцать три погибели и стараясь еще согнуть себя в тридцать четвертую, дабы извлечь из своего тела лишнюю толику тепла, мысленно я проклинал устроителей предоставленного мне комфорта, крутясь, как принцесса на горошине.
Но возроптал я, оказывается, всуе. Не успел сон побороть холод, как снова взгрохотал замок, и я вновь убедился в гуманном ко мне отношении: у двери в камеру любезно были брошены тюфяк, какое-то подобие подушки и одеяло. Все это затасканное, мрачно-шинельного цвета, но без признаков каких-либо насекомых. Раскладывая постель, я понял, что в тюрьме все, что не во вред тебе, надо почитать за благо. Уже сквозь дрему я услышал звонок и, догадавшись, что это отбой, согревшись наконец, впервые уснул на тюремной койке.
И все-таки тюремный ночлег отличается от гостиничного некоторыми особенностями. Во-первых, в камере всю ночь горит неяркий, но без привычки надоедливый свет. Во-вторых, какое бы положение ты во сне ни занимал, нельзя закрывать голову и руки – надзиратель постоянно должен их видеть. Первое время это довольно ощутимое неудобство, особенно когда остриженная наголо голова очень чувствительно относится к собачьему холоду. Правда, все это ощущаешь лишь до тех пор, пока постоянные допросы не доведут до состояния, когда сможешь беспробудно спать даже перед театральными прожекторами и под залпами ста двадцати четырех орудий.
Дальнейшее знакомство с «казенным домом» происходило на следующее утро. Я не слышал звонка. Хлопнула дверца окошка, и надзиратель приветствовал:
– Подъем!
Тут же я узнал, что постель полагается скатывать, дабы не нежиться весь день на казенном тюфяке.
В тюрьме чувствовалось некоторое оживление. По всем этажам, стреляя, перекликались замки, угадывалось хождение, иногда долетали неясные слова надзирателей.
Загрохотал замок и моей камеры. Дверь отворилась.
– На оправку.
Я сделал шаг из камеры.
– Возьми…
Я не понял, что нужно взять. Мне показалось, что фуражку, и я удивился, почему мою теплую шапку назвали фуражкой.
– Вон, – надзиратель указал на бачок в углу, – парашу.
То ли у Чехова в рассказе «Сахалин», то ли у Достоевского я встречал это слово и понял наконец, что от меня требуется. Обняв обеими руками поганую посудину, неизвестно по какой ассоциации получившую женское имя, воспетое Пушкиным, я понес ее перед собой осторожно, как пасхальный кулич, стараясь сдерживать дыхание.
После завтрака, состоящего из суточного хлебного пайка и кружки несладкого чая, который я использовал только как грелку для рук и носа, у меня оказалось свободное время. Имея задатки интеллигентного человека, я решил почитать и развернул захваченную из дома газетку. Однако культурное времяпрепровождение оказалось нарушенным. Замигал «волчок» в двери, потом с грохотом (в этой тюрьме все было построено на звуковых эффектах) откинулась дверца окошка, и надзиратель ровно, невозмутимо изрек:
– Читать не разрешается, – и протянул руку за газетой.
Я не особо расстроился, так как имел в запасе другую газету, в чтение которой тут же и углубился. Но опять мигание «волчка», грохот дверцы окошка, то же монотонное «читать нельзя», и вторую газетку постигла та же участь. После этого мне пришлось сменить занятие. И стал насвистывать мелодию балакиревской польки. Результат оказался тот же:
– Свистеть не разрешается.
На некоторое время мной овладело чувство растерянности, я как бы оказался безоружным против ничегонеделания. Но замешательство было недолгим. Меня привлекли звуки радиомузыки, доносившиеся через окно. Подгоняемый любопытством и естественной потребностью к деятельности, долго не размышляя, я полез вверх по кованой оконной решетке – воспетой в веках святая святых всех нью-гетов и бастилий в надежде поверх козырька взглянуть на белый свет и установить источник бесовского наваждения, отвлекшего меня от тюремного смирения и покаяния. Мне уже удалось установить, что окно моей кельи выходит в сторону стадиона «Динамо», где был установлен веселый динамик, когда я снова услышал позади себя повелительно-поучающее:
– На окно лазить нельзя.
С большой неохотой я расставался с тюремной решеткой, за которой на какой-то миг снова увидел уголок жизни, еще недавно обыденной для меня и не столь уж привлекательной по причине военных условий, но которую теперь я воспринял как нечто потустороннее, волшебное, недосягаемое: вчерашняя явь преобразилась в сегодняшнюю мечту.
Следующий аттракцион моей индивидуально-развлекательной программы был подсказан суровым микроклиматом обживаемого мною пространства. Чтобы разогреться, я занялся физкультурными упражнениями, проводя их в ускоренном темпе. Особенно эффективными оказались приемы бокса. Но и тут я опять услышал противный скрежет железа и все тот же нудный голос:
– Заниматься физкультурой нельзя.
– А чем же можно? – наконец не выдержал я.
И тут вдруг почувствовал страх, страх из-за того, что ничего нельзя, ничего не надо делать. А в каком же состоянии находиться? Ведь ко всему сказанному не разрешалось еще спать после подъема или хотя бы лежать – это можно было только в специально отведенный мертвый час после обеда. Весь день полагалось пребывать в состоянии пассивного бодрствования.
Температура в камере понижалась. Потеплевший было с утра радиатор, загороженный тумбочкой и спинкой кровати, остывал. Холод вынудил меня действовать. Я отодвинул тумбочку и забрался в узкий колодец, образовавшийся между нею, стеной, кроватью и радиатором, прижавшись к последнему, дабы почувствовать его тепло, слабое, как дыхание умирающего. Я слышал, как нервно защелкал глазок в двери: раз, другой. Наконец знакомо прогромыхали запоры.
– Ты где? – услышал я беспокойный голос надзирателя.
– Здесь, греюсь.
– Вылазь. Нельзя. Надо, чтобы тебя видно было.
Пришлось вылезать, ставить на место тумбочку, и на этом мои выдумки иссякли.
Однако растерянность моя от избытка абсолютного отдыха длилась недолго. Я сообразил, что в моем арсенале большой запас умственных занятий и думать мне не запретят, хотя и прилагают к этому всесторонние усилия. Первой моей умственной гимнастикой была школьная игра в названия городов, из которых каждое последующее начинается с последней буквы предшествующего. Когда она надоела, я просто стал вспоминать города мира с названиями на каждую букву алфавита. К тому же скоротать время первого тюремного дня мне помогли и мои опекуны. Видимо, старший из них, узнав о моем таком крамольном занятии, как чтение газет, догадался, что его подчиненные допустили оплошность. Я даже услышал сквозь дверь:
– Разве его не обыскивали?
И меня вывели из камеры для учинения шмона – процедуры, как выяснилось, столь же необходимой, как прогулка с парашей. Тщательно ощупали меня самого, мои тряпки, вывернули все карманы, а заодно забрали у меня брючный ремень, выдернули шнурки из ботинок, обрезали все металлические пуговицы, пряжки. Особенно пострадали брюки. В камеру я возвращался обескураженный неразрешимой проблемой: как одновременно нести обеими руками парашу и держать штаны.
Конструирование брючной сбруи заняло у меня время, оставшееся до обеда.
Все под тот же грохот замков, что, как оказалось, являло собой отличительную черту только тюрьмы на Воробьевке и в дальнейшем вызывало сокращение сердечных мышц и ускоряло дыхание, получил я первый настоящий тюремный обед. В металлической миске мне подали горячее хлебово с запахом плохо обработанной требухи, состоящее из воды и нечищеного, крупно порезанного картофеля. Годы войны отучили меня от деликатесов, но это блюдо мне не понравилось. Я похлебал немного бульон с хлебом, который у меня еще оставался, и решил подождать, что дадут на второе. На биточки я уже не надеялся. Но оказалось, что надеяться вообще больше не на что. Второе блюдо – овсяную кашу – я получил только к вечеру, на ужин.
В последующие дни я был более осмотрителен: вылавливал куски картошки, чистил их от кожуры и поедал вместе с вонючим бульоном. Вскоре, когда запасы домашнего хлеба иссякли, а тюремную кислую, сырую, наполовину все с той же нечищеной картошкой пайку я, как волкодав медовую коврижку, зараз проглатывал утром, все предрассудки отпали. Как голодный татарин ест запретную свинину, а русский за отсутствием говядины удивляется, почему он конину не считал за мясо, так и я с удовольствием чавкал, поглощая незамысловатое блюдо тюремной кулинарии, припомнив школьную мудрость, что именно кожура корнеплодов особенно богата витаминами и необходимыми организму микроэлементами.
Глава 2
Следствие
Самое трудное в воспоминаниях о годах заключения – правдиво рассказать о начальном периоде, следствии, допросах.
Во-первых, почти через полстолетия невозможно вспомнить детально, как все происходило. А во-вторых, осталось чувство вины, что вел себя недостойно, малодушно, может быть, даже подло.
Что это было: страх, растерянность, безволие, низость натуры? Меня не били, не пытали, если не считать пыткой лишение сна. Возраст, неопытность? Нет, прежде всего трусость, боязнь даже неизвестно чего. До ареста я закалялся физически: приучал себя к холоду, к неудобствам. Обливался холодной водой, купался до глубокой осени, спал почти на голых досках, легко одевался в зимнее время, что в дальнейшем мне помогло. Но морально я себя не подготовил, что продолжает терзать мою совесть по сей день.
Кто-то, кажется, горьковский писатель Кочин, сидевший какое-то время со мной в одной камере, сказал мне:
– Бесполезно сопротивляться, все равно будешь осужден.
Я рано понял это.
Далеко не сразу усвоил я технологию допросов. Как правило, после отбоя, едва я успевал сомкнуть глаза, гремел, вызывая содрогание, замок моей камеры. Входил надзиратель, толкал в плечо:
– На допрос! – и выходил, давая время одеться.
В сопровождении уже другого охранника я шел по лестнице, по коридору, согласно тюремному ритуалу держа руки сомкнутыми за спиной. Кабинет моего следователя, капитана Евдокимова, находился на первом этаже, прогулка до него была непродолжительной, но впечатляющей. Неяркое освещение, какая-то особенная, настораживающая тишина, как будто даже стены смотрят, простреливая тебя насквозь.
Евдокимову лет тридцать пять. Он высокий, стройный. Ни облик, ни выражение лица не выдавали в нем ничего зверского, патологического, что неудивительно было бы для человека его профессии. На нем была еще старая форма – френч с широким отложным воротником со шпалой в петлице. Кабинет его небольшой, в одно окно, зашторенное белой занавеской, спиной к которому он и сидит за просторным письменным столом с телефоном. Поодаль перед столом одиноко стоит стул. Это для меня.
То поглядывая на меня, то раскладывая бумагу на столе, Евдокимов, видимо, изучал очередного клиента, и, как я заметил, не без некоторого удивления: уж очень щупленький сидел перед ним враг народа, одним ударом можно дух выпустить.
Первый допрос начался обычно:
– Фамилия, имя, отчество?
Все заносится на бумагу. Потом как-то сразу, хлопком:
– Ну, рассказывай о своей антисоветской деятельности.
Таращу на следователя глаза и, наверное, как поначалу все в моем положении, отвечаю:
– Я антисоветской деятельностью не занимался.
Хотя, как, вероятно, далеко не все, сидевшие на этом стуле, я прекрасно понимал, по какой причине нахожусь здесь и о чем пойдет речь.
Позднее, в лагерях, неоднократно приходилось слышать такое:
– Пятьдесят восьмая? Болтун. За анекдот, что ли, попал?
Семь, а то и все десять лет давали за рассказанный «антисоветский» анекдот. А встречались случаи и сами по себе анекдотические. Так, на 3-м ОЛПе Чистюньлага, по словам моего товарища, глухонемой старик сидел… «за связь с Гитлером». Слыша подобное, я сам себе казался государственным преступником.
А началось все так. Еще в 1941 году мой друг и сосед Вовка Виноградов принес рукописный журнал «Дружба», красочно и умело оформленный, начиненный стихотворениями и эпиграммами. Его выпускали Вовкины одноклассники, которые были старше меня на два года. Предвидя скорую разлуку со школой, они хотели передать журнал тому, кто младше по возрасту.
– Продолжать будем? – предложил Вовка.
Я не согласился:
– Лучше свой придумать.
И стали выпускать свой журнал – «Налим».
Потом, на следствии, Евдокимов спрашивал меня:
– Почему журналу дали такое название? Скользкий, не попадется?
Все было проще. Журнал предполагалось сделать юмористическим: мы увлекались рассказами Зощенко. А в кинотеатре тогда только что прошел фильм – экранизация рассказов Чехова (в том числе рассказа «Налим»). По какой-то ассоциации мне и показалось, что такое название подходит нашему журналу.
Три первых номера «Налима» соответствовали задуманному направлению, но с четвертого, когда Виноградов был уже в армии, а мне удалось довести актив журнала до восьми – десяти человек (школьников старших классов), тон его резко изменился. Это отразилось даже на внешнем оформлении журнала. Вместо красивых виньеток на его обложке появился черный силуэт Некрасова и эпиграф: «Мало слез, да горя реченька, горя реченька бездонная». Позднее предполагалось добавить еще силуэты Радищева и Герцена. Соответственно изменилось и содержание публикаций.
В последнем, седьмом номере, оставшемся незаконченным, была помещена моя поэма с предлинным названием: «Разговор на одной из московских улиц вечером 23 августа 1943 года». Хотя поэма занимала одиннадцать страниц, я написал ее за один день, начав в 7 утра 24 августа и закончив уже при электрическом освещении. Содержание ее связано с произведенным накануне в Москве салютом в честь освобождения от немецких захватчиков города Харькова, но смысл сводился к осуждению бездарного руководства нашей армии, что было очевидно уже в самом начале военных действий и явилось следствием отсутствия в нашей стране демократии, свободы слова и печати. Даже некоторых выдержек из нее, выявленных военной цензурой в моих письмах, оказалось достаточно, чтобы испортить жизнь мне и двум моим товарищам.
Я понимал, как опасна наша затея, но считал сам и убеждал в этом других авторов журнала, что, пока мы несовершеннолетние, нам бояться нечего, в крайнем случае отделаемся испугом.
Я ошибся.
– Так как же, – спрашивал Евдокимов, – будем рассказывать о своей деятельности против советской власти?
А как можно рассказывать о том, чего не было и нет? Воспитанный при советской власти, я считал, да и сейчас не отвергаю, что власть советская – власть справедливая. Но это не значит, что отдельные личности, забравшие ее, а не получившие по доверию народа в свои руки, должны быть безоговорочно поддерживаемы и тем более что их действия нельзя подвергать обсуждению. Свобода слова, свобода печати – вот гарант сохранения справедливости.
– Я не против советской власти, – отвечал я своему следователю совершенно откровенно, – но я не одобряю деятельность отдельных ее представителей.
– Но ведь эти представители и есть советская власть, – возражает Евдокимов.
Получался замкнутый круг: человек, стоящий у власти, – это и есть сама законная власть, и осуждение этого человека есть недовольство существующим политическим строем, что является государственным преступлением. Также и свобода слова. Ее никого не лишают, но только если ты ее не используешь во вред советской власти. Если ты делаешь замечание, с чем-то не согласен – значит, ты агитируешь против советской, народной власти, значит, ты преступник, враг народа.
Вот в таком примерно духе проходили разговоры с Евдокимовым, из которых следовало, что я ни о чем не должен был рассуждать, потому что даже самые лучшие мои устремления, пожелания – это уже недозволенная критика в адрес идеальной власти, то есть антисоветская агитация. Исходя из такого постулата, оставалось только признать, что все, что я говорил, писал, даже думал, является преступлением. Но оказалось, что мало признать себя преступником, надо еще раскрыть сообщников, и не только школьных товарищей, – главное, назвать взрослых, которые, предполагалось, нами руководили. И вот тут было самое сложное. Если бы даже меня медленно убивали, я не смог бы назвать ни одного взрослого: их не было.
Допросы ужесточались. После отбоя, едва только я успевал юркнуть в ледяную постель и немного согреть ее своим телом, гремел замок. И снова:
– На допрос!
С допроса я возвращался утром и быстро шмыгал в постель, чтобы хоть немного поспать. Но это не удавалось. Как только я смыкал глаза, звонок за дверью оповещал подъем. Скатав постель и съев дневную пайку сырого соленого хлеба, я садился на голые доски, ежась от холода, не в силах разжать смыкающиеся веки. Но прилечь не разрешалось. Клюя носом, я ждал обеда, нет, не обеда, а часа после него, в который я имел право поспать. Но перед самым обедом слышалось:
– На допрос!
И я снова сидел перед Евдокимовым. Как всегда, он неторопливо доставал лист желтоватой линованной бумаги, брал ручку и…
– Так кто же тебе помогал в антисоветской деятельности?
В камеру я возвращался в сумерки. На тумбочке стояла холодная, как студень из погреба, баланда из картошки с кожурой. Бессознательно съедал ее и, одурев от бессонницы, ждал отбоя. Голова бессильно падала; видимо чувствуя, что свалюсь, я успевал в последний момент очнуться. Спать, спать… И наконец, этот желанный вечерний звонок. Я торопливо раскатываю тюфяк, раздевшись в жутком холоде, ныряю под одеяло. Спать!
Но не тут-то было. Через мгновенно одолевший меня сон слышу:
– На допрос!
И опять я на стуле перед своим капитаном, гляжу на него и удивляюсь, его жалеючи: как же он выдерживает?
А он ничего, достает из пакета копченую воблу, чистит ее, жует-смакует, не глядя на меня, как будто меня и нет. Тепло. Яркое освещение. Запах копченой рыбы выгоняет у меня слюну. Я стараюсь тайком сглатывать ее. С каждым глотком распяливаю сжимающиеся веки – глаза ест, до того хочется спать.
Евдокимов подсовывает лист бумаги:
– Проверь, распишись на каждой странице.
Проверить? Да разве это возможно? Да и что это даст? Не читая, я подписываю страницы, лишь бы поскорее вырваться в камеру, поспать.
Но все, видимо, рассчитано, все повторяется. Только в следующую ночь Евдокимов не ест воблу, а звонит по телефону. По тону его голоса, по подобию улыбки на лице угадываю, что он говорит с женщиной, с подружкой, как я думаю, работающей где-то тут, рядом, в доме на Воробьевке. Наверно, это любовь. Я прислушиваюсь к разговору и недоумеваю: «Разве они могут любить?»
Теперь на моем следователе новая форма. Вместо френча – ящеро-зеленая грубошерстная гимнастерка со стоячим воротником и ядовито-желтыми погонами. Он чувствует себя еще неловко в новом облачении, но доволен, любуется собой.
Вскоре моя жизнь несколько разнообразилась: меня перевели в другую камеру, на самое дно тюрьмы. Камера большая, на две койки. Я ходил по ней, как по зале. И что удивительно: кроме параши в ней оказалась швабра. Для камеры с температурой зимнего погреба это обстоятельство было находкой. Я быстро сообразил, что если физкультурой заниматься нельзя, то пол драить воспрепятствовать не могут. И большую часть свободного от допросов времени я гарцевал по камере со шваброй в руках, не столько беспокоясь о блеске пола, сколько выделывая всевозможные па, способствующие поднятию температуры тела. Конечно, и тут нужно было соразмерять продолжительность и резвость плясок со шваброй и калорийность тюремного пайка.
Ежедневно мне предлагалась двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе. От такого променажа я никогда не отказывался. Прогулочный дворик небольшой, кругом глухие кирпичные стены, но зато над головой настоящее зимнее небо, с которого падали настоящие снежинки, и под ногами приятно хрустело в такт моим неторопливым шагам. Иногда через стены доносилась музыка (видимо, с расположенного рядом катка стадиона «Динамо»), напоминавшая о совершенно иной, как будто инопланетной жизни, от которой меня оторвали так давно, что я уже забыл, какая она.
Однажды, вернувшись с допроса, я обнаружил, что население камеры удвоилось. Это был мужчина много старше меня, заморенного вида, молчаливый, с диковатым или растерянным выражением глаз. Я только и узнал от него, что он солдат. Да и пробыли мы с ним вместе всего один вечер. Ночью меня вызвали на свидание с Евдокимовым, а на следующий день я оказался снова в другой камере.
На этот раз мне повезло. Камера, теперь на третьем этаже, оказалась теплой, по сравнению с предыдущими какой-то уютной и даже жилой. В ней мне предстал паренек, еще на два года моложе меня, по имени Колька – из соседнего с нашим Вачского района.
– За что ты попал? – спросил я его.
– Немецкие листовки расклеивал.
– Ну и дурак, – тут же я ему выпалил.
Хотя при обыске у меня самого была изъята немецкая листовка, одна из тех, что немцы сбрасывали над территорией оборонных работ, я ее никому не показывал и берег для послевоенного времени как исторический экспонат. Колька же поступил совсем глупо, и я его поступок не одобрил.
– А здесь, в тюрьме, Кочин находится, – сказал он мне, – писатель.
О Кочине я почти ничего не знал. Была у меня, правда, его книга «Кулибин» из серии «Жизнь замечательных людей», но я ее так и не прочел. Откуда Колька узнал про Кочина, я не спросил. Как и с солдатом, мы пробыли вместе всего один день или два, и как в дальнейшем сложилась его судьба, мне неизвестно.
На этот раз меня перевели в соседнюю камеру, я бы сказал, в еще более «комфортабельную». Такое же, с решеткой и козырьком, окно против двери. По сторонам две железные койки со скатанными в валики постельными принадлежностями, обнажившими засаленные тусклые доски. Перед окном небольшой стол с кружкой на нем. От двери до стола свободное место длиной шага в четыре и шириной, достаточной, чтобы впритирку разойтись двоим. И в этом «коридоре» стоял человек. Невысокий, как и положено арестанту, остриженный наголо, в серых брюках и расстегнутой зеленоватой куртке-ковбойке. Лицо его, правильной овальной формы, с несколько грубоватыми чертами, с пробивающейся рыжеватой щетиной бороды, показалось мне далеко не интеллигентным, каким-то деревенским.








