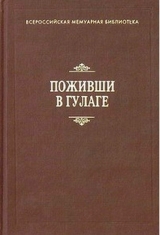
Текст книги "Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний"
Автор книги: Александр Буцковский
Соавторы: Н. Игнатов,А. Кропочкин,Николай Болдырев,Всеволод Горшков,Владимир Лазарев,Николай Копылов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
– Кочин, – назвал он себя.
Но я как-то не сразу, с заметной паузой сообразил, что передо мной известный горьковский писатель. Николай Иванович говорил очень тихо, о себе почти не рассказывал, был осторожен в движениях, часто задумчив, периодически довольно плотно, до глубоких морщин на переносице, сжимал веки. Как я понял, это у него выходило непроизвольно – он страдал тиком. Не знаю, была ли это его природная особенность, или последствие шока, вызванного арестом, или результат переживаний в связи с предстоящим со дня на день судом. Следствие над ним и его товарищами – писателем Патреевым, несколькими сотрудниками горьковского издательства и кем-то еще – было закончено, все они признали себя врагами народа, занимавшимися, как гласила 58-я статья Уголовного кодекса, «антисоветской агитацией, изготовлением и хранением антисоветской литературы». Финал судилища по тем временам был непредсказуем.
Николаю Ивановичу исполнился сорок один год, но, несмотря на разницу лет более чем вдвое, между нами сразу установились дружественные отношения: тюрьма, как и дорога, сближает людей.
Он живо поинтересовался, кто я, откуда, за что попал на Воробьевку. Узнав, что я десятиклассник из Павлова, он с явным удовольствием вспомнил:
– Хороший городишко. Мне пришлось учительствовать там. Потом, помолчав, сожалея, видимо, о несбывшемся, добавил:
– Думал я книгу написать о Павлове, о павловских учителях.
– И, как бы встряхнувшись, снова обратился ко мне с вопросом:
– Ну, а ты-то, школьник, как попал сюда, чего наболтал?
– Да я не болтал, – ответил я ему, – я тоже писал. На лице его отразилось явное удивление. Он продолжал настойчиво расспрашивать, и я рассказал ему про журнал «Налим»: как он возник, как позднее вокруг него организовался кружок из старшеклассников, как от сочинительства безобидных юмористических рассказов мы перешли к пониманию, что в нашей стране царят произвол и беззаконие, и выдвинули своей задачей борьбу за подлинную свободу слова и печати.
Обхватив пятерней колючий подбородок, Николай Иванович надолго задумался, видимо оценивая весомость сказанных мною слов, и наконец спросил:
– Так как же вас замели, предал кто-то? Я был далек от этой мысли:
– Нет, сам виноват. Надеялся, что в нашем возрасте нам ничего не будет.
– А «Налимы» ваши забрали?
– Нет, – обрадовался я, – журналы у Родьки Денисова, товарища по школе. Он постарше меня, заходил незадолго до обыска, взял почитать. У него и остались.
Как-то вечером, после отбоя, когда мы раскатали по своим койкам грязные тюфяки, Николай Иванович попросил:
– Почитай что-нибудь из помещенного в вашем журнале. Мне было очень неловко читать настоящему писателю свои вирши, несовершенство которых я сознавал, но, уступив его просьбе, я расхрабрился и полушепотом, чтобы не слышал за дверью надзиратель, начал читать свою поэму. Николай Иванович слушал очень внимательно и, вопреки моим ожиданиям, вполне серьезно, а в отдельных местах улыбался и даже посмеивался, как мне показалось, вполне одобрительно.
Тюремная жизнь между тем шла своим чередом. Иногда во время допросов заходил начальник отдела. Он махал кулаками перед моим лицом и кричал:
– Умрешь, а отсюда не выйдешь.
И я верил ему. А Евдокимов время от времени заводил со мной задушевные разговоры.
– Вот видишь, – говорил он, – твои товарищи на свободе, учатся, работают, кое-кто уже в армии, Родину защищает. А ты вообразил из себя деятеля и, ничего не понимая, пошел против советской власти. Теперь испортил себе жизнь, а ведь мог быть порядочным человеком.
Трудно мне было разобраться, где тут искренность, где лицемерие, тем более что меня обвиняли в том, чего я вовсе не замышлял: мои патриотические чувства кощунственно извращались. Все так же одуревший от бессонницы, возвращался я ежедневно в камеру к холодной баланде. Невозможно охарактеризовать состояние человека после беспрерывного многосуточного бодрствования – в богатейшем русском языке нет подходящего слова.
Вот тут и спасал меня Николай Иванович. В дневное время он садился на мою койку со стороны двери, читая нарочно высоко поднятую книгу, я же, положив руки на колени, чтобы их видел надзиратель, прятался за ним, склонялся на скатанную постель и в момент засыпал. И хотя урывки такого сна измерялись считанными минутами, они помогали мне восстанавливать силы.
Однажды с допроса я пришел обескураженный – случайно следователь сделал это или преднамеренно, но я заметил, что на столе у него из-под бумаг торчит уголок обложки последнего номера журнала «Налим». Я рассказал об этом Кочину:
– Неужели Родьку тоже арестовали?
Но Николай Иванович вместо сочувствия рассмеялся, как никогда. Я недоумевал.
– Да этот Родька тебя и продал, – продолжая смеяться, высказал Николай Иванович свою догадку.
– Родька? Не может быть. Это такой человек, такой…
Я не мог сразу подобрать возвышенные слова для характеристики товарища.
– Мерзавец твой Родька, стукач.
Не верилось, но впоследствии, как ни больно, мне пришлось это признать. По совету Николая Ивановича на допросах я нарочно ссылался на разговоры с Родионом, на его положительный отзыв о нашем журнале, что действительно имело место, но имя его ни разу не было занесено в протоколы.
В тюрьме, как в тучах, бывают просветы. Одним из таких светлых пятен и осталась у меня в памяти встреча с Николаем Ивановичем, особенно наши игры в шахматы. Не помню, откуда взялись в нашей камере шахматы. После горьковской внутренней пришлось мне побывать еще в четырех тюрьмах, но нигде я не видел никаких настольных игр. Вероятнее всего, они принадлежали лично Николаю Ивановичу. Он очень любил эту игру и был шахматистом-перворазрядником.
– Поиграем? – предложил он мне как-то в подходящий момент.
Мы расставили фигуры. А когда начали играть, он все подшучивал надо мной:
– Ай да Севка, ай да ну!
Каково же было его лицо, изумленное, даже, кажется, сконфуженное, когда я торжественно объявил:
– Мат!
Сыграли вторую партию – результат оказался тот же. И на этом мои победы закончились, больше я не выигрывал, даже когда Николай Иванович давал мне фору, снимая с доски предварительно слона или ладью. Даже обещанный мне приз не помогал.
Перед Новым годом мне исполнилось семнадцать лет. Николай Иванович получил небольшую передачу и поднес мне в день рождения порядочный ломоть белого хлеба. С 41-го года я и ржаной-то хлеб ел, как пряник, а тут вдруг белый. Ах, какой это был вкусный хлеб! Он напоминал мне пасхальный кулич. В нашей семье не было верующих, никто никогда не молился, не ходил в церковь даже в то время, когда храмы в нашем городе еще не были разрушены местными варварами. Но по оставшейся с дореволюционной поры традиции в праздник Воскресения Христова у нас красили яйца, пекли куличи, прессовали в деревянных формах творожные пасхи. Мы, дети, да и взрослые, наверное, любили всем этим угощаться. На куличи не жалели сдобы, они были щедро нашпигованы изюмом, политы взбитым яичным белком да еще украшены каким-то сладким разноцветным бисером. Вот таким куличом показался мне и хлеб, которым угостил меня Николай Иванович. И Николай Иванович предложил мне партию в шахматы, а в качестве приза – такой же кусок хлеба. Я очень старался, но так больше ни разу и не выиграл. Мой партнер оказался действительно сильным шахматистом, а я, вероятно, не столько думал о шахматных комбинациях, сколько о сказочно вкусном призе. Поэтому мне оставалось довольствоваться только пайкой тюремного хлеба – сырого, тяжелого, с кристаллами соли и кусками нечищеной, как в баланде, картошки. Но и эту дневную пайку я проглатывал утром зараз, как собака котлетку.
В середине января Николая Ивановича вызвали для ознакомления с «делом» и подписания 206-й статьи об окончании следствия. Вернулся он молчаливый, понурый и все последующие дни молча ходил взад-вперед по камере, по арестантской привычке заложив руки за спину, крепче прежнего сжимая переносицу во время приступов тика. Но вот он стал собираться на суд. Даже в замедленных его движениях и по тому, как он избегал смотреть в мою сторону, чувствовалось, как он нервничает. Да и странно было бы видеть равнодушным человека, идущего на казнь. Мы простились с ним несухо, но без излишних эмоций – ему было уже не до меня.
Но странно: к вечеру того же дня Николая Ивановича снова привели в камеру; как правило, осужденные не возвращались во внутреннюю тюрьму. В нем чувствовалась растерянность, подавленность. На мой молчаливый вопрос ответил по-прежнему слабым голосом, с расстановкой:
– Десять лет и пять лет поражения в правах. С конфискацией имущества. Помолчал и, как бы передохнув, добавил: – Библиотеку жалко. Шесть тысяч томов.
Он очень тяжело перенес приговор, видимо до суда в душе надеясь на чудо.
Через день мы простились окончательно.
– В Буреполом или в Сухобезводный, – мрачно предположил Николай Иванович.
«Названия-то какие страшные», – подумалось мне. Тогда я еще не знал, что по всей нашей стране рассыпана масса лагерей куда страшнее.
Вскоре тюрьму на Воробьевке покинул и я. Но перед этим пришлось выдержать еще одно испытание.
– К генералу пойдешь, – сказал Евдокимов, усмехнувшись, будто говоря: «Видишь, какой чести удостоился».
А мне уже все равно – к генералу, так к генералу. Видно было, что мой следователь волнуется больше меня.
И вот после кратковременного ожидания в приемной я в сопровождении Евдокимова вхожу в кабинет комиссара госбезопасности по Горьковской области. Кабинет огромный, светлый. Полированные панели, ковры, бронзовые часы под стеклянным колпаком. Где-то в глубине за огромным, под цвет стен, столом со множеством телефонных аппаратов я едва разглядел сначала поблескивающие золотом погоны, потом тоже поблескивающую лысину генерала.
Евдокимов смиренно, сложив ручки на коленях, присел на стул в простенке, видимо трепеща, как школьник перед экзаменом. Для меня одиноко стоял стул чуть ли не посередине кабинета, метрах в четырех от высокого начальника. Я чувствовал себя совершенно спокойно, с любопытством разглядывал не виданное мною доселе убранство помещения и сидящего передо мной за столом пожилого генерала-еврея с суровым, нахмуренным лицом.
Начался допрос. К сожалению, я не запомнил ни одного заданного мне генералом вопроса. Помню только, что вопросы ставились так каверзно, что любой мой ответ мог быть истолкован не в мою пользу. Я сначала пытался выкручиваться, вызвав тем самым недовольство «его превосходительства», но вскоре, догадавшись, что для меня лучше вообще ничего не отвечать, я замолчал. Генерал задает вопрос, а я молчу, глядя на него. Наконец он уставился на меня устрашающим взглядом, думая, видимо, сломить меня психологически. Меня же вдруг охватило какое-то упрямство, и я стал не мигая смотреть в глаза генералу. Пауза затягивалась. Мы молчали и упорно смотрели друг на друга.
«Пусть лопнут мои глаза, – внушал я себе, – но не моргну».
И я удержался. Глазам уже стало больно, когда генерал вдруг не выдержал, стукнул кулаком по столу:
– Уведите его!
Я торжествовал победу.
Глава 3
Первый этап
Неизвестность гнетет человека, потому что порождает в нем страх, как темнота у ребенка. Это не слабость, не порок, это нормальная реакция самосохранения. К тому же человек привыкает к своему положению, каким бы тяжелым оно ни было. Даже тюремная камера со временем вызывает в заключенном ощущение стабильности и покоя. Поэтому этап, как смена установившегося порядка на нечто неизвестное, всегда вселяет тревогу, граничащую с ужасом.
Я шел по городу Горькому, испытывая одновременно несовместимые чувства. После полутора месяцев ежедневных двадцатиминутных прогулок в глухом тюремном дворике я вдруг иду по улицам, с восторгом смотрю на дома, сугробы, трамваи, на свободных людей. В то же время меня отделяет от всего этого невидимая стена, как будто я взираю на расстилающийся передо мной город со стороны, из какого-то другого мира. Я вижу все перед собой, и в то же время меня здесь нет, я не могу участвовать в этой жизни, как душа умершего.
Позади следует солдат с перекинутой через плечо винтовкой, и поэтому я иду не сам – меня ведут. Нет, это не с мамой за руку, не школьными парами и даже не строем под команду «ать-два, левой!».
Блеклое небо теряет снежинки. Они снуют, отыскивая землю, кружатся в веселом хороводе перед своей кончиной при встрече с ней. Все движется навстречу своей гибели. Когда с горы мы спустились к мосту через Оку, снег повалил вовсю. Он занавесом стремительно опускался за перила моста, скрывая и Стрелку, и Канавино. Все вокруг побелело, освежилось, и только рельсы трамвайных путей упрямо прорезались на снегу, поблескивая, как лезвия ножей. Пешеходов и на улицах встречалось мало, на мосту же их не было вовсе, и это избавило меня от гнетущего сознания, что на меня смотрят, как на пойманного вора. Мало-помалу я стал успокаиваться, да к тому же мелькнула отрадная догадка: не в Москву ли меня хотят отправить? До этого я не видел нашу столицу, и перспектива побывать в ней даже на положении арестанта как-то воодушевляла.
Мое предположение укрепилось, когда мы какими-то задворками добрались до путей Московского вокзала. Где-то на отшибе нашли грязно-зеленый столыпинский вагон. Весь его унылый вид, решетки на окнах и какая-то нездоровая, зловещая тишина вернули мне придавленное тюремное настроение.
Столыпинский вагон напоминает зверинец. С одной стороны, где окна, узкий коридор. Проволочной сеткой отделены от него темные купе-вольеры, в которых не столько просматриваются, сколько угадываются люди.
Меня втолкнули в одну из этих клеток. В полумраке я не сразу различил отдельных людей, вступив в человеческую массу настолько плотную, что, кажется, некуда было втиснуть ногу, не только поместить себя самого. В помещеньице, в стесненных дорожных условиях предназначенном для четверых, оказалось напичкано более двадцати человек. Трудно было понять, на чем и в каких позах они сидели, лежали, висели. Я почувствовал себя виноватым, что отнимаю у них последнее жизненное пространство, и ожидал, что вот-вот на меня обрушится в какой-либо дикой форме их недовольство, но вдруг почувствовал совершенно неожиданное облегчение, когда, помимо моей воли, с помощью чьих-то доброжелательно поддерживающих меня рук я не только сделал шаг не поймешь во что и куда, но и оказался сидящим на вагонном диване среди каким-то чудом раздвинувшихся в такой тесноте мужских тел. Я сразу понял, что так принять меня могли только люди, перенесшие что-то сверх возможного.
Когда мои глаза освоились с полумраком, я увидел, что меня окружают военные, причем форма у всех разная. Тут и зеленые немецкие кители, и желтоватые мадьярские френчи с емкими накладными карманами, и даже итальянские шинели с пелеринами.
– Кто вы? – спросил я, ничего не понимая.
– Военнопленные.
А говорят все по-русски чисто. Когда это они успели выучиться?
Я не сразу понял из их объяснения, что они советские солдаты, попавшие в плен к немцам, потом освобожденные нашими войсками и теперь как бы наши у наших в плену. Куда их везут, они тоже не знали. Знали только, что сначала их везли с запада на восток, теперь – с востока на запад. Одни надеялись, что их вернут в действующую армию, другие настроены были более пессимистично, считая, что попадут под трибунал, где дадут еще больший срок, если не случится чего похуже.
Трое суток я пробыл в вагоне с военнопленными. Только на второй день им раздали хлеб и селедку. Я не получил ничего. Тут я догадался, почему незадолго перед отправкой из тюрьмы мне дали вторую пайку. Я удивился и, обрадовавшись, тут же ее съел, а это, как оказалось, был сухой паек на дорогу. Кто-то из солдат отломил мне от своей горбушки, и кусочек селедки дали. Это оказалось вс за трое суток. После селедки пленные просили пить, выпустить в туалет. Конвоиры, не то татары, не то калмыки, не обращали на просьбы внимания – видимо, выпускать по нужде не было команды начальства. И только когда весь вагон начали сотрясать крики и ругань, разнесли в ведре воду, потом стали по одному, по двое выпускать.
Состав все стоял. Где-то к концу второго дня нашу клетку потеснили еще. Это был человек лет сорока, небольшого роста, худощавый, чернобровый, одетый в белый, почти новый офицерский полушубок и офицерскую же шапку-ушанку.
– Козин Вадим, – назвал он себя. – Полковник.
Кто знает, был ли он на самом деле полковником, но чувствовалась в нем какая-то разухабистость, независимость бывалого фронтовика. Он не унывал.
– Я с вами недолго. В Дзержинск меня, на суд. А там в штрафную толкнут.
Что натворил, он не рассказывал. Но своей живостью, непринужденной болтовней, взглядом на происходящее как бы со стороны, словно это и не касается его совершенно, ободрил он всех нас, как будто веру вселил, что тюрьма, столыпинский вагон с его решетками – все это потустороннее, временное, несущественное. Человек живет для цели, ему неизвестной и определенной свыше.
За свое короткое пребывание с нами Козин сумел отвлечь убитых горем людей от тягостных мыслей, внушил, что не все потеряно и что после плохого обязательно последует хорошее. Надеждой на это хорошее будущее и надо держаться, надо жить. В нашей клетке он для всех стал своим и даже нужным человеком. Несмотря на разницу лет, со мной он особенно почему-то подружился, и, когда поздним вечером, невидимого, его уже выводили из нашего вагона, откуда-то с площадки он крикнул мне на прощанье:
– Всеволод, молись Богу, и все в порядке будет.
Больше я его не встречал, а запомнил на всю жизнь. Почему? Наверное, потому, что он, ни на что не претендуя, просто любил людей. Искреннее чувство доходчиво и трогательно.
Глава 4
Знакомство с Бутырской тюрьмой
Когда я спрыгивал с кузова «воронка», ноги мои подкосились, и я упал. Видимо, подобные случаи не были в новинку встретившим нас охранникам. Двое из них привычно подхватили меня под руки и повели. Я только мельком успел разглядеть глубокий, как шахта, небольшой двор, окруженный желто-зелеными, цвета скорпиона, многооконными стенами в семь-восемь этажей. Меня провели в чисто побеленный, хорошо освещенный подвал и, поводив немного по коридору, поместили в одиночную камеру. Сводчатый потолок, бетонный пол, без окон, но бело от слишком яркого освещения, маленькая вентиляционная решетка и очень тепло, даже жарко. Я повалился на койку и, осмотревшись, почему-то подумал: «Здесь удобно расстреливать».
Видимо, эта мысль пришла мне в голову в связи с абсолютной тишиной, окружившей меня. Если никакие звуки не доходят сюда, то ни крики, ни выстрелы не будут слышны отсюда. В тишине, тепле я крепко уснул и спал совершенно спокойно.
А на другой день меня опять куда-то повезли в «воронке». По прибытии на место я увидел необычное здание. Окруженное каменной, довольно высокой сизо-черной стеной, мрачное, огромное, с круглыми башнями по углам, оно походило на старинную крепость. Резким контрастом выделялась входная дверь. Колоссальных размеров, как большие ворота, с полуциркульным верхом, резная, из дерева какой-то ценной породы, отполированная, она больше походила на изделие прикладного искусства, чем на врата тюремного ада.
Вестибюль поразил меня еще больше – и пространственными размерами, и узорчатой облицовкой стен и полов метлахской плиткой, и фармацевтической чистотой. Я даже был доволен, что попал сюда и увидел такое. Иногда задаю себе вопрос, что бы я испытал, увидев перед глазами художественно гравированный нож гильотины: страх или восхищение? Может быть, и праща в руке Давида привлекательна, а не страшна.
– В бокс!
Я очнулся от этих слов, почему-то догадавшись, что они относятся ко мне. И не ошибся. После поверхностного шмона – здесь же, в вестибюле, – передо мной открыли узкую дверь, и я очутился снова в клетке размером не более как метр на метр, но очень высокой, с полом из той же метлахской плитки и стенами, облицованными стеклянной плиткой бутылочного цвета. Вся обстановка – электрическая лампочка под потолком. Шаг туда, шаг обратно – не ходьба, а кружение, от которого быстро устаешь. Я сел на пол, то вытягивая ноги, то подбирая их в коленях, прислушиваясь к крикливым командам, просачивающимся через дверь. Значит, там еще кого-то привозили, увозили, прятали по таким же боксам.
Потерялся всякий ориентир во времени. Не имелось никаких признаков, чтобы хоть приблизительно определить, что сейчас – день, вечер, ночь, сколько часов или суток я нахожусь в этом каменном пенале. Много раз вставал, делал попытки ходить, снова садился. Наконец почувствовал, что хочу спать. Я попытался лечь на пол, поджав ноги, но все равно не поместился в этом логове. Повертевшись и так и этак, мне все-таки удалось найти приемлемое положение. Я лег на спину, задрав ноги на стену вертикально вверх. И так заснул. Не знаю, как скотина, а человек, оказывается, может спать вверх ногами.
Следующий день начался с дальнейшего знакомства с тюрьмой. Меня продолжали поражать ее исполинские размеры и отделка интерьеров, больше напоминающих старинные хоромы, терема. Меня остановили в огромном, как стадион, коридоре, и полы и стены которого все так же тщательно были облицованы двухцветной керамической плиткой с идеально выложенным орнаментом. По обе стороны коридора расположились высоченные двери, через фрамуги над которыми, с защищенным сеткой стеклом, и поступал свет. Оглядывая это необычное сооружение, я снова забыл, что нахожусь в тюрьме, что, возможно, ждет меня впереди самое страшное. Поистине я был восхищен. Я видел не тюрьму, а творение талантливых рук человеческих.
Меня вернули к действительности, толкнув в ближайшую дверь, меньше остальных и без фрамуги. Я очутился в какой-то странной комнате, довольно просторной, с полом, устланным поглощавшим шум шагов линолеумом, и мягкими стенами, обтянутыми желтой кожей в форме выпуклых тугих подушек правильной квадратной формы. Вид комнаты вызвал у меня недоумение. «Что это за камера, – думал я, – и почему именно для меня такая?»
Но все объяснилось. На пол мне бросили чистое белье и больничные тапочки.
– Переодевайся, – послышалась команда.
А пока переоблачался, все еще озираясь по сторонам, я понял, что это палата для буйно помешанных или тех, кто делает попытки покончить с собой путем удара головой о стену. В этой тюрьме все было предусмотрено.
Шлепая большими тапочками, в одном нательном белье, я очутился наконец в камере, а точнее, в палате тюремной больницы на две койки, на одной из которых, слева от входа, лежал человек, с головой закутавшийся в одеяло. Палата оказалась просторной (вполне можно было поместить в ней еще две койки), достаточно светлой; кроме коек, меблированной еще двумя табуретками и очень холодной, поэтому на правах больного я быстро юркнул под одеяло.
Я долго лежал, томясь от безделья, тем более что рассматривать в палате было совершенно нечего. Меня привлекал только неподвижно лежащий сосед, которого я еще не видел и который удивлял меня таким продолжительным беспробудным сном. Но за день мы все-таки познакомились.
Закутанный сосед стал подавать признаки жизни. Сначала он поворочался, не раскрываясь, как-то очень осторожно, медленно, не делая значительных движений. Потом из-под одеяла показалась его голова. Меня сразу поразило его лицо: худое, изможденное, с каким-то неживым цветом кожи – не белым, но без малейшего признака румянца. Рассматривая его, я определил, что человеку этому лет пятьдесят и он высокого роста, а по едва уловимым признакам – что он интеллигент. Не сразу, видимо собрав силы, глухим, ослабшим голосом он представился:
– Львов.
Говорил он с большим трудом, делая продолжительные паузы. И все-таки я узнал, что это бывший профессор Военной 272 академии имени Фрунзе. Когда немцы наступали на Москву, академию эвакуировали в Ташкент. Там он и был арестован, в числе многих, за антисоветскую деятельность. Человек строгих правил, очень порядочный, интеллигент от рождения, интеллигент того типа, который в настоящее время вымер у нас как вид, он не признавал предъявленных ему вымышленных обвинений. Ничего не добившись в Ташкенте, Львова отправили в Москву, на Лубянку. За два года его не могли сломить морально, но сломали физически. Передо мной лежал уже не человек, лежал труп, который еще не покинула душа.
– Я решил умереть, – сказал он мне. – Объявил голодовку.
И он действительно не прикасался к еде, которую ставили перед ним на табуретке. За все дни, что мы находились вместе, он ни разу не поднялся с постели. Но всякий раз, когда я возвращался с положенной двадцатиминутной прогулки, он что-нибудь спрашивал затухающим голосом или коротко, в несколько слов, сам рассказывал мне. От него я и узнал, что нахожусь в Бутырской тюрьме, построенной еще при Екатерине Великой. А однажды спросил, в каком дворике я гулял.
– Маленький, – ответил я, – неправильной формы, под круглой башней.
– Эта башня знаменитая, – посвятил он меня. – В ней, закованный в цепи, сидел перед казнью Емельян Пугачев.
Иногда тишину больницы нарушал сильный мужской голос. Он выкрикивал речи-панегирики сначала врачам и всему медперсоналу, потом работникам славных органов госбезопасности, неутомимым в труде следователям и доблестным прокурорам. Постепенно это славословие переходило в ругань, проклятия и заканчивалось сплошной матерщиной в тот же адрес.
Я не мог ничего понять, но как-то выбрал момент и спросил у Львова:
– Что это такое?
– Сумасшедший напротив в палате, – ответил он.
А на другой день, когда нам вносили обед, я увидел через коридор этого несчастного. Раскинув руки, как на распятии, он каким-то чудом повис на фрамуге и произносил очередной панегирик.
В больнице я долго не задержался. Почему-то всегда и везде проявляют повышенную заботу о здоровье тех, кого намереваются лишить жизни.
Я покинул палату, не простившись со Львовым. Он лежал, как застывший, укрывшись с головой одеялом, как саваном. Жизнь его измерялась часами.








