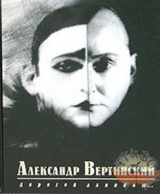
Текст книги "Дорогой длинною..."
Автор книги: Александр Вертинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
– Он мне обещал принести одеколон, – говорит она.
– Ничтожество! – в бешенстве кричу я. – Я ведь только сегодня утром прислал вам ящик от «Ралле», где этого одеколона пять флаконов, и духи, и пудра, и мыло!
Она пожимает плечами. Ей мало этого!
Гуляем как‑то мы с ней по Мясницкой (теперь улица Кирова). Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий, в окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине.
– Муся, – говорю я, – вот… шарикоподшипники! Купить вам?
– Купите.
– А зачем?
– Да так. Пусть лежат!
Есть же такие балерины, прости господи!..
Театральный сезон кончился. Театр закрылся. Марья Николаевна «уступила» меня одесскому театру «Гротеск» на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы – большие патриоты, у них свои особые вкусы, они имеют своих актёров, которых очень любят, и признают «привозных» очень осторожно и неохотно. Тем более что у них была своя собственная «звезда» в песенном жанре – Иза Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведённых на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я – свои собственные, ну и в различии жанров, конечно. Муж её был главным редактором самой крупной газеты – «Одесские новости», и я боялся, что эта газета мне «не даст ходу». Однако этого не случилось. Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа – всесильного редактора Хейфеца. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасные. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортёра.
… Рассказывая о своих театральных и концертных дебютах, я вовсе упустил из виду и позабыл ещё одну сферу искусства, в которой тоже подвизался. Речь идёт о кино. А забыл я об этом скорее всего потому, что кинематограф тогда искусством не считали. Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что‑то вроде балагана, оснащённого новейшей (по тем временам!) техникой. Но заработать, снимаясь в кино, можно было неплохо. И ещё до того, как я начал выступать со своими песенками, мне довелось подрабатывать на первой русской кинофабрике Ханжонкова. Поначалу там работали наощупь и наугад, никто ещё не имел опыта в этом деле, но фабрика постепенно крепла и завоёвывала положение на кинорынке, который до этого питался только привозными иностранными картинами. Первыми режиссёрами, насколько я помню, были Чардынин и Старевич, потом Евгений Бауэр, потом некоторое время был Иванов-Гай, потом уже появились Протазанов и другие. Была небольшая труппа. Из неё я помню Тамару Гедиванову, Нельскую и Триденскую. Из мужского персонала помню Ивана Мозжухина. Совсем юный актёр Народного дома, он был необычайно фотогеничен (хотя тогда этого слова ещё и не знали, оно появилось позже).
Пробегая мысленно взором свою актёрскую жизнь, я вспоминаю то один, то другой эпизод, который сам по себе настолько забавен, что его очень жалко не рассказать, пропустить. Но хронологически его место не здесь. Его нужно было рассказать раньше. Но в своё время он выпал из памяти. Что делать? Волей-неволей приходится нарушать последовательность повествования. И вот эта сумбурность, что ли, моего письма очень огорчает моих милых редакторов. Вы уж простите! Тем более что я заранее предупредил, сознался со всей откровенностью, что хронология – моё самое слабое место… Итак, я хочу рассказать об одном замечательном случае из времён моей кинодеятельности, рассказ о котором в нужном месте я поведать забыл. Я тогда не пел ещё своих песен, а только начал работать на фабрике у Ханжонкова.
Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике появился Илья Львович Толстой, сын Льва Толстого, как две капли воды похожий на отца. Он искал актёра на одну из ролей сценария, который написал по рассказу отца «Чем люди живы». Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма один из ангелов захотел узнать, как и чем живут люди на земле, и, спустившись с неба на землю, попал в семью сапожника. Все актёры у Толстого были уже подобраны, и ему нужен был только ангел.
Вначале он предложил эту роль Мозжухину. Иван со смехом отказался.
– Ну какой же я ангел? – сказал он. – Вот если б черта… Я бы сыграл!
Трудность заключалась ещё в том, что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, совершенно голый, с одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился.
– Ты с ума сошёл! Голым прыгать в снег! Ты же схватишь воспаление лёгких! – изумлялись товарищи.
– Ничего. Не схвачу! Я спортсмен! – презрительно возражал я.
– Сколько вы хотите за эту роль? – спросил Толстой.
– Сто рублей! – прошептал я.
Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. К всеобщему изумлению, Толстой немедленно согласился. Очевидно, «ангелы» были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс – пятнадцать рублей. Я повёл всех в кабак и был, разумеется, героем дня.
Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в Ясной Поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани-розвальни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками, и мы уехали в поле на съёмку. Ехали мы в закрытом возке вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке догола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег, оглядеться и пойти по снегу вдаль не оглядываясь (спиной к аппарату).
Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль… Хорошо ещё, что сцена снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съёмки меня схватили, укутали в тулупы, усадили в карету и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали ещё коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке под горой тулупов и шуб, которые на меня навалили. Все это произошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая‑то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно, решила, что меня ограбили, и заголосила навзрыд:
– Что ж они с тобой, родименьким, сделали? Ироды проклятые! Голубочек ты мой чистенький! Ограбили дите и в снег бросили!
Ей, конечно, нельзя было объяснить, что это кино, и на неё никто не обратил внимания. Так она и осталась при своём мнении.
Я проспал на печи до вечера. Потом меня посадили. в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне это очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей «работе». Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг.
– Сколько же вы получили за эту роль? – спросил меня один из газетчиков.
– Сто рублей, – честно ответил я. И добавил: – Дурак был! Мало взял!
На другой день в газетах было напечатано интервью со мной. Кончалось оно так:
«– Сколько же вы получили за эту роль? – спросили мы Вертинского.
– Сто рублей. Мало взял! Дурак был! – отвечал он.
Мы не стали возражать талантливому артисту и откланялись».
Позор был на всю Москву. Иван Мозжухин полгода издевался надо мной после этого.
С Мозжухиным мы были друзьями. Он был у Ханжонкова на положении первого актёра и сразу завоевал симпатии публики. Своим серым глазам красавец Мозжухин умел придавать любое выражение. Он хорошо чувствовал свет и аппарат и был необычайно «статуарен». Иван служил на договоре и получал семьдесят пять рублей в месяц, продолжая играть в театре. А я не пошёл на договор. Я снимался на «разовых» – три рубля за съёмочный день. Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около девяноста рублей в месяц. На пятнадцать рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в пятнадцать рублей. Что мы охотно и делали.
Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного – Вера Холодная. Как‑то, повстречав её на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привёз её на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно её стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех её у публики возрастал с каждой новой ролью.
В это время большие актёры неохотно шли в кино.
– Это не искусство, – говорили они.
Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актёра отнимало самое главное – слово! А что можно сыграть без слов? – думали актёры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат – это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актёром, он все до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актёры часто терялись перед этим «всевидящим оком». К тому же нужно было играть молча, но приходилось все же что‑то говорить. А текста не было, и только перед самой съёмкой репетировали мизансцены, и каждый говорил, что хотел, и все это было, конечно, в ущерб картине, потому что говорили иногда черт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения.
Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран не скоро, и много картин покалечили актёры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно все же большие актёры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Пётр Старковский, Пётр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звезды – Вера Коралли, Наталья Кованько, Наталья Лисенко.
Появились халтурные кинодельцы – Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой‑нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссёром и актёрами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Все же ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьёзным.
У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актёры были уже опытнее, и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мозжухин.
Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить названия этих картин: «Вот мчится тройка почтовая», «У камина», «Позабудь про камин» и так далее. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романсов: «Отцвели уж давно хризантемы в саду» и прочее, и даже на мой «Бал господен» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьёзно поставленная тургеневская «Песнь торжествующей любви» с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной её успеха.
Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах: «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор её так называла вся Россия и так писали в афишах.
Я часто бывал у неё и был в хороших отношениях и с ней, и с её сестрой, и с её мужем. А с её маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому не известной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как‑то, помню, я принёс ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал её издателю в печать и снова посвящал Холодной. Когда я прочёл ей текст песни, она замахала на меня руками:
– Что вы сделали! Не надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу! Ни за что! Снимите сейчас же посвящение!
Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд (что и подтвердилось впоследствии). Все же я снял посвящение.
Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы: «Умерла Вера Холодная».
Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и, разгорячённая, вышла на приморскую террасу, где её прохватило резким морским ветром. У неё началась «испанка» (как тогда называли грипп), и она сгорела как свеча в два-три дня.
Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул «Ваши пальцы» из этой пачки, перечёл текст и написал: «Королеве экрана – Вере Холодной».
Сам я много ещё снимался. Сыграл кадета в гончаровском «Обрыве», сыграл в комедии «Суфражистки» с польским актёром, комиком Антоном Фертнером, его секретаря. Играл блаженненького в какой‑то картине, переделанной из «купеческого» романа, не помню какого, играл Параго в фильме Вильяма Локка «Любимый бродяга», где наклеил себе почему‑то такие брови треугольником, что вспомнить страшно, и… погубил картину. Играл в фильме «Король без венца» и во многих ещё разных картинах, даже названий не помню теперь.
Играл с Бегичевой, Кованько, Софьей Лирской, с Верой Леонидовной Юреневой. Но после первых больших концертных успехов отказался от кинематографа очень надолго.
А Мозжухин рос с каждой картиной. После «Пиковой дамы», где он играл Германна, и «Отца Сергия» он был уже признанным «королём экрана» и любимцем публики. В театре же он был малозаметным вторым актёром.
Затем появилась фирма «Ермольев». Это было тоже весьма серьёзное дело, с лучшими актёрами, с хорошим выбором постановок, с хорошими режиссёрами. Туда Мозжухин вскоре и перешёл, уйдя от Ханжонкова. Снимать стали интереснее, появились хорошие операторы, из которых я помню только одного – француза Форестье. Появился режиссёр Волков, художник Лошаков, уже снимались Колин из Художественного театра, Н. Римский, Анна Ли и другие. Картины стали осмысленней, серьёзней.
Кино становилось на ноги, крепло и росло с каждым днём, завоёвывая прочное положение и своё место в искусстве. Впоследствии Ермольев, человек очень практичный и неглупый, хороший организатор и знаток своего дела, увёз из Ялты всю свою труппу вместе с Мозжухиным и Лисенко, Туржанским и молодым, очень красивым актёром Радченко-Стрижевским в Париж, где установил связи с фирмой «Гомон» и образовал новую труппу «Альбатрос». Таким образом, Иван Мозжухин стал кинозвездой Европы и завоевал мировое признание.
Прощание с Родиной
Из Одессы я попал в Ростов, потом в Екатеринослав и Харьков. Меня возили то Леонидов и Варягин, то Галантер и Гросбаум, то сама Марья Николаевна.
Иногда я шёл в какой‑нибудь театр миниатюр на гастроли и пел в его программе отдельным номером, иногда давал сольные концерты в костюме Пьеро, а впоследствии – во фраке. Да и публике любопытно было посмотреть, как же я выгляжу без грима. Весь 17‑й и почти весь 18‑й год я ездил по России. Ноты, рассыпанные Андржеевским по всей стране, делали мне большую предварительную рекламу. Я побывал и на Кавказе, и в Крыму, и во многих городах. Отношение ко мне публики было самое лучшее.
Между тем контрреволюция поднимала голову. Формировалась белая армия. Офицерство бежало на Дон к Каледину, в Ростов к Деникину и так далее. В Киеве сидел гетман Скоропадский. В Москве все труднее становилось жить.
Марья Николаевна стала подумывать о том, чтобы закрыть театр и куда‑нибудь уехать… Её выбор остановился на Киеве. Везти туда весь театр, то есть всю труппу, было рискованно. Там и без неё много разных театральных дел. Кроме всего, в Киеве были немцы, и туда из Германии наезжали всякие гастролёры. Гораздо проще взять одного меня и со мной работать, что она и сделала.
Советская власть никого не удерживала, и мы решили направиться в Киев. Уложив свои личные вещи, подарки, серебряные венки, ленты с золотыми надписями и прочее в лёгкий парусиновый сундук, я, по совету Марьи Николаевны, оставил его на хранение какой‑то даме, её приятельнице, и покинул Москву. Думал ли я, что покидаю Москву на двадцать пять лет?..
Киев был уже не тот, каким я его оставил в юности. Он до отказа был забит всякого рода публикой. Спекулянты, беженцы, дельцы и предприниматели всякого рода, аристократия, вывезшая с собой все, что можно было провезти, офицерство, опять нацепившее погоны, студенты и гимназисты, синежупанники гетманских полков, с кривыми саблями на боку, отрастившие себе висячие усы и «оселедцы», немцы в приподнятых спереди и сзади фуражках, с моноклями в левом глазу, дамы сомнительной репутации, актёры, бывшие шансонетки, жены, потерявшие мужей, – все это заполняло улицы, театры, магазины. Белый хлеб продавался запросто.
Всего было полно, и после голодной Москвы люди пьянели от счастья, строя всевозможные планы.
Мои гастроли начались в Интимном театре – на Крещатике, против Фундуклеевской. Было сразу объявлено десять концертов, и билеты моментально распроданы. Принимали хорошо, но Киев не узнал меня. Возможно, потому, что публика была новая, совсем чужая.
Я побродил по знакомым с детства улочкам и переулкам. Мой дом был тот же, садик и террасы те же. Внешне все было как будто по-прежнему. Но все ли? Я навестил родных. Тётушка Марья Степановна была больна и уже лежала в кровати. Дядя, Илларион Яковлевич, постарел, а кузены, Серёжа и Алёша, выросли, возмужали и уже ходили в студентах. Большинства друзей и товарищей моей юности уже не было в городе, и лишь двое или трое давних знакомых, узнав о моем приезде, пришли меня навестить. В перерывах между концертами я скучал, не знал, куда себя деть. Душа жаждала встряски. И, как часто бывает, встряхнуться пришлось совсем не так, как хотелось.
Одновременно со мной в Киеве гастролировал Павел Троицкий, талантливый комик и куплетист, который обычно имел у публики большой успех. Мы с ним были приятелями. Узнав, что он в городе, я отправился к нему в гостиницу. Он мне очень обрадовался, ибо бутылка водки, с которой до моего прихода он делил свой досуг, плохой собеседник. На мне были чудесные жёлтые заграничные ботинки, только что купленные, и Павел привязался:
– Давай пропьём твои ботинки!
Я пробовал возражать. У меня, да и у него денег было сколько угодно – платили тогда десятками тысяч. Зачем же пропивать ботинки? Но он был неумолим:
– Какой интерес пить на деньги, когда их полно? Я хочу пропить твои ботинки. Будь другом, дай я их свезу на толкучку…
Чокнувшись с ним раз, другой, третий, я почувствовал, что идея Павла начинает захватывать и меня. Смелая идея, оригинальная! И вот Павел, только накануне купивший мотоциклет и ещё не научившийся на нем ездить, берет ботинки и катит на Подол. Продаёт первому встречному. Через час возвращается: рожа разбита в кровь – налетел на столб, но смотрит героем. Разжимает кулак – и на стол вываливаются грязные, мокрые рубли… Через три часа без своих замечательных заграничных ботинок я ехал на извозчике в свою гостиницу. Распахнувший передо мной дверь швейцар изумлённо взирал на мою «обувку»: носки не самое лучшее средство, предупреждающее простуду.
Что же касается Павла, то, прощаясь со мной, обняв и расцеловав, он сказал:
– Ты – настоящий друг!
И заплакал.
И я тоже еле себя сдержал. Нет, ботинок было не жалко. Жалко было, что ещё одно мгновение жизни кануло в прошлое…
Из Киева я попал в Харьков. Жизнь в этом городе била ключом. В особенности театральная. В городе был прекрасный драматический театр Н. Н. Синельникова – большого и умного режиссёра, воспитавшего целое поколение блестящих актёров. В его труппе в это время были Виктор Петипа, Тарханов, Ходотов, Глаголин, Багров, Путята, из женщин помню Тиме, Маршеву, Леонтович, Валерскую…
Актёры были один другого краше.
На Сумской улице, в доме номер 6, в подвале помещался Дом артиста. Это было весёлое и шумное место.
После спектаклей туда собирались актёры из всех театров. Зал был хорошо оборудован. Впереди – довольно приличная и большая сцена, все остальное место занимали столы и ложи со столами. Постоянной программы не было. Кроме нескольких уже твёрдо установившихся номеров, остальные – экспромтного характера, и составлялись и придумывались тут же, на месте. Актёры выдавливались из публики и приглашались на сцену. Никто не смел отказаться. Там, на сцене, спешно придумывались номера. Кто пел, кто читал, кто танцевал, кто разыгрывал уморительные сцены. Помню, как почтённая актриса Блюменталь-Тамарина в костюме укротительницы львов выводила на сцену дрессированного осла. Осла же изображал Данильский – блестящий опереточный комик. Публика буквально помирала со смеху.
Конферансье было три: опереточные артисты Греков и Данильский и молодой актёр Гриша Ратов. Они то менялись быстрее молнии, то вдруг вылетали все трое сразу. Их реплики были отточены, как шпаги, и разили публику, не щадя никого. Хохот стоял такой, что люди не успевали ни есть, ни пить. В конце концов буфетчик заявил нам претензии:
– Буфет плохо торгует. Все смеются, а ничего не заказывают. Не успевают.
Пришлось подсократить программу и сделать антракты подлиннее – для торговли.
В это кабаре я попал прямо с поезда, только что приехав из Киева.
Маленький, знакомый мне по Киеву суфлёр Волынский повёл меня в бар. Было ещё рано, часов девять вечера. На высоком табурете у стойки сидела молодая красивая женщина.
– Познакомьтесь, – сказал он, – Валентина Санина.
На меня медленно глянули безмятежно спокойные, огромные голубые глаза с длинными ресницами, и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Её голова была точно в тяжёлой золотой короне. У неё были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иронический рот.
Кроме того, она ещё была очень похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой‑то гренадин и спокойно разглядывала меня, как змея кролика, перед тем как проглотить.
Я понял, что погиб, но сдаваться без боя не собирался. Так же спокойно я разглядывал её. На ней было чёрное, глухое до горла закрытое платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. К сожалению, меня узнала публика, и через несколько минут уже окружили актёры, актрисы и разные люди. Меня тормошили, целовали, обнимали и расспрашивали. Это была обычная тогда картина моего появления в каком‑нибудь публичном месте.
Когда ажиотаж вокруг меня несколько поутих, Санина, иронически улыбаясь, сказала:
– И вам не надоело все это?
– Что именно?
– Ну… это… идолопоклонство?
– Разумеется, надоело, – ответил я. – Я вот мечтаю подыскать себе дублёра!
Она рассмеялась.
– Бедненький! – сказала она. – Мне вас жаль. И давно это с вами?
– О да!.. Уже года три.
Она покачала головой:
– Лечиться надо.
– Чем?
– Не знаю. Чем‑нибудь… В монастырь идите. Может, это поможет.
– Ещё чего! – удивился я. – Пойдёмте лучше в зал. Уже начинается программа.
Мы вышли из бара и сели за столик. Так началась «история моей болезни».
Придя домой, я записал:
Надо жить потише, повнимательней,
Перечитывая книгу вновь и вновь,
И поплакать тоже обязательно
Над страницей, где написано: «Любовь»…
… Садясь за книгу, я было решил опускать те страницы воспоминаний, которые связаны с моими так называемыми увлечениями. Но потом подумал: а не будет ли она в результате подобных изъятий скучна, суховата? И не подумает ли читатель, что я, несчастный, был лишён некоторых – вполне симпатичных – человеческих слабостей? Нет, я бы не хотел, чтобы читатель так плохо обо мне думал. Поэтому признаюсь: много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые мной женщины. Много мук, крови и слез стоили мне они. Но… без женщин жизнь моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель!..
Я пел концерты и ухаживал за Валентиной. В свободные от концертов вечера ходил в её театр смотреть, как она играет, хотя роли у неё были маленькие.
– Ещё молоды… Пусть поучатся, – говорил Николай Николаевич Синельников о молодых актёрах и актрисах. И Валентина училась, работала, пробуя свои силы главным образом на мне. Я был для неё чем‑то вроде подопытного кролика.
Она была то резка со мной, то очень ласкова и после дикой ссоры вдруг сама приходила ко мне в «Астраханку» просить прощения.
– С чего это вы, – подозрительно осведомлялся я, – такую кротость на себя напустили?
Она делала мученическое лицо, низко, по-монашески кланялась в пояс и говорила:
– Сегодня прощённое воскресенье. Надо просить у всех прощенья. Простите, Христа ради, если чем обидела.
И хохотала, как сумасшедшая.
– Бог простит, матушка, – говорил я.
Это она играла – «для практики».
Иногда «для практики» она начинала что‑нибудь мне рассказывать. Притом говорила взволнованным, можно даже сказать, испуганным голосом:
– Вы знаете, Вертиша, со мной сегодня был такой ужас!
Такой ужас!.. Я сижу на бульваре на скамейке и смотрю на клумбу роз – помните её? Против нашего театра? Ну вот. Сижу, учу роль, и вдруг… – Тут зрачки её глаз расширяются, руки вжимаются в грудь, она дрожит, будто до сих пор не может успокоиться. – Вдруг чувствую, что на меня опускается какая‑то огромная чёрная тень… Вы понимаете? Страшная, зловещая тень! И я ощущаю, что это что‑то неизбежное и роковое… Понимаете? Я хочу вскочить, убежать и вся холодею, не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, меня словно приковало к скамейке… Я дико вскрикиваю, в ужасе закрываю лицо руками и…
– И что же это было? – насмерть перепуганный, спрашиваю я.
– Это был… это был… каштановый лист!
– Фу!.. Слава Богу! – я вытираю со лба холодный пот. – Хорошо, что не балкон…
Валентина окидывает меня сожалеющим взглядом:
– Вы удивительно нечутки, – говорит она, холодно отворачиваясь. – И черт знает, почему вас считают поэтом и певцом женской души. Чурбан какой‑то!
Жили мы под гетманом. По-моему, так, потому что Петлюра пришёл позже. А может, это уже было его время. Помню только, что верховодил в Харькове какой‑то полковник Балбачан, от которого все зависело и к которому бегали на поклон все местные спекулянты. По-видимому, он был сговорчивый человек, потому что дела они делали хорошие. Нас, актёров, он не трогал, и за то спасибо. Потом он куда‑то исчез вместе со своими подручными, а однажды вечером в Доме артистов появился заросший бородой Юрка Саблин – левый эсер. Оказалось, что он «взял» Харьков! Именно «взял» – как берут со стола серебряную ложку и прячут в карман. Ибо Харькова, по-моему, никто не защищал. Боев никаких не было. Во всяком случае, выстрелов никто не слышал, а балбачанцы тихонько удрали ещё с утра.
Юрка Саблин – наш приятель по Москве. Он был внуком старика Федора Адамовича Корша и вырос в нашей актёрской среде. Многие из актёров помнили его ещё ребёнком. Поэтому встретили мы его как своего. Он был преисполнен важности и делал загадочное лицо. Нам, во всяком случае, он был не страшен. Его отряд вскоре ушёл куда‑то дальше. В городе утвердилась советская власть.
Я же двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите и скоро опять оказался в Одессе.
По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие‑то экзотические африканские войска: негры, алжирцы, марокканцы, привезённые французами-оккупантами из жарких и далёких стран, – равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали.
Испуганные обыватели, устрашённые их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они «совсем не страшные» и не кусаются, успокоились.
В Одессе было сравнительно спокойно. Город развлекался по мере возможности. Красные были где‑то далеко. В кафе, у Робина, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. Всего было вдоволь. Не хватало только вагонов… По улицам ходил городской сумасшедший Марьешец и за стакан кофе «разоблачал» местных богачей, каких‑то разбухших от денег греков и евреев.
Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости.
На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой.
Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орёл, то без всякого повода. Потом стреляли из наганов в люстры.
Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда‑то, вероятно, на гауптвахту.
Вот в это самое время у меня были гастроли в Доме артистов. Внизу – фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху – маленький игорный зал. Кабаре – для привлечения публики. А центр тяжести находился в игорном зале.
Я пел – в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой – ежевечерне. Там же, при Доме артистов, мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены.
Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лёг спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажёг свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.
– Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащов просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.
– Господа, – взмолился я, – три часа ночи! Я устал! Я хочу отдохнуть!
Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны.
– Его превосходительство изъявил желание видеть вас, – настойчиво повторяли они.
Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.
Через десять минут мы были на вокзале.
В огромном пульмановском вагоне, ярко освещённом, за столом сидело десять – двенадцать человек.
Грязные тарелки, бутылки и цветы…
Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из‑за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащова. Огромная рука протянулась ко мне.
–Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поёте о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?
– Нет, благодарю вас.
– Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!
Справа от него встал молодой офицер в черкеске.
– Познакомьтесь, – хрипло бросил Слащов.
– Юнкер Ничволодов.
Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.








