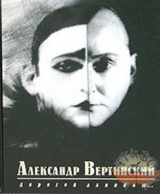
Текст книги "Дорогой длинною..."
Автор книги: Александр Вертинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Америка
Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался «Лафайет». Со мной ехали несколько французских артистов, приглашённых в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой. Да ещё трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях – моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья.
Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.
Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирными изделиями, парфюмерией.
Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперёд по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшие желания и прихоти каждого пассажира.
В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, тост и яичницу. К обеду метрдотель, ласково встречая вас у порога огромного дайнинг-рума, торжественно вёл вас к вашему столу, где перед каждым прибором стояли запечатанные бутылки белого и красного вина. Если вы пили даже по одной рюмке того и другого, вино это после обеда все равно убиралось прочь, и его уже не подавали больше никогда. К вечеру стояли новые запечатанные бутылки.
Обеды и ужины были чудом обжорства и чревоугодия. Чего-чего только не подавалось! Омары, лангусты, крабы, устрицы, зернистая икра в глыбе льда, освещённая изнутри электрическими лампочками, красовалась посредине столов, как какой‑то ледяной замок из сказок Андерсена.
Блюда сменялись одно другим. Все это было в таком большом количестве, что уносилось почти нетронутым, с тем чтобы уже никогда не появляться больше. Кто съедал эти блюда? Вероятно, прислуга. От этого изобилия пищи у меня окончательно пропал аппетит, а может быть, ещё и оттого, что за моим столом сидела полная дама, которая ела необычайно много и громко, и ещё какой‑то сухой миссионер-англичанин, который ничего не ел и все время шевелил губами, по привычке шепча молитвы.
Кроме меню, в котором было по меньшей мере пятьдесят блюд, вы могли заказывать на следующий день метрдотелю все, что вам вздумается. Вся эта вакханалия еды была рассчитана, очевидно, на аппетит, который появляется почти всегда в море, и на то, чтобы занять праздное время.
Помимо всех пассажиров, за столом всегда находился один необыкновенно общительный джентльмен, говорящий чуть ли не на всех языках мира. У джентльмена был чудесный аппетит. Я помню, он ел какое‑то блюдо с массой гарнира из различных сортов зелени и так великолепно орудовал дюжиной вилок, что я не мог есть от изумления. Он был настоящий виртуоз, артист своего дела. Вилки мелькали в его руках, как металлические предметы в руках у жонглёра.
Оказалось потом, что он был на службе у пароходной компании и приглашён специально для возбуждения аппетита у пассажиров.
После обеда на стол ставились огромные вазы и блюда с дынями, персиками, арбузами, сливами, грушами, апельсинами, яблоками, виноградом величиной с грецкий орех и прочими фруктами. Это была настоящая выставка всего, чем изобилует прекрасная Франция, как бы последний прощальный пир, который она устраивала покидающим её пределы. И перед тем, как попасть в «консервную», «рефрижераторную», «искусственную» Америку, вы могли в последний раз насладиться великолепием всех плодов земных.
На третий или четвёртый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких‑то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.
Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих каютах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облачённых в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане.
… После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня, в пустом зале никого не было. Большой радиоприёмник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашёл Париж.
Политические новости… Люсьен Буайе в новой песенке… Ещё что‑то. И вдруг:
К Мысу ль Радости, к Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…
Это пел я.
Ревела, палила и щёлкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперёд, а я сидел и слушал самого себя, где‑то за тысячи вёрст затерянный ночью в океане.
Мимо стёклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды…
Все равно… где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…
Эти слова Тэффи, из которых я в своё время сделал песню, впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без родины! И впереди ничего, кроме скитаний.
Вот тут и родилась у меня песня «О нас и о Родине», которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие‑то личности, пытаясь сорвать концерт.
Позволю себе привести полностью её содержание.
Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несём в чужие страны
Чувство русское тоски.
И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдём.
И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как‑нибудь…
Что пора остановиться,
Как‑то, где‑то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.
И ещё понять беззлобно,
Что свою – пусть злую – мать
Все же как‑то неудобно
Вечно в обществе ругать!
А она цветёт и зреет,
Возрождённая в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне!
Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать-родина. В том числе и меня. Там же, в Шанхае, после многочисленных просьб мне, наконец, дали советское гражданство.
А на пароходе в те дни, когда эта песня родилась, помню, развлекали нас всеми силами. То устраивался вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то по субботам танцульки, где гангстерские подруги могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями от Фаберже и Ван Клифа, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что построенных в Лондоне фраках с квадратными плечами, неуклюже переминались с ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая дрессированных орангутангов. В антрактах меду танцами они пили шампанское, курили огромные сигареты и рассеянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации.
Элегантный молодой француз из «очень хорошей фамилии» или развлекал разговорами одиноких пожилых американок, или составлял для них партии бриджа, или танцевал с теми, которые не играли в бридж. Он был на службе у пароходной компании уже несколько лет. Его перебрасывали с одной линии на другую. Перед этим он ездил в Индокитай. Как только на какой‑нибудь линии пассажиры начинали жаловаться на скуку, его тотчас же посылали туда. Воистину это была нетрудная служба. Есть, пить, спать и разговаривать, путешествуя по белому свету, и заводить знакомства, да ещё получать за это жалованье!
По понедельникам были сеансы кино, и один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. В концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. В этой поездке играла очень хорошая виолончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и ещё кое‑кто.
Пришлось выступать и мне. Я спел несколько весёлых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни одного слова, разумеется, они не поняли.
После концерта всех участвующих пригласил капитан парохода на «парти» к себе в «апартмент». Ужин был с шампанским и отличался ультраизысканным меню. Конечно, такой ужин стоил гораздо больше, чем вся та сумма, которую собрали с публики за этот концерт.
Американцы – большие патриоты. Они обожают свою Америку и уже задолго до приближения к ней стали волноваться.
Когда, наконец, на горизонте чуть обозначились берега Америки, они уже не отрывались от биноклей, а когда, наконец, бледно замаячила знаменитая Статуя Свободы, они подняли невообразимый рёв и крик и сразу все напились пьяными.
Перед самым приездом, после выноса багажа, в коридорах выстроилась в две шеренги такая вереница прислуги, что у меня захватило дух. Разменяв по сто франков несколько тысяч, я шёл сквозь этот строй довольно равнодушных и даже не благодарящих нас людей с пачкой ассигнаций в руке и раздавал их направо и налево. Метрдотелю надо было дать тысячу. Так полагалось.
Велико же было моё удивление, когда он, любезно улыбаясь, преподнёс мне какую‑то коробку, завёрнутую в бумагу.
– Что это, мсье Шарль? – недоуменно спросил я.
– Это «кавьяр рюсс», – отвечал он. – Я заметил, что мсье любит её… А я… очень люблю русские песни, которые мсье поёт прекрасно. Вот я осмелился сделать этот скромный презент на дорогу…
Я был потрясён до глубины души.
«Ещё одна победа русского искусства!» – со смехом подумал я и пожал ему руку.
Тысячи он с меня так и не взял.
Были уже сумерки, когда мы входили в порт. Нью-Йорк сверкал миллионами огней. Первое впечатление было такое, как будто в городе иллюминация по случаю какого‑то праздника. Задолго до пристани вместе с чиновниками, осматривающими паспорта, прибыл и катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда‑то люди обращались с нами довольно небрежно.
– Эй, вы!.. Садитесь! Да не сюда!.. В это кресло! Вы Лили Понс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну, все равно! Возьмите ваш журнал в руки! Так! Смотрите на меня! Выше голову!
Он хватает вас за лицо и поворачивает в сторону.
– Снимаю!
Щёлк аппарата…
– Вы кто? Вертинский? Рашен крунер? Как наш Бинг Кросби?.. Да?.. Мы знаем уже о вас! Станьте здесь! Обопритесь о перила! Так! Улыбайтесь! Да снимите вы эту шляпу, черт возьми!.. Так! Ваше первое впечатление об Америке?..
Я сразу разозлился.
– Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты! – ответил я.
– Послушайте, – сказал я встречавшему меня менеджеру, – неужели они у вас все такие?
– Все! – вздохнув, ответил он. – Это их стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь. И что им некогда.
– Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дёргали, как манекен, – заявил я и удрал в каюту…
Остановиться мне предложили в отеле «Ансония». Это был артистический отель. Там останавливался Шаляпин, жили постоянно пианист Зилотти, Никита Балиев со своей «Летучей мышью», Рахманинов, скрипач Иегуди Менухин, останавливался Тосканини и другие. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но был в удобном районе, и, главное, там жило много русских.
В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк.
– У вас будет сразу полное впечатление от ночного города, – сказали они.
По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое 5‑е авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в сто два этажа.
Зал был рассчитан на пять или семь тысяч человек. Шло «Воскресение» Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссёра были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой, сын Льва Николаевича. Анна Стэн, русская по происхождению, которой очень «занимались» в Голливуде, готовя из неё звезду первой величины, чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама – тоже миллионы. Перед началом картины из‑под земли поднялся оркестр в сто двадцать человек, составленный из лучших музыкантов города.
И что же они играли? «Очи чёрные»… Это у них считалось «русской музыкой»! Искусно аранжированная незатейливая мелодия не переставая звучала все время по ходу картины.
Как это типично для американцев!
Голливуд потрафляет вкусам среднего обывателя, а кто же из этих обывателей не знает «Очи чёрные» и не считает их шедевром русской музыки!..
После Парижа трудно восхищаться каким‑нибудь другим городом.
Я не пришёл в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре, дальше он – двух-, трёх– и четырёх– этажный, обычный, простой, как все города, довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома – кучи мусора, в которые вываливается все – от дохлых кошек до разбитых пианино.
День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей, летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины; люди спешат как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя. Можно подумать, что это испанцы или какие‑нибудь южане, отличающиеся особенным темпераментом. Но темперамент этот исключительно деловой и, кроме бизнеса, ни в чем, мне кажется, не проявляется.
Все мчатся, все летят куда‑то. Всем некогда. Правда, расстояния в таком городе, как Нью-Йорк, конечно, огромны. И если у вас есть три дела в разных концах, то вы должны истратить на это почти весь день. Несмотря на метро, автобусы и такси, вы все же не сможете всюду поспеть вовремя.
Из‑за больших расстояний на обед, то есть между двенадцатью и двумя часами дня, никто домой не приходит. Обедают в кафе, аптеках и ресторанах. Обычно такой обед состоит из кофе и сандвичей, выбор которых безграничен. Встречается семья только за ужином, то есть после семи вечера.
Но ужин ведь необходимо приготовить. На это нужно потратить несколько часов. И вот, чтобы избежать этой траты времени и сил, ибо сперва надо пойти в «маркет», все купить, потом почистить овощи, рыбу, мясо и т. д., американцы все держат дома и все в консервах. Все блюда – супы, компоты и прочее – изготовляются фабриками в уже готовом виде. Надо только раскрыть коробку и подогреть содержимое в кастрюльке. Таким образом, приготовление обеда занимает пятнадцать—двадцать минут.
Правда, время от времени против этого подымают голос люди науки, заявляя, что окись от жестяных коробок способствует появлению раковых и иных заболеваний, но фирмы из боязни падения сбыта покупают статьи каких‑нибудь авторитетов в этой области, которые со страниц газет точно и ясно доказывают совершенно противоположное. Взволнованное было население успокаивается, и все идёт по-старому.
Прислуги в Америке почти нет. Все нужно делать самому. Это отнимает много времени. Чтобы избежать этого, все упрощено и механизировано до последней степени. Вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычажок – и все уже делается за вас или появляется в готовом виде. Всевозможные машины проделывают всякую работу быстро и аккуратно.
Таким образом, ваш личный труд сведён до минимума. Это сильно облегчает жизнь, в особенности холостых людей. Недорогие апартаменты сдаются со всем необходимым, до постельного белья и посуды включительно. Убирать комнату приходится самому, но это нетрудно, ибо все предусмотрено. Вы нажимаете кнопку – и постель ваша уходит в стену. Пройдя пылесосом по ковру, вы приводите его в порядок. В кухне у вас электрическая плита, вы быстро готовите себе завтрак, который можете купить хоть на целый год вперёд уже приготовленный, потому что есть рефрижератор, и все в консервах. Только мытьё посуды занимает некоторое время. Но и для этого есть машины, которые моют и тут же сушат её. Правда, они не всюду есть. Поэтому, когда гости приглашены на «парти» в дом, то после ужина все они идут на кухню и моют посуду. Раз в неделю приходит прислуга и делает главную работу: моет пол, меняет постельное белье, уносит мусор из кухонного ящика.
Американцы очень радушны и гостеприимны. Но если вы делаете у себя дома «парти», вы никогда не можете учесть, сколько человек придёт, потому что приглашённый вами приятель, у которого в этот день, предположим, собрались друзья за обедом, приезжает к вам в дом в месте со всеми своими гостями. Помню, в Голливуде я сделал такое «парти» для моих друзей – фильмовых актёров, музыкантов и журналистов. Пригласил я человек сорок. Всякого рода продуктов заготовил на шестьдесят—семьдесят человек, а приехало человек сто… У меня было снято маленькое «бунгало» – особнячок с мебелью и всеми удобствами. Гости сидели у меня до утра, веселились, пели, играли. На другой день хозяйка, придя в дом, ужаснулась. Они испортили её радио, залили вином диваны, прожгли сигаретами ковры и скатерть, разбили много посуды и пр. Короче говоря, хозяйка немедленно выгнала меня из этого дома, заставив предварительно заплатить за испорченное имущество несколько сот долларов. После этого я переехал в отель, закаявшись раз навсегда устраивать у себя «парти».
Почти вся пища в Америке безвкусна, но зато на вид она изумительна. Такой величины фруктов, таких овощей, кажется, нигде не найдёшь. Но все привозится откуда‑то в замороженном виде и теряет свой первоначальный вкус.
Мне рассказывали, что в Нью-Йорке на городских бойнях убивают несколько миллионов голов скота ежегодно. И кладут в городские рефрижераторы. В продажу же поступает то мясо, которое было заложено семь-восемь лет тому назад. Его и едят. Таким образом, город всегда имеет запас мяса, но вкус оно теряет абсолютно.
В больших кафетериях, куда ходят покушать, во всю длину помещения идёт освещённая изнутри стойка-рефрижератор. Каких только блюд там нет! Великолепные ростбифы, аппетитные жаркие, окорока, дичь, сыры, фрукты, компоты, пироги, кремы, пирожные. Все это вызывает аппетит, и вам хочется чуть ли не всего сразу. Но когда вы начинаете есть, вам кажется, что вы жуёте резину или вату, до того все безвкусно. А так как все эти блюда надо подавать себе самому, стоять в очереди, таскать ножи, вилки и тарелки, то в конце концов от обеда остаётся впечатление тяжести и усталости.
Америка вообще очень утомляет. Если вы не привыкнете к этому шуму и грохоту, к этой суёте, беготне и крикам, как привыкают на войне к канонаде, свисту пуль и снарядов и разрывам бомб, – вы будете больны.
Две вещи особенно надоедают вам.
Радио и реклама.
Радио там повсюду. Вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под его болтовню, потому что во всех отелях оно вделано в стену и черт знает, где находится выключатель. Оно преследует вас во всех магазинах, офисах, кафе, и даже когда вы садитесь в такси, оно бубнит вам свою нудную, очень точно отщёлкиваемую мелодию, всегда одну и ту же, идущую сквозь ваши уши и не остающуюся в вашей памяти.
А реклама положительно сводит с ума. Если то же радио даёт, например, концерт Яши Хейфеца, то каждые пять минут концерт прерывается, и вам напоминают, что этим концертом вас «угощает» фирма сигарет «Честерфильд» или какая-нибудь другая. Реклама лезет вам в глаза и в уши везде и всюду: из газет, журналов, радио, с огромных светящихся вывесок, которые дают целые картины из электрических комбинаций, она бежит впереди вас на тротуарах, по барьерам крыши, в виде букв, догоняющих друг друга, гонится за вами в метро, автобусах, такси, преграждает вам путь огромными транспарантами, величиной с пятиэтажный дом, настигает вас всюду, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни повернули глаза. Миллионы лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то затейливые световые картинки, рассчитанные на самое примитивное детское воображение и любопытство. Спастись от них никуда нельзя.
«Пей кока-кола!» – приказывает вам реклама на каждом шагу.
И вы подчиняетесь. В Европе вы не могли взять его в рот, но здесь… Вам лень думать, что бы такое выпить? Ну, черт с ним! Давай кока-кола!
Кстати, при своём появлении на свет кока-кола не имела успеха. Её продавали в аптеках в виде коричневого сиропа, который смешивали с содовой водой, наливая одну чайную ложку на стакан. Владельцы этой фирмы бились над вопросом, что делать, чтобы она «пошла».
После многих бесплодных попыток, истратив миллионы, наконец, додумались объявить конкурс на самый лучший совет по этому вопросу. На конкурс ежедневно являлись сотни людей, которые давали самые дикие советы и только занимали время.
Тогда дирекция выгнала всех. Но вот однажды в кабинет пробился маленький, невзрачного вида человечек.
– Что вам здесь нужно? – спросил директор.
– Я пришёл дать вам совет.
– Нам не нужно советов. Убирайтесь вон! – закричал директор и затопал ногами.
– Мой совет спасёт положение, – настаивал вошедший.
Директор задумался.
– В двух словах вы можете изложить его? – спросил он. – Предупреждаю, что, если слов будет больше, я вас выкину, как собаку!
– Разлейте в бутылки! – отчётливо произнёс посетитель.
Совет был принят. Кока-кола покорила мир. Теперь этот человек – главный директор фирмы.
Самое трудное в Америке – это обратить на себя внимание. В больших густо населённых городах, где люди бегут беспрерывным потоком, все сливается в один сплошной гул. Трудно выделиться своим голосом в этом вечном монотонном шуме, трудно заинтересовать собой, своей личностью, своими идеями. Поэтому все помешаны на «персоналитэ» – каждому хочется выделиться во что бы то ни стало, любым способом. Таких «чудаков», как в Америке, я думаю, нет ни в одной стране, начиная от всем известных причуд миллионеров, оставляющих самые дикие завещания после своей смерти, до чистильщиков сапог на улице и мальчишек, продающих газеты. Невозможно даже передать, на какие трюки и ухищрения пускаются там люди только для того, чтобы привлечь хотя бы на секунду к своей личности внимание равнодушного и занятого обывателя. И, получив его, это внимание, он уже никогда его не потеряет.
Я знал одного человека, которому долго не везло. Он был менеджером и организатором так называемой «американской борьбы», которая долго не имела успеха у публики и с которой он неизменно прогорал. Однажды он решил одеться Наполеоном перед выходом к публике и этим странным костюмом привлёк внимание к своей особе. Он стал популярен, его запомнили.
– Ах, это тот, что играет Наполеона? – говорили люди.
Цель была достигнута: его заметили. Дела пошли лучше, в газетах стали больше о нем писать, и в конце концов он «привил» американцам эту борьбу, которая, кстати сказать, производит совершенно дикое впечатление своей первобытностью. Теперь он уже богатый человек, и ему не нужен больше этот маскарад. Но все его костюмы сшиты под наполеоновский сюртук и даже шляпы имеют форму, напоминающую знаменитую треуголку императора.
В Нью-Йорке есть сотни всевозможных салонов, где скучающим богатым женщинам подыскивают «персоналитэ» в манере одеваться. Одна моя русская приятельница, бывшая актриса, держала такой салон, где с успехом «пудрила мозги» сумасбродным богатым американкам, драпируя их в какие‑то лилово-серые тряпки, имеющие форму хитонов, и тюрбаны цветов пелёнок двухмесячного ребёнка. Смотреть без слез на них, конечно, нельзя, но деньги она берет за них немалые.
Америка залита электричеством. Вы видите сотни закрытых магазинов, освещённых в течение ночи тысячами ламп, которые ослепляют вас. Странное впечатление производят большие и малые города, когда вы, например, путешествуете на автомобиле. Проехав несколько сот километров по прекрасным шоссейным дорогам в темноте, прорезаемой только фарами вашей машины, вы, наконец, видите перед собой ярко освещённый город. Он красив, как в сказке. Вам он кажется миражем в пустыне.
Въезжая в город, вы попадаете в волшебный мир огней: синих, красных, зелёных, жёлтых. Это целая неоновая симфония красок.
Как весело, как шумно и празднично должно быть в таком городе! Вам хочется остановиться, войти в какой‑нибудь ресторан – отдохнуть, потанцевать, выпить вина!..
Вам кажется, что вы в Париже, на Монмартре.
Но войти некуда. Все закрыто. Город спит. Ни одной души на улицах. Это только реклама.
Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших, настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известны имена Кусевицкого и Леопольда Стоковского, Хейфеца, Лоренса Тибет, Иегуди Менухина, Владимира Горовица и других. Но все это для избранных. Обыкновенный же, рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьёзного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый «вкус Бродвея», весьма ограничен.
Я помню, один из наших соотечественников, Дэйв Аполлон, выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не десять тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы.
Как‑то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы – сказать своё мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссёра Гордона Крэга, который когда‑то у нас в России ставил «Гамлета» в Художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что‑то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошёл за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком.
Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца…
Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-Холл». Это один из двух самых больших и самых популярных концертных залов города. Вместимость его две с половиной тысячи человек. Больше него только «Карнеги-Холл», который рассчитан тысячи на четыре человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным.
За несколько дней до концерта мои менеджеры, таскавшие меня по всем редакциям газет, ибо в Америке полагается, чтобы артист сам приезжал в редакцию знакомиться, привезли меня в газету «форвертс». Эта газета издавалась на еврейском языке, была очень популярна и имела около ста тысяч подписчиков.
Редактор её, обаятельный, пожилой уже человек Александр Кан, русский по происхождению, принял меня исключительно любезно.
– Мы и знаем и не знаем вас, – сказал он. – Конечно, ваше имя знает всякий, но мы, американцы, вас никогда не слышали, вы впервые побаловали нас приездом, а пластинок ваших у нас нет. Так что предварительно писать о вас нам очень трудно. Я лично буду на вашем концерте, – пообещал он. – У вашего искусства много друзей, но и врагов немало… – Он, видимо, стеснялся дать мне понять, что боится писать «в кредит»…
Я пошёл ему навстречу.
– Не беспокойтесь об этом, – весело сказал я. – Писать ничего не нужно. В конце концов пресса, как доктор, требуется только тогда, когда пациент болен. Я привык говорить с публикой лично, так сказать.
В Америке любят напор.
Редактор улыбнулся.
– Если вы окажетесь хотя бы только наполовину тем, что говорят о вас ваши менеджеры и ваши поклонники, – моя газета всегда будет открыта для вас! – сказал он, пожимая мне руку.
В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно. Мне предстоял последний и самый трудный экзамен!
Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные. Что им до меня? – думал я.
В голове у меня вертелись грустные строчки из Георгия Иванова:
Даже больше… Кому это надо…
Просиять сквозь осеннюю тьму…
И деревья заглохшего сада
Широко шелестят: никому!
«Конечно, никому», – с отчаянием думал я.
Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был весь цвет русского артистического мира – от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер» и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и фильмовые режиссёры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Были Рахманинов, Зилотти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился ещё в Париже. Много балетных – Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова.
Оставалось только хорошо петь. Что я и старался делать по мере моих сил.
Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах».
Я тогда ещё не был особенно твёрд в этой песне, так как написал её перед самым отъездом из Европы и ещё не имел случая её попробовать на публике.
Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах, потому что реакция на неё была подобна урагану.
За кулисами в антракте у меня толпился народ.
Первым вошёл редактор «форвертса».
– Моя газета к вашим услугам! – искренне и горячо сказал он, сжимая мне руки. – Мы ведь не виноваты в том, что провинциалы, – шутя, оправдывался он. – Европа забрала все к себе. Зато теперь мы вас знаем!
Я был вполне удовлетворён.
Меня окружили друзья.
Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьём – только то, что сегодня у тебя в кассе!»
Болеславский знакомил меня с Бингом Кросби.
Марлен Дитрих расспрашивала о «Казанове» и парижских друзьях.
Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки…
Закончил концерт я песней «О нас и о Родине». Когда я спел:
А она цветёт и зреет,
Возрождённая в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне! —
я думал, что разнесут театр. Аплодисменты относились, конечно, не ко мне, а к моей родине.
Если от Австрии остаётся на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии – чардаши и страстные, волнующие мелодии скрипок, от Польши – мазурки и краковяки, от Франции – лёгкие напевы уличных песенок, то от Америки остаётся только ритм, вечный счёт какого‑то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все разнообразие и богатство аранжировок, и, в конце концов, от неё у слушателя ничего не остаётся ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас целый день, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под неё взрослые делают свои дела в офисах, конторах и магазинах, под неё дети готовят уроки и засыпают под неё же. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Америка целиком находится в её власти. Конечно, нигде в мире нет такого количества джазовых оркестров, как там. И почти все они очень хороши.








