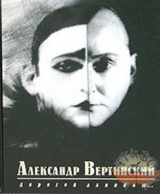
Текст книги "Дорогой длинною..."
Автор книги: Александр Вертинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Не говорю уже об оркестрах таких звёзд, как Поль Уайт-манн, Тэд Люис, Дюк Эллингтон, и других. Даже малоизвестные, случайно собранные оркестры играют обычно превосходно.
А самые лучшие джазовые музыканты, – конечно, негры. У них врождённое исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. Поют они просто восхитительно. В особенности в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью.
Каждый год устраиваются большие конкурсы для джазовых симфоний, где из множества произведений выбирают самую интересную вещь, наиболее ярко отражающую темы современности… Одну такую «Симфонию Бродвея» мне привелось услышать в Нью-Йорке в исполнении нескольких соединённых оркестров. Впечатление на меня она произвела потрясающее. Шум великого многоголосого города, его ритм и движение были переданы с исключительным мастерством, от гудков фабричных сирен и автомобилей до шума уличной толпы включительно. Успех она имела огромный.
Но хотя композиторов в Америке много, вы почему‑то на всех нотах читаете обычно одни и те же фамилии авторов. В Нью-Йорке, например, почти все шлягеры принадлежат «творчеству» некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи «пошли» – он заработал, если нет – немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато если из ста купленных вещей «пойдут» только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и даёт большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Валле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни, – контора по покупке и продаже музыки.
Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями и, если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать её можно сколько угодно. Очевидно, за дальностью расстояния.
Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают своё «вдохновение» из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры.
Очень часто, прислушиваясь к какой‑нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмём, например, хотя бы модный напев «Йес, май дарлинг дотёр». Разве это не наше украинское «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечорницю»? Но это ещё пустяки: джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все: Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова – кого угодно, если только он не записан у них в союзе.
Некоторые наши балетные артисты – Фокин, например, Баланчин и другие – долго пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в своё время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Очень долго затея эта осуществиться не могла. Аплодируя монте-карловскому ансамблю во время его гастрольных приездов в Америку, заполняя до отказа театры, американцы тем не менее своего постоянного балетного театра заводить не хотели. Все попытки в этом направлении проваливались много лет подряд. Идея создания американского национального балета, увы, не находила отклика.
Тогда у меня сложилось даже впечатление, что ревю с участием «бьюти гёрлс» вполне заменяет американцам балет.
Работали эти несчастные «гёрлс», как машины. Обычно выступления их проводились в кино между сеансами. Кино начиналось в двенадцать часов дня и кончалось в двенадцать часов ночи. Все это время девушки находились в театре, в костюмах и гриме, там же ели и дремали на кушетках в ожидании своего номера.
При театрах есть буфеты и артистические уборные. Но в театр «гёрлс» должны являться в восемь утра, потому что до двенадцати дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет шестнадцать часов. Получает девушка примерно сто долларов в месяц. Она не видит ни солнца, ни свежего воздуха. Проработав так лет пять, она выходит обычно из этих театров уже сильно подурневшей и часто больной. Карьера её кончена. На смену ей идут другие девушки, свежее и моложе…
Большим событием для Нью-Йорка было исполнение русскими артистами, приглашёнными дирекцией «Метрополитен-Опера», нашумевшей оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мне, к сожалению, не пришлось быть на этом спектакле, но отзывы о нем были восторженные.
В Нью-Йорке довольно много русских артистов, которые остались в своё время там, отстав от своих трупп, с которыми когда‑то гастролировали в Америке. Кто приехал с балетом, кто с «Летучьей мышью» Балиева, кто с пражской труппой художественников. Некоторые приехали из Европы сами. Были среди них оперные певцы – Черкасский, Петипа, Мария Куренко; были драматические – Хмара, Павлова, Кедрова. Много балетных. Некоторые получили уже американское гражданство и остались там на постоянное жительство, другие вынуждены были уехать в Европу и спустя некоторое время, выждав необходимые сроки для натурализации, возвращались снова. Время от времени там устраивались оперные спектакли, шли пьесы новых советских авторов, ставились балеты. В «Метрополитен-Опера» есть русские певцы и певицы, в больших мюзик-холлах много балетных артистов, иногда целые русские труппы. В кабаре и ресторанах с программой много русских номеров. Когда‑то в Америке гремел и получал огромные гонорары знаменитый русский плясун Семён Караваев. Я знал его ещё до эмиграции. Действительно, плясал он бесподобно, делая такие «вертуны» и «волчки», что дух захватывало, а его чечётка по ходу танца была вне всякой конкуренции. Потом он сошёл со сцены. Его «убили» негры, которые пляшут «стэп-танцы» так, что за ними не угнаться. Многие балетные пооткрывали там свои студии и давали уроки американцам. В Нью-Йорке, например, имели студию московская балерина Мария Юрьева и бывший московский премьер Вячеслав Свобода.
Большим успехом пользовались там наши русские художники. Много работал по декоративной части московский художник Судейкин, молодой и талантливый Роман Шатов, знаменитый Борис Григорьев. Незадолго до моего отъезда устраивал выставку своих полотен сын Шаляпина, Борис Шаляпин. Американские миллионеры охотно заказывали свои портреты русским художникам и платили за них большие деньги. Впрочем, далеко не всем художникам жилось хорошо. Наш московский художник Александр Койранский, например, говорил, что две недели в месяц он моет посуду в ресторанах (потому что в Америке спрос на чёрный труд довольно велик), а две недели работает у себя в студии.
В Нью-Йорке мне довелось встретить старого своего приятеля, художника Давида Бурлюка. В то время он, к сожалению, почти отошёл от живописи и работал в советской газете как журналист. У меня ещё хранится его рецензия о моих концертах под заголовком «Цветок из чужого сада», в которой он сожалеет о том, что я не пою на родине и отдаю свои силы «чужим».
Есть в Нью-Йорке еврейский театр с довольно крупными силами, среди которых и старые мои знакомцы по Одессе, Харькову, Киеву: Клара Юнг, Павел Баратов и др.
Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать себе карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино.
Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:
– Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!
– Простите!.. – удивлённо бормочете вы. – Я не могу вас припомнить!
– Ах вот как? Не можете припомнить?.. А ещё ухаживали. Цветы посылали! – издеваясь, продолжает она.
Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда‑то нравилась вам и с которой вы были хорошо знакомы. Но… но ведь это же не она! Вы вглядываетесь в её лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда‑то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «ещё красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и чёрные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить её форму. Конечно, вы можете смотреть на неё целый год и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая‑нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего два-три года тому назад где‑нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Каких только жертв не приносится на алтарь искусства! А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссёры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает!
Я никогда не забуду одной маленькой пятилетней девочки, которая, увидев пришедшую в гости только что сделавшую себе операцию носа мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала:
– Мама, у тёти Кати нос умер!
Мать её сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно!
Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксёром Шмелингом и американским чемпионом Максом Беером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно, на пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днём и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы в кассе, на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмелинг долго готовился к этому матчу, и готовился по-немецки серьёзно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что он скупил все фильмы, снятые во время матчей Беера с другими боксёрами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет пятьдесят долларов. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа. Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рёва я никогда в своей жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном, залитом светом стадионе.
Победил Шмелинг. Немцы торжествовали. Американцы уходили, скрежеща зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмелинга: оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, о том, что немцы не отходили от радио всю ночь. Помещали интервью с его женой – киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему поздравительную телеграмму. Триумф был полный.
Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев.
Это был процесс Кауфмана – убийцы ребёнка Линдберга. Убийца долгое время был неуловим, и, наконец, в 1935 году его поймали и судили.
Преступник защищался с невероятным упорством, лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем‑то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как‑нибудь преуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы, в радиоприёмнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребёнка от несчастного отца: номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало. Кауфмана казнили. Поздравительной телеграммы фюрера на этот раз не последовало.
Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поезда мы сели в «ферри-бот» – нечто вроде большого парома, который и перевёз нас на ту сторону залива, в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка… Среди журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле «Сан-Франсис» я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев.
Например, какой город лучше – Нью-Йорк или Париж?
Какую киноактрису я люблю больше всего на свете?
Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?
Сколько любовных писем я получаю в день?
Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера.
Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил, по совету друзей, осмотреть город.
Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет – все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырём ветрам океана, поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино, в нем ничего нет. Поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени. Много деревьев и цветов, и все это окружено белыми и жёлтыми виллами типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых жёлтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стёкол.
Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная. Состоятельных людей почти нет.
Одна моя знакомая, которая служит на фабрике женских платьев, восемь лет уже делает один и тот же шов на левом рукаве. И никогда не видела целого платья. Другой приятель работает на консервной фабрике и тоже лет пять уже делает одно и то же движение: он прижимает ключ для открывания коробки узенькой жестяной пластинкой. Палец на правой руке у него как деревянный. А третий знакомый работает на колбасной фабрике, где из поступающей в машину живой свиньи через час или полчаса выходит уже готовая колбаса. Его обязанность – чистить свиной пятачок особой щёточкой.
В Сан-Франциско есть небольшой клуб, в котором русские собираются по субботам. Раз в год устраивается большой бал в пользу русских инвалидов – жертв мировой войны. Русские дамы очень стараются и собирают обычно большие суммы денег, которые отсылают потом в Париж, в Союз инвалидов.
Собравшая больше всех денег получает титул «Королевы русской колонии», что немало способствует соревнованию между дамами. Люди, с которыми мне приходилось там встречаться, произвели на меня самое лучшее впечатление. Все они очень гостеприимны, все тоскуют по родине.
Концерты мои прошли удачно и на время всколыхнули обычно монотонную жизнь колонии.
Из Сан-Франциско я отправился в Голливуд.
Кто только не встречал меня на вокзале! Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель!
И все бывшие, бывшие, бывшие…
Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, адмирал – фотографию, прокурор – комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил чёрную бороду и в кавказской черкеске с кинжалом стоит у дверей ресторана и открывает двери гостям.
Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они здесь? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? И какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские. жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится и все кажется, что где‑то лучше живётся. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз жить не у себя дома, так не все ли равно где? Мне вспоминаются слова Марины Цветаевой:
Мне совершенно все равно,
Где совершенно одинокой
Быть…
Все эти русские в Голливуде группируются вокруг киномира. Большинство работает статистами. Другие же… Кто работает в костюмерных, кто в фотографиях, кто служит гримёром, кто по части лошадиного спорта. Голливуду нужны тысячи специалистов в самых разнообразных областях для различных постановок. Нужны инженеры, механики, архитекторы, парикмахеры, наездники, музыканты, фотографы, осветители, дрессировщики зверей, атлеты, акробаты, имитаторы, звукоподражатели, великаны, лилипуты, уроды, калеки…
Сотни фильмов самых разнообразных сюжетов проходят ежегодно через студии Голливуда. При мне ставился фильм с таким сюжетом: какой‑то содержатель труппы ярмарочных балаганных «аттракционов» – всяких «женщин с бородой», сросшихся близнецов, карликов и прочих – зафрахтовал корабль, чтобы везти свою труппу по свету. Корабль терпит крушение, и вся эта масса уродов и калек выброшена на необитаемый остров. Что было дальше, я не помню, но для этого фильма со всего мира собирали всяких монстров и уродов. Навезли их в Голливуд сотни. Многие из них по окончании фильма остались в Голливуде в надежде, что когда-нибудь их услуги ещё понадобятся.
В большинстве голливудцы живут от картины до картины. Главный и, собственно, единственный источник существования – это фильм. Почти в каждом фильме нужна толпа, иногда очень многочисленная. Поэтому статисты всегда требуются. Целый день вся эта публика сидит дома в ожидании телефонного звонка. Если на завтра нужна толпа, заведующий отделом, у которого записаны телефоны всех статистов, телефонирует и предупреждает:
– Завтра к шести утра.
Это означает заработок от десяти до двадцати пяти долларов, в зависимости от того, что нужно. Если светскую толпу – значит, нужны фраки и вечерние платья, – тогда платят дороже, если уличную – значит, в чем попало, – это дешевле.
Позвонить вам могут в любой момент до пяти часов вечера. Все сидят дома, боясь пропустить звонок и потерять заработок. Поэтому днём улицы Голливуда совершенно пусты. Все или заняты в ателье, или сидят дома и ждут…
В общем же Голливуд глубоко провинциален. Все интересы там вертятся вокруг фильмов. Жить там скучно.
Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести – получил приглашение в знаменитый «Голливуд Морнинг Брэкфаст клаб». В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление ГМБК просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого‑то числа во время утреннего завтрака. Я равнодушно повертел конверт в руках и осведомился:
– На кой шут мне такое приглашение?
Менеджер был возмущён.
– Безумец! – патетически восклицал он. – Он ещё спрашивает зачем… Да знаете ли вы, что в этом клубе состоят членами все нью-йоркские и чикагские миллионеры?
– Ну, а дальше что? – не сдавался я. – Миллионов своих они же нам не оставят?
– Как? А реклама? А честь какая! Ни один русский не переступал порога этого клуба, – возмущался он. – Они приглашают только мировых знаменитостей! Понимаете? Вы – форменный самоубийца.
И он потрясал письмом в воздухе и кипятился.
Я понял, что сопротивление бесполезно.
– Реклама – прежде всего! – кричал он.
Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться следовало… в семь часов утра.
Это меня приводило в отчаяние.
«Что за дурацкая идея приглашать артиста в семь утра! – думал я. – Никогда в жизни я ещё не пел на рассвете!»
Но выхода не было.
На другой день а шесть с половиной утра за мной заехала машина клуба, и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести, и беседовал с какими‑то упитанными личностями, которые старались меня развлечь. Напротив сидела французская кинозвезда Даниель Дарье, моя парижская приятельница, и делала мне «страшные глаза», вся искрясь смехом. Подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, яичницу.
Время от времени поднимался какой‑нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая её грубыми шуточками и словечками бродвейского арго. Почему эту ерунду надо было говорить именно утром?
Потом обо мне был зачитан небольшой докладец, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать.
Не будем говорить о том, как я пел. Меня легко поташнивало от этих разговоров, от вида яичницы, которой я терпеть не могу, от папирос натощак и всего этого добродушного кретинизма. Аплодировали они тем не менее щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на завтраке, и среди этих мешков с золотом робко серела моя скромная фамилия, как бедная родственница за богатым столом…
Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны.
Как‑то на одном из «парти», устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой, красивой американкой М. Жена одного из магнатов кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски независимая, она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была – муж не позволял ей сниматься, и её время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя «парти» или её приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких свободных американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше.
Однажды сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик на состязаниях.
– Вы когда‑нибудь убьётесь, дорогая! – сказал я ей.
М. только рассмеялась.
– Это будет самым лучшим выходом из моего положения.
Она была разочарована.
Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила её. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полуоткрыв рот, мечтательно вздыхая.
Однажды ночью, после одного из таких «парти», она, находясь под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.
На другой день её хоронили. Я послал ожерелье из гардении и поехал в «Фенераль бюро», где были назначены похороны.
В большом, похожем на католический собор сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора – все, кто был так или иначе связан с деятельностью её мужа, пришли отдать М. последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что‑то вроде сцены или эстрады, задёрнутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар гонга. Занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала… живая покойница!
Она сидела, положив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что‑то в коктейльницу. Она была причёсана, нарумянена, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой, на шее её было моё ожерелье. Я окаменел от ужаса.
Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берётся за похороны, оно спрашивает родственников:
– В каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз?
Если женщина была хозяйкой, её показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей – в детской и т. д. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз.
Была мёртвая тишина. И вдруг с хоров полились звуки музыки. Оркестр, приглашённый из её любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва «Очи чёрные», потом «Две гитары» и, наконец, фокстроты.
Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах её любимый коктейль и сандвичи.
– Танцуйте, танцуйте! – истерически выкрикивал её муж. – Она так любила танцы!..
Между прочим, кладбище в Голливуде, наверное, самое красивое в мире. Оно представляет собой огромный парк с газонами, весь в цветах и редчайших деревьях, без единого креста или памятника. Каждая могила имеет только небольшую бронзовую доску, чуть наклонно вкопанную в землю, с именем покойника, и больше ничего. Вокруг цветы. Плакучие ивы. Пальмы. Если не присматриваться к газонам, то кажется, что это просто парк для публики. Там похоронены все экранные заезды, в своё время ушедшие из жизни. Я видел могилы Барбары Ламар, Рудольфо Валентино, Дугласа Фербенкса и других.
Звезды живут в самой дорогой части Голливуда – Беверли-Хил. Там у них собственные или снятые внаём роскошные виллы. Так полагается для рекламы. Положение обязывает, и жить поскромнее звезда не имеет права. У неё должна быть роскошная машина, собственные секретари, горничные, заведующий её рекламой и пр.
Но фильмовый век такой звезды довольно короток. Пять-шесть лет, и она уже сходит со сцены. За небольшим исключением, никто из них не превышает этого срока. Правда, за это время она получает бешеные гонорары, но на представительство уходят тоже бешеные деньги. Поэтому очень немногим удаётся накопить денег и обеспечить своё будущее. Я видел немало потухших звёзд, которые нуждались.
В Голливуде очень много красивых женщин, но и красивых мужчин не меньше. Все эти люди наехали сюда из разных стран в надежде на счастье. Но…
Счастье? К счастью надо красться,
Зубы сжав и притушив огни,
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним! —
как говорит шанхайская поэтесса Лариса Андерсен. Счастье улыбается очень редко и очень немногим. В Голливуде трудно поймать шанс. Все крупные роли играют звезды. Почти все они жены или подруги продюсеров – директоров, фильмовых магнатов или режиссёров. Держатся за своё положение они довольно цепко и никого к ролям и близко не подпускают. Все разговоры о том, что такой‑то режиссёр открыл такую‑то звезду, – это сказки для доверчивой публики или рекламы. Никаких звёзд никто не открывает. Все они давно уже открыты и сияют довольно продолжительное время. Я не говорю о таких, как Норма Ширер, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, – это звезды первой величины. Их век продолжается довольно долго. Они прочно завоевали публику, и время как будто не касается их. Во всяком случае, на экране. Правда, искуснейшие гримёры делают чудеса, замазывая на их лицах следы времени, опытнейшие осветители, комбинируя контрасты света и тени, скрадывают нежелательные дефекты. И только с годами, когда все эти способы уже перестают помогать, они переходят на другие роли, более солидных и зрелых женщин. Тогда на их место продвигаются новые, молодые звезды – жены и подруги директоров или продюсеров. Правда, Голливуд приглашает из Европы время от времени ту или иную звезду, но это гастролёрши. Контракт с ними делают временный и настоящего положения не дают. Это нужно для того, чтобы завоевать американским картинам тот или иной иностранный рынок. Для этого покупают любимицу или любимца данной страны и, сняв с ним ряд фильмов, пускают их на экраны его родины.
При ближайшем рассмотрении звезды оказываются далеко не такими красавицами, какими мы привыкли видеть их на экране. Красота в кино второстепенна. Главное – фотогеничность. Важно, чтобы самый каркас, так сказать, лица был фотогеничен, а красоту уже вам добавят гримом и освещением. Часто очень красивые лица теряют из‑за этого на экране. Вообще в Голливуде происходит обратное явление. Там звезды почти все некрасивые, а статистки – красавицы.
Этими куклами Голливуд наполнен до отказа. Иногда, идя по улице, буквально разеваешь рот, встречая девушек такой необыкновенной красоты, что дух захватывает. Но это какие-нибудь продавщицы из магазинов, или кельнерши из кабаре, или маникюрши. Они приехали сюда из далёких стран, уже ухлопали два-три года на борьбу за карьеру в фильме и разочаровались.
Положение мужчин почти такое же, с той только разницей, что одни из них, имея средства, уезжают обратно на родину, ничего не добившись, а другие, так сказать, более слабые духом, устраиваются на содержание к богатым старухам, которыми кишит Голливуд. В его окрестностях есть местность «Пассадина», вся застроенная особняками и роскошными виллами. Там живут вдовы миллионеров, старухи-рантье, обладательницы огромных капиталов, оставленных им мужьями. Делать им абсолютно нечего, и поэтому они «усыновляют» интересных молодых людей, которых и водят за собой всюду, как мопсов на цепочке. Молодые люди эти всегда великолепно одеты, имеют роскошные машины и грустно глядят на голливудских девчонок. Многие из них приехали из Аргентины или Мексики, где были пастухами, гоняли по степям и прериям диких лошадей, накидывая на них лассо, – словом, были простыми ковбоями. Теперь они выхолены, выстрижены, с чёрными узкими усиками и пальцами в кольцах, играя глазами, грустно пьют виски и бренди и вздыхают о далёкой родине… Почти все они снимаются фигурантами в фильмах и все ещё не теряют надежды выдвинуться. Некоторые из них женились на потухших звёздах, у которых ещё остались деньги.
Русские были одно время в очень большой моде в Голливуде, особенно во времена немого кино. Тогда в студии попало много русских музыкантов и артистов. Я встречал Михаила Бакалейникова, Макса Рабиновича, которые работали аранжировщиками, Темкина, Владимира Друкера – прекрасного трубача. Одно время работал наш харьковский виолончелист Яков Бунчук. Многие уже умерли и похоронены на голливудском кладбище. Умер когда‑то знаменитый московский опереточный артист Михаил Вавич, умер Оскар Потокер…
В Голливуде есть маленькая русская церковь, где все иконы написаны или пожертвованы нашими соотечественниками. Есть небольшой клуб. Большим успехом пользовалась наша русская певица Нина Павловна Кошиц, которую, вероятно, ещё помнят москвичи, – обладательница чудесного голоса, настоящий русский соловей. У неё была собственная студия. Она давала уроки пения голливудским звёздам, иногда выступала сама на больших концертах. Я слышал её с большим симфоническим оркестром в «Голливуд-боул», в горах за Голливудом, где выстроена огромная ротонда на двадцать тысяч человек. Играл Хейфец. Нина Кошиц пела из «Евгения Онегина». Её голос звучал, как жемчуг, который сыплется на серебряное блюдо. Успех она имела огромный.








