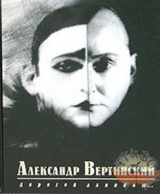
Текст книги "Дорогой длинною..."
Автор книги: Александр Вертинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
А раньше жили не спеша. Выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке, болели обстоятельно – лёжа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, без нудных анализов, без анкет.
Наша нянька, заболев, на вопрос «Что с тобой?» отвечала всегда одно: «Шось мене у грудях пече». А болезни‑то были разные.
Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой‑нибудь лет в девяносто пять решал вдруг, что умирает. А и пора уже давно. Дети взрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он живёт. Вот съедутся родственники кто откуда. Стоят. Вздыхают. Ждут. Дед лежит на лавке под образами в чистой рубахе день, два, три… не умирает. Позовут батюшку, причастят его, соборуют… не умирает. На четвёртый день напекут блинов, оладий, холодцов наварят, чтобы справлять поминки по нем, горилки привезут ведра два… не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся. Томятся. Не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, встаёт со смертного одра и говорит: «Ни! Не буде дила!» И идёт на двор колоть дрова.
А теперь?
Не успеешь с человеком познакомиться, смотришь – уже надо идти на его панихиду! Люди «кокаются», как тухлые яйца. У всех склерозы, давления, инфаркты. И неудивительно. Век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти. А телефоны? А телевизор? А всякие магнитофоны? Ужас! Кошмар! И все это орёт как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья! И везде: в собственном доме, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей. Где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой‑то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют: «Пусть говорит». – «Зачем?» – «Так…» Они точно боятся, что если оно замолчит, то будет хуже. Не дай Бог, ещё что‑нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое‑то! Ни почитать, ни подумать, ни сосредоточиться невозможно.
А вечером дети садятся за телевизор, выгнав главу семьи из кабинета, и сладкие, приветливые, «очень миленько» причёсанные телетети начинают рассиропливать какую‑нибудь копеечную историю с «музычкой» и танцами или показывать захудалый фильм двадцатипятилетней давности, где играют молодые актрисы, которые уже, слава Богу, старухи, которых уже побросали четвёртые мужья и которые никак не могут бросить сцену. И вы думаете: «До чего же эта корова Закатайская была когда‑то худенькой и хорошенькой!» И прямо диву даётесь.
Я ненавижу телевизор. Из‑за него приходится выкидываться из кабинета уже в семь часов вечера: приходят подружки дочерей. Я собираю свои несчастные листки и черновики и иду покорно в столовую – работать. Если там не гладят и не кроят. Пристроившись где‑нибудь на уголке, я с трудом выковыриваю из головы какие‑то «воспоминания», крепко закрыв три пары дверей, чтобы не слышать, как уважаемые товарищи по искусству орут благим матом, изображая волевых людей и героев!
За что мне сие?.. Даже разложить свой материал на столе нельзя как следует. Стол завален учебниками. Трогать их нельзя. Дочки вернутся после телевизора доделывать уроки и т. д.
А меня сейчас уговаривают купить магнитофон. Нет! Дудки! Через мой труп!
Так вот, раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тёти Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл две-три песенки, да и тот был сломан…
Вторая моя тётка, тётя Саня, жила побогаче. У неё было именьице – хутор «Моцоковка», около Золотоноши. Фруктовый сад занимал пятьдесят десятин и был её гордостью. Там росли яблони всех сортов – ранеты, антоновка, золотой пармен, кальвиль и другие сорта; груши бэра, дюшес, принц-мадам, лимонные, бергамоты; была клубника «виктория», ананасная, лесная и пр.; смородина, крыжовник, малина белая и красная; розовая и белая черешня; шпанка – бледно-красная вишня с косточкой, которая была видна насквозь; вишня чёрная, крупная, сладкая и кислая; абрикосы, морели, персики. Перед домом были разбиты клумбы. Каких цветов только там не было: и резеда, и флоксы, и маргаритки, и астры, и бегонии, и гладиолусы, и низко стелющиеся по земле разноцветным ковром декоративные растения, и герань, и сирень, и хризантемы, и георгины, и мальвы, и жасмин, и кручёные панычи, лиловые, как колокольчики, которые вились вокруг окон и беседок и закрывали весь фасад дома, и гиацинты, и розы. Всех сортов розы – огромные, величиной с чашку, и мелкие, вьющиеся, чайные, бледно-жёлтые, разливающие к вечеру свой аромат, и белые, почти голубые, без запаха, чистые и прекрасные, как католические девственницы-монахини, гордые и холодные в недоступной красоте своей.
На конюшне стояли кони, их было штук десять: одни для верховой езды, другие – для упряжки. Были фаэтон, коляска на рессорах, шарабан и линейка. Все это прельщало и восхищало мой детский ум, и я мог целыми днями торчать на конюшне, наблюдая, как чистят, кормят и прогуливают лошадей.
А обеды… У тётки был повар Леонтий. На первое, например, он подавал украинский борщ из свежей капусты, затолченный салом и чесноком, с молодыми голубями, фаршированными пшеном с укропом. Голубей вынимали из борща и подавали на блюде. Потом были караси в сметане из собственного «ставочка», потом какая‑нибудь тетёрка или дрофа, которых подстрелили кузены, потом мечта всей моей жизни – вафельный пирог с малиновым вареньем и сбитыми сливками. Я отъедался вовсю: ведь в городе у тётки я вечно был голоден. Часто едва вставал из‑за стола. А через два-три часа снова хотелось есть!
Тётка Саня была добрейшая и милейшая тётушка. Полная, рыхлая и добродушная, она уютно сидела на том месте, на которое посадила её судьба.
В июле в «Моцоковку» к концу полевых работ, когда весь урожай уже бывал снят и тётка ждала покупателей, приезжал старый еврей Шевель, худой, длинный, с кнутовищем в руке и в долгополом пыльнике. Он подолгу сидел с тёткой в гостиной, торгуясь с ней мягким, тёплым и ласково-убедительным голосом, бил «на чувство», разжалобливая её описанием своих бед и несчастий, и покупал весь урожай за полцены – за какую‑нибудь тысячу-две рублей. Тётка, давно не видевшая денег, была весьма им довольна и отказывала из‑за него другим покупателям. Шевель был тонкий сердцевед, и тётка к нему благоволила. Кроме того, у него всегда можно было одолжить пару сот рублей в счёт будущего урожая.
Много милых сердцу воспоминаний связано у меня с «Моцоковкой». Помню, однажды я приехал туда перед Пасхой. Была звонкая, голубая, стеклянная весна. Пасха была в апреле. Уже прилетели журавли, и на крыше старой «коморы» появился первый одинокий аист, озабоченно заготовлявший гнездо для своей семьи. Целыми днями он таскал в клюве сухие ветки и прошлогодние листья, как заботливый муж, которому жена поручила заранее приготовить квартиру к переезду. Уже степенно ходили за плугом по борозде в поле солидные и серьёзные грачи и поедали червей, уже в солнечные дни где‑то очень высоко в небе кувыркался невидимый жаворонок. Набухали почки сирени в саду, распускалась верба над прудом.
Старые, общипанные галки и вороны, намёрзшиеся за зиму, чистили свои мокрые перья, сидя на плетнях, и хрипло кашляли, как ночные сторожа, греясь на солнце и оживлённо болтая на своём птичьем языке. А в небе тоже шла предпраздничная уборка. Там передвигали, выбивали и выколачивали огромные белые перины облаков, на которых, вероятно, всю зиму спали ангелы.
К заутрене ездили в Песчаное, за двадцать вёрст, в маленькую деревянную церковь – к отцу Ионе. Служба была длинная и торжественная. Сочно гудел чудесный украинский хор, состоявший из дивчат и парубков. В двенадцать часов ночи пели «Христос воскресе» и обходили крёстным ходом вокруг церкви. Потом отстаивали раннюю обедню и ехали большой компанией со священником к нам, в «Моцоковку», разговляться. В гостиной уже ждал огромный стол, накрытый скатертью и украшенный гирляндами зелени. Чего-чего на нем только не было! И поросята, и индейки, и гуси, и куры, и медвежий копчёный окорок, и ветчина, запечённая в тесте, и вазы с яйцами всех цветов – от красных и синих до цвета майского жука, серебряных и золотых, и целый холодный осётр на блюде с куском салата во рту, и сырные пасхи – шоколадная, сливочная, лимонная, запечённая ванильная, и кренделя, и торты, и вазы с фруктами, и конфеты, и пирожные. Между всеми этими яствами трогательно поднимали свои головки нежные ранние гиацинты – синие, голубые, розовые, жёлтые. Было шумно и весело. Было много молодёжи. Барышни – дочери окрестных помещиков и земской интеллигенции, разодетые в кисейные белые платья, – долго вертелись перед зеркалами, охорашиваясь и поправляя причёски и бантики, наконец рассаживались по порядку. По соображениям, ей одной известным, тётя рассаживала будущих женихов и невест рядом, на одном конце стола, а стариков отдельно – на другом. Кузены выбирали себе, конечно, самых интересных девиц.
Насколько мила и добра была тётя Саня, настолько сыновья её (мои кузены) были типичными помещичьими сынками.
Старший, Володя, учился в Киеве в аристократическом закрытом заведении – коллегии имени Павла Галагана. Принимали туда только юношей дворянского происхождения, и жили они на ьолном пансионе в прекрасном особняке с садом на Фундуклеевской улице.
Это учебное заведение было предметом моих детских мечтаний. Почему? Во-первых, потому, что кормили там чудесно, а во-вторых, потому, что формой был штатский чёрный костюм с белой рубашкой и галстучком и штатское чёрное платье, и только на чёрной же мягкой фуражке был золотом вышит герб заведения «К. П. Г.». Нас, гимназистов, не пускали ни в оперетту, ни в шантан, ни в ресторан, а они ходили куда им угодно в своём штатском платье и только фуражку прятали в карман пальто. Без фуражек это были вполне штатские молодые люди. Денег у них было много, и они кутили по ночам, шляясь по всем кабакам Киева, и, хотя в двенадцать ночи им полагалось находиться в постели, они входили в стачку со сторожами и педелями и возвращались в свой дортуар под утро через окно. В этом даже были своего рода пикантность и молодечество, и они об этом рассказывали не без гордости. Учились там, конечно, плохо. Отношение к этим жеребчикам было сверхгуманное, и они свободно переходили из класса в класс. В нашей гимназической демократической среде они были предметом зависти и восхищения. Володю и Серёжу тётя Саня, конечно, определила туда, ибо ни в одну гимназию они не смогли бы попасть при своих скудных знаниях.
Серёжу скоро из коллегии выгнали – это был настоящий недоросль, ненавидевший ученье вроде меня, а Володя закончил коллегию и поступил в университет, продвигаясь неуклонно вперёд при помощи товарищей, бедных студентов, которые за деньги держали за него экзамены. В конце концов Володя стал прокурором, а Серёжа женился на дочери псаломщика и остался в имении «разводить овечек». Через год-два женился и Володя на дочери жандармского генерала Захарияшевича.
Расставшись с ними задолго до революции, я уже больше никогда их не видел.
Рано или поздно лето кончалось, и надо было возвращаться в Киев. В городе жилось мне, в общем, плохо. Из гимназии меня то и дело выгоняли. Ботинки мои, да и гимназическая форма изнашивались довольно быстро. Я носил фуражку с гербом гимназии, где цифра 4 (четвёртая) была уже выломана и оставались одни дубовые листики. Обыватели смотрели на меня с презрением. В Киеве на Подоле, на Александровской улице, был целый ряд магазинов готового и подержанного платья и обуви. Приказчики были стопроцентные жулики и «жучки». Они стояли перед дверьми своих магазинов, прямо на улице, и ловили покупателей.
– Пани́ч! Купите диагоналевые бруки! – кричали они и хватали за фалды прохожих, таща их в свои магазины. Сопротивляться было невозможно.
– Мне не нужны брюки! – пробовали вы защищаться.
– Тогда купите дров!
– Ну зачем мне дрова?
– Тогда купите гроб! – издевались они.
– Смотри на него! Что он хочет? – удивлённо пожимая плечами, спрашивали они друг друга. – Псих какой‑то! Не знает, что ему надо!!
А мне ничего не было надо, вот и все. У меня не было денег ни на брюки, ни на дрова. А если уж удавалось скопить рубля полтора и я шёл к ним, чтобы купить подержанные ботинки, ибо мои совсем уже расползались, то, будьте уверены, они всучивали мне абсолютную дрянь, кое‑как подклеенную картоном и замазанную чернилами. Ботинки эти распадались через полчаса. Ох, жулики, жулики! Царство вам небесное! Прощаю вас ото всей души. Спасибо вам за детство, за то, что мне есть что вспомнить! Киев, Киев, дорогой мой и любимый Киев!
Раз в году, в феврале, была так называемая «контрактовая ярмарка», на которую съезжались купцы и фабриканты для заключения сделок и договоров на поставки товаров, Территория под эту ярмарку отводилась на том же Подоле. Чего-чего туда только не навозили! Ковры, сукна, материи, шелка, посуду, меха, полотно, белье, кисею, бархат, обувь, золото, серебряно-ювелирные изделия, драгоценные камни, духи… и мыло – яичное, сосновое, земляничное, дегтярное, туалетное, издававшее резкие, бьющие в нос запахи на всю площадь. Продавали его казанские татары в тюбетейках.
Продавцы ковров из Армении, любезные и ласковые, бойко зазывали женщин, играя красивыми чёрными глазами с длинными, почти женскими ресницами. Какие‑то восточного вида торговцы – пальцы сплошь унизаны кольцами – ловко раскладывали шелка перед восхищёнными дамами, щедро разбрасывая свой товар на прилавке.
Старые сивые украинцы с чубами времён Запорожской Сечи торговали глиняной посудой – «макитрами», кувшинами, мисками, горшками, расписными «кониками».
Приезжие персы продавали халву всех сортов, рахат-лукум, заливные орехи, миндаль и фрукты в сахаре.
Духи, одеколоны, пудру, помады всех цветов, восхваляя их качества, продавали какие‑то одесситы.
– Оренбургские пуховые платки, косынки, ситец, кумач, полотно! – исступлённо кричали приказчики.
В балаганах зазывалы показывали «женщину с бородой» и «сросшихся близнецов».
Все это гудело, орало, свистело, требовало, звало, уговаривало:
– Тульские пряники!
– Казанское мыло!
– Астраханские сельди!
– Саратовские сарпинки!
А надо всем этим стоном, ором и звоном отчаянными воплями захлёбывались «умирающие черти».
И высоко в голубое небо улетали неожиданно оторвавшиеся разноцветные воздушные шары. Мы бродили по ярмарке целыми днями и вместо того, чтобы идти в гимназию, весело проводили время, радостно впитывая в себя весь этот весенний шум и гам и разглядывая яркую, залитую солнцем толпу.
Там же, на Подоле, несколько в стороне, стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый «контрактовый зал». Днём в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за десять рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей «актёрской колыбелью», если так можно выразиться.
Среди киевской молодёжи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть главным образом показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы (в долг), сами выклеивали на всех заборах худосочные, маленькие, жидкие афишки… и играли, играли, играли. Чего мы только не играли! За что не брались! И «Казань» Григория Ге, и «Волки и овцы» Островского, и фарсы вроде «В чужой постели», и даже «Горе от ума»!
Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто же из так называемой «широкой» публики решился бы посещать наши представления, прельстившись этими афишками? Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов, очертя голову бросающихся в этот таинственный и манящий омут.
Мы «докладывали» до каждого спектакля. То есть что значит «мы»? Нам «докладывать» было не из чего. И выручали нас, конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из «актёров» и «актрис», со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывала языком ненасытная корова искусства. Многие из широко известных ныне актёров обязаны этому дому своей карьерой. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский – из Малого театра. Были, конечно, в нашем кружке и молодые люди, вовсе не одарённые, но тем не менее они играли. Я помню, например, двух братьев Шиманских, которые играли часто, ибо у них были богатые родители. Они снимали театр и ставили спектакли, играли главные роли, приглашая нас на подмогу. Это тоже было нам на руку. Главное было – играть! А что и какие роли – это не имело значения. Братья смело кидались на «Разбойников» Шиллера, на ибсеновского «Бранда», на «Ревизора». Доходили чуть ли не до «Гамлета». Причём говорили Шиманские с ужасающим польским акцентом. Были талантливый актёр Персион, бездарный Сашка Муратов и ещё многие другие, имена которых я позабыл. Женщин я что‑то не помню. По-видимому, особых талантов среди них не было. А может, и были, но не пошли потом дальше по этой дороге – повыходили замуж и не попали на сцену.
Было и ещё одно место, где мы могли разворачиваться. Это все на том же Подоле. «Клуб фармацевтов».
Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств – от поэзии до театра, живописи и музыки – в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтённой профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что профессия очень уж скучная и выписывать латинские рецепты микстур и порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки. А дальше? Потом? Торчать дни и ночи за прилавком аптеки и отпускать клиентам слабительные, клизмы и различные резиновые изделия. Не такое уж это завидное дело! Да ещё надо принять во внимание то тяжёлое время! Проблема правожительства для евреев, в особенности для молодёжи, была очень важной – от её решения зависела возможность получить образование. Но куда мог пойти учиться еврейский мальчик в царское время? В гимназиях был установлен для еврейских детей строго ограниченный процент, в университетах и технических училищах – тоже, в больших городах и столицах евреи без высшего образования или высокого имущественного ценза могли жить только в определённых районах. Учившимся же в зубоврачебных школах и на курсах фармакологии жить в Киеве разрешалось. Вот почему почти все еврейские юноши были фармацевтами, а все эти красивые девушки, в которых мы влюблялись и за которыми ухаживали, были ученицами зубоврачебных школ.
Все эти молодые люди смотрели на свою учёбу как на вынужденный компромисс. Возможность посвятить себя искусству давала надежду избавиться от перспективы стать дантистом или фармацевтом. Вот почему они носили широкополые «испанские» шляпы и чёрные прорезиненные плащи-накидки с золотыми львами в виде застёжек, в коих имели весьма поэтичный и артистический вид. Впечатление усугубляли ещё художественные бархатные куртки с пышными, небрежно повязанными бантами. Они поступали в драматические и оперные школы, параллельно учась, так сказать, «на артистов». Иным из них мешал, правда, акцент и чрезмерный темперамент. Но в конце концов все это было поправимо. Важно было как‑то причаститься к искусству!
Мы, киевляне, над ними, по правде сказать, немножко посмеивались, но в общем жили с ними дружно. Киевская еврейская публика была очень отзывчивой на всякие виды искусства. Это, собственно, была главная театральная публика, потому что мои дорогие сородичи-хохлы были ленивы и не очень‑то посещали театры.
Так вот, на Подоле был «Клуб фармацевтов», где по субботам устраивались семейные Журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений.
Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности и, если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая по слуху.
Я вышел. Поклонился. Открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыханье. Я заэкал, замэкал… и ушёл при деликатном, но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось моё первое сольное выступление.
Вы думаете, это остановило меня? Ничуть!
В следующую же субботу я появился на той же эстраде в качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, мною самим сочинённых в итоге пристальных уличных наблюдений на Подоле, возле магазинов готового платья.
На этот раз я имел большой успех.
Такого рода выступления, однако, не удовлетворяли меня. Я мечтал о театре – настоящем драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь.
Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток: я не выговаривал буквы «р», и это обстоятельство дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист восьмого класса нашей гимназии Жорж Зенченко. Убеждённый второгодник, просидевший в гимназии немало лет.
На вид ему можно было дать лет двадцать: высокий, статный и смазливый парень. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные чёрные усики. И все горничные и модистки Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый и ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго являлись жертвами его коммерции. Он продавал нам все что угодно – от финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов, папирос. На переменках в клозете он широко играл в «орлянку», причём почему‑то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно. Его боялись даже учителя. Так вот этот Жорж, каким‑то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему же принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были коротки и предельно ясны:
– Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам.
Так говорил он каждому, желавшему поступить в театр.
А статисту в то время платили пятьдесят копеек за спектакль! И нас было человек пятьдесят—шестьдесят. А иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, ибо мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме, возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас своей игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства!
Так что Зенченко мог жить припеваючи.
Но и этого ему было мало.
Когда он замечал, что у кого‑нибудь из статистов появлялись какие‑нибудь деньги, Зенченко вдруг подзывал его и снисходительно говорил:
– На будущей неделе я, может быть, дам тебе одну рольку. Там целых два или даже, кажется, три слова. А пока сбегай в лавочку и принеси мне полбутылки водки, франзолю, четверть фунта ветчины и десяток папирос.
Денег на эти закупки он, конечно, не давал.
А труппа Соловцовского театра, которую держал тогда Дуван-Торцов, была очень сильной. Каких только актёров в ней не было! И Дмитрий Смирнов, и Булатов, и великолепный Неделин, и хрупкий, утончённый любовник-неврастеник Горелов, сын Владимира Николаевича Давыдова, потрясавший нас в роли Освальда в «Привидениях» Ибсена, и красавец Орлов-Чужбинин с музыкальным, певучим голосом.
и Двинский, и Вася Болховской, прекрасно игравший старого студента в модной тогда пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», и Саша Крамов, и Багров, и Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актёр и довольно трудный человек.
Среди актрис были в этой замечательной труппе и вдохновенная Вера Юренева, неповторимая Психея в пьесе Жулавского «Эрот и Психея», или ибсеновская Нора, или Бронка в пьесе Пшибышевского «Снег». И «старуха» Токарева, и синеглазая красавица Елизавета Чарусская. И Пасхалова! Карелина-Рич! А обаятельные молодые актрисы, такие, как Ольга Волконская, Алексеева-Месхиева, Лидия Лесная, которая к тому же была и поэтессой! Да разве упомнишь все имена? Одно могу сказать – это была блестящая плеяда актёров.
С двух часов дня, когда заканчивались уроки в гимназии, мы уже дежурили на Николаевской улице возле театра. Это было время, когда актёры возвращались с репетиций домой. Мы простаивали часами, чтобы только взглянуть на них. Для нас это были полубоги. Мы не видели и не знали их в быту, в домашней обстановке, в личной жизни, мы видели и знали их только в спектаклях, в тех ролях, где они подымались порой до вершин своего мастерства. А как счастливы и горды были мы, если актёр, которому мы подобострастно кланялись на улице, любезно и вежливо кивал нам головой, узнавая знакомых статистов.
А ведь, кроме Соловцовского, были ещё и другие театры с другими актёрами. В театре «Бергонье», например, играла великолепная комедийная труппа. Там нередко гастролировали такие актрисы и актёры, как Грановская, Баскакова, Астрова, Мурский, Поль, Вронский, Вовка Блюменталь, у которого был какой‑то необыкновенный талант играть все что угодно – и все играл чудесно. Он был невыносим порой в частной жизни. Уверенный в своей неотразимости и обаянии, в силе своего имени, он позволял себе черт знает что. Но покорённые киевляне все прощали ему за его редчайшее свойство «самовоспламенения» на сцене – в любой момент и в любой роли!
Был в Киеве и театр оперетты, который играл зимой в том же театре «Бергонье», а летом в саду «Шато‑де-флёр». Звёздами оперетты были красавица Легар-Лейнгардт, Зброжек-Пашковская и Виктория Кавецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь-Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперетте «Вольф Пфефферкорн» на сцену в халате, весь обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены – весь зрительный зал уже задыхался от хохота…
Великим постом на гастроли приезжали Вавич, Монахов, Невяровская, Щавинский и многие другие прославленные в Киеве артисты.
Всеми правдами и неправдами мы, молодёжь, пробирались на их спектакли, подкупая «недорогих» капельдинеров, на галёрку и умирали от восторга. Актёры «премьеры» пели, танцевали и одевались «сногсшибательно» – «шикарно»! И уходя с этих спектаклей, мы, молодые любители сцены, острее чувствовали своё ничтожество, понимая, что нам никогда не дотянуться до этих вершин.
А так и надо! Сравнение – великая движущая сила, которая побуждает нас к соревнованию и самосовершенствованию.
Летом в Купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу, в маленьком деревянном театрике, играла украинская труппа. Саксаганский, Садовский, Карпенко-Карый, Заньковецкая (украинская Комиссаржевская, как её называли), Манько, Сагайдачный и многие другие чудесные, самобытные актёры составляли ядро этой труппы. Как играла «Наймичку» Заньковецкая! Четыре акта театр заливался слезами! Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастого в пьесе «Крути, да не перекручивай»! Из‑за одной его фразы: «Папаша! Это свинство», – произносимой с совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию.
И даже в кафешантанах Киева, которых было три: «Олимп», «Шато‑де-Флёр» и «Аполло», – были такие таланты, что приходилось только удивляться и восхищаться. Кто из старых киевлян не помнит Ю. Убейко, Сергея Сокольского, Бернардова, Н. Плинера, Г.Молдавцева – этих смешных и остроумных куплетистов?
Выступая то в традиционных отрепьях босяков, то во фраках, они приводили публику в восторг своим виртуозным мастерством, своим беспощадным юмором, своей тонкой наблюдательностью. Они вышучивали все. Неудачные пьесы, плохие книги, бытовые несуразности – издевались зло и умно над тогдашними модами, над увлечением цыганскими романсами, над декадентщиной… Только одного из них я терпеть не мог – вульгарного и сального Сарматова.
А женщины? До сих пор в памяти звучат их громкие имена:
– Любовь Мирова!
– Регина де Бергони!
– Каринская!
– Кольчевская!
– Раисова!
– Тамара!
Не говорю уже о Вяльцевой, которая была выше всех. Как пели они! С какой душой, с каким чувством! Чувствительные киевские купцы плакали под утро пьяными слезами над их песнями, пропивая тысячи за одну ночь. И обожали их, поднося им веера из сторублевок, бриллианты и жемчуга, заставляя всю сцену корзинами цветов!
Да, Киев был театральным городом!
Боюсь всё‑таки, что вы, дорогой читатель, заподозрите меня в излишнем пристрастии к ушедшим временам. Люди моего возраста обычно брюзжат, все порицая, и живут воспоминаниями, повернувшись спиной к сегодняшнему дню. Но я не из их числа. Я не живу, уткнувшись в прошлое носом и мыслями.
«За прошлое в ломбарде ничего не дают» – гласит старая немецкая пословица. Алексей Максимович Горький, как вам известно, выразился ещё точнее: «В карете прошлого – далеко не уедешь!» Альфред де Мюссе писал: «Прошлое – это старуха, которая наряжается в розовые платья». Какое же резюме из всего этого? Какой вывод? А вот какой: проводить эту огорчённую неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить её туда осторожно, стараясь не измять её розового платья, – и пусть катится куда хочет! Таково моё личное мнение. Ибо сегодняшний день и особенно завтрашний для меня гораздо важнее, интереснее и дороже. Искусство всегда в движении. В общем, я считаю, что в нашей бурной, торопливой и занятой жизни самое главное – это «добежать до кладбища вприпрыжку». Вот почему меня ужасно раздражают люди, живущие прошлым. Во-первых, они немилосердно скучны в своей неподвижности. Во-вторых, они безбожно врут и путают даты. Все уже перемешалось у них в голове. Знакомясь со мной за кулисами во время концерта или где‑нибудь в вагоне поезда, они начинают разговор приблизительно так:
– Вы знаете, дорогой, я ведь вас ещё в девятьсот… затёртом году слушал в… Крыжополе! (Отродясь там не бывал!)
Я не даю ему кончить:
– Ну ещё бы! – говорю я. – Я ведь начинал ещё при Екатерине!
Или представьте себе даму лет шестидесяти пяти, которая, познакомившись со мной, с места в карьер начинает щебетать:
– Вы не представляете себе, маэстро, какая я страстная ваша поклонница. Ведь я была ребёнком, когда вы уже были знаменитостью. Я помню, мама била меня за то, что я бегала на ваши концерты.








