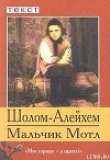Текст книги "История болезни (документальная повесть) - часть первая"
Автор книги: Александр Уланов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Не надо было тебе, сыночек, на это смотреть.
Отрешенно медленно произношу:
– Такая рана быстро не зарастет. Точно оставят в восьмом классе на второй год.
Глаза затуманились от непрошенных слез…
6 декабря 1968 год.
В палате заведующий отделением, лечащий врач и медсестра Нина. Рядом знакомая никелированная тележка с хирургическими инструментами и перевязочным материалом. Виктор Николаевич надевает резиновые перчатки и зажимом вытаскивает из нижней части раны пропитанную желто-зеленым гноем марлевую салфетку, и она смачно шлепается в подставленную медсестрой плевашку. Затем смотрит выжидательно на заведующего.
Руки Ивана Никифоровича сложены на груди, взгляд уперся в мой живот. – он раздумывает.
– Вначале придется ушить свищи, а брюшную стенку сформируем, когда избавимся от межпетлевых абсцессов. Виктор Николаевич, Вы кровь заказали?
– Заказал. Предупредили: «На одного больного слишком большой расход.
Заведующий смотрит на медсестру.
– Позовите Сашину маму.
Нина выглянув из палаты, кричит:
–Тетя Феня! Зайдите!
Иван Никифорович смотрит на встревоженную маму.
– Мамаша! У меня к вам большая просьба! Саше необходимо еще много крови, а она у нас в ограниченном количестве. Нужны доноры! Вы попросите родственников и ваших знакомых, пусть сдадут для Саши кровь.
Мама растерялась.
– Я обязательно сдам. Мой муж и старшие сыновья тоже. А как просить других людей – не знаю.
– Ой! Тетя Феня – встревает в разговор Нина – Да вы только передайте. Вот увидите, люди в очередь выстроятся.
– Хорошо, скажу мужу – но голос у мамы неуверенный.
Иван Никифорович кладет свою руку на мамино плечо.
– Думаю для Саши, многие сдадут кровь – заведующий уходит. Следом вышла мама.
Виктор Николаевич с Ниной продолжают обрабатывать рану. Перекись водорода из бутылки, булькая, льется на кишечник, а навстречу ей поднимается волна серой пены.
– Придется немного потерпеть! – с этими словами врач запихивает в рану большую сухую салфетку.
Мои глаза «выходят» из орбит, руки вцепились в края кровати и мышцы на скулах онемели от напряжения. Чистая марлевая салфетка становится грязной тряпкой – летит в плевашку. Снова льется перекись, процедура повторяется несколько раз, пока очередная салфетка наконец-то остается чистой. Виктор Николаевич опускает очередную салфетку через горловину в темную стеклянную банку. Морщусь от заполнившего палату резкого специфического запаха бальзама по Вишневскому. Доктор поднимает жирную вонючую салфетку левой рукой, так что кончик ее оказывается над местом гнойника, а правой потихоньку пинцетом засовывает ее вглубь, пока не утрамбовывает всю и облегченно вздыхает: – На сегодня все!
Обработка раны закончилась…
7 декабря 1968 год.
Подголовник приподнят. Придерживаемая мамой тарелка, лежит на моей груди. Жиденький суп с плавающими в нем кусочками фарша, ложка за ложкой попадает через пищевод в мой желудок. Запиваю его любимым капустным рассолом. Кишечник ворчит – ожидая работы, но напрасно – непереваренная пища через первые свищи выбрасывается в рану. Мама вздыхает и продолжает кормить.
– Все равно что-то останется.
Завтрак окончен. Отложив пустую тарелку, она убирает из раны жидкость вместе с кусочками фарша из бывшего супа…
Заходит лечащий врач. Мама ему говорит:
– Виктор Николаевич, вся пища у Саши выходит наружу.
– Я как раз по этому поводу и зашел. Профессор завтра хочет попытаться ушить ему свищи, иначе пища не будет усваиваться. В дальнейшем закроем переднюю брюшную стенку.
– Ой, Господи опять! Позавчера сделали и снова!
Поддерживаю врача:
– Мам, кишки то дырявые. Их латать надо!
– Слабенький ты еще сынок. Может попозже когда-нибудь?
– Когда? – поднимаю разноцветную от цветущих синяков руку. Одна кожа и кости остались – все руки исколоты. Закроют свищи – поправляться начну. Врачи лучше знают!
Мама нехотя сдается:
– Вам видней, делайте!
Доктор спокойно:
– Раз согласны, тогда до завтра…
В палату медленно открывается дверь. В проеме стоит маленькая сутулая старушка. Голова аккуратно повязана белым в мелкий горошек платочком, а из-под больничной накидки выглядывает темный до самых пят сарафан из домотканого полотна. До боли родное лицо. Мама радостно восклицает:
– Сырэ патяй (старшая сестра – эрзя) – бросается ей на встречу. – Как же ты решилась приехать? – сестры крепко обнимаются.
Разница в возрасте – пятнадцать лет, но выглядит тетя намного старше. Она подходит ко мне. Целует и трижды крестит своей сухонькой рукой. Вижу на обветренной коже лица морщины и чувствую от нее запах родной деревни.
– Мезе тонь марто, цёрыне? (что с тобой случилось, сынок?)
– Заболел «Сырэ патяй».Ты не переживай за меня. Завтра зашьют кишечник , потом закроют рану и я вылечусь.
– Вадря, вадря Саша (хорошо, хорошо Саша) – Она тяжело вздыхает и возвращается к маме.
«В деревне со мной все говорили на эрзянском. Я в ответ – на русском. Мы понимали друг друга, а главное не надо было язык «ломать» и напрягать голову при разговоре. Вся наша семья звали ее «Сырэ патяй» – так повелось».
Сестры уселись рядом на соседнюю кровать. Мама изливает ей душу, а тетя качает головой и постоянно вторит:
– Вай авай, вай авай! (Ой мама, ой мама!)
Под эрзянский говор вспоминаю свою жизнь в деревне.
«Ежегодно, почти все лето, я проводил в поселке Вейсэ у моей бабушки по отцу – Оксиньи Филипповны. Жители поселка относились к сельсовету в селе Шугурово и являлись членами отдельной бригады колхоза имени Калинина.
В начале 30-х годов, шугуровские коммунисты и активисты, показательно для сомневающихся в колхозном движении, построили на берегу речки возле соснового леса поселок и организовали одну из первых сельхозартелей в Мордовии – «Вейсэ» – (Вместе. Сообщество единомышленников – эрзя.)
Рейсовый автобус из Саранска останавливался в центре Шугурово. До поселка нужно еще шагать по проселочной дороге четыре километра, поэтому я всегда несколько дней гостил у «Сырэ патяй» в селе.
Дом у тети добротный, срубленный из сосновых бревен. Повернув деревянную вертушку, беспрепятственно попадал в просторные сени. Ароматный запах копченного сала, подвешенного веревками к стропилам, ударял в нос. Вдоль стены сусеки, заполненные зерном и смолотой мукой. Открыв массивную дверь, заходил в большую комнату. Стены из ровно стесанных бревен. Потолок, палати, две лавки вдоль стен – все из хороших крепких струганных досок. Почти четверть помещения, занимает свежевыбеленная русская печь. Через четыре окна в комнату проникает много света и воздух в ней пропитан янтарной смолой. Чистота и аскетический порядок во всем. В дальнем углу, где сходятся лавки, стоит массивный стол, на нем самодельная липовая солонка. За дверью справа, аккуратно застеленная широкая кровать.
Ее повзрослевшие сын и дочь, работают в Саранске. Тетя живет вдвоем с мужем Федором.
Дядя Федор худой жилистый мужик, после войны несколько лет просидевший в тюрьме за фразу: «В Германии дороги хорошие, не то что наши», работает в колхозе возницей на лошади. В его распоряжении имелась старая кобыла и телега, состоящая из четырех колес соединенных двумя длинными жердями. На ней он возит бочки с водой и топливом для колхозной техники. Лошадь ходила только шагом, не мешая ему мирно дремать на облучке.
Несколько раз дядя Федя брал меня с собой. Мы с ним развозили на скрипучей телеге свежую колодезную воду, работающим в поле колхозникам и продукты с посудой для кухни. Кухня – это громко сказано. Просто под деревьями выбиралось уютное место, на кирпичи ставился большой чан и на костре варился суп с мясом. Мяса было много, от чего суп получался наваристым и сытным. Ели колхозники лежа на траве, по шесть-восемь человек, расположившись вокруг большой алюминиевой чашки. Обед сопровождался грубыми шутками по отношению к кому-нибудь из рядом лежащих. Не приличные слова и рассказы, примерно такого содержания, «резали» мой детский слух:
– На третьей ферме телка отелилась. Бычок – вылитый Степан, даже мычит как он.
– Опять начал? Ешь, без мяса останешься! – аппетитно уплетая суп, беззлобно ворчит Степан.
– Нет, Степа! Мне все же хочется узнать, как ты сумел ее соблазнить прошлой осенью. Ты же пас это стадо?
Все прекращают есть, ждут
– Пас, я. А вот кто в это время скотником на ферме работал? Не ты ли, Васька?
Все весело смеются, обед продолжается…
Когда везли кухонную утварь на склад, я спросил у дяди Феди:
– Как можно не обидеться на такие слова?
Он передав мне вожжи вытащил из кармана кисет, не торопясь насыпал на газетный обрывок махорку, послюнявив край бумаги свернул «самокрутку», затем с наслаждением раскурил ее и только потом ответил:
– У нас, Саша, обижаться нельзя. Обиженного человека затравят. Пойдет по селу молва и пристанет к нему обидное прозвище пожизненно, может даже перейти по наследству детям и внукам. Прозвище знают в деревне лучше, чем фамилию.
Вот к примеру, сегодня меня спросили: «Чей ты мальчик?»
Я ответил: «Микань Цёкаинь да Псакань Миколень цёра (Митькиной Феклы и Кошкина Николая сын» – все узнали чей ты. Скажи я: «Это сын Ларькиной Феклы Никифоровны и Уланова Николая Ивановича». Никто не понял бы.
Однофамильцев в селе много, а прозвище – оно как клеймо, у каждой семьи свое. Хорошо когда оно красивое, а бывает просто неудобно произносить! Понял?
– Понял. В Вейсэ у бабушки три кошки, поэтому прозвище у нас Псакань (Кошкины)?
– Нет – наслаждаясь куревом, ответил дядя: – Твоя бабушка Окся вышла замуж за Псакань Ваньку (Кошкина Ивана), так что твоему отцу и тебе это прозвище перешло по наследству»…
«Сырэ патяй» рядом со мной в больничной палате – смотрю на нее улыбаюсь, но участвовать в разговоре, нет сил. Аромат сухого сена, парного молока и свежеиспеченного ржаного хлеба витает в больничной палате.
Воскресли воспоминания:
«Мне шесть лет. Лазаю в хлеву по сеновалу. Слышу беспокойный голос тети:
– Почему куры так громко кудахтают?
В ответ кричу:
– Яйца из гнезд собираю!
– Саша! Собирать еще рано!
– А когда же?
– Вечером. Корова из стада придет, тогда и собирай!
– Но уж нет! Вечером корова меня запыряет и все яйца расколются!»
Другой случай:
«Лето. Просыпаюсь глубокой ночью. Тетя спит рядом, а с печи доносится грозное рычание. Тихонько сползаю с кровати, в темноте на ощупь нахожу дверь и быстро через сени выбегаю на улицу. Надо мной светят звезды и «звенят» комары. В одной майке и трусиках сижу на бревне, возле соседнего дома. Веткой в руке отбиваюсь от комаров, а другой крепко сжимаю подобранную с земли толстую палку. Светало. Услышал звук открывающейся калитки.
Голос тети:
– Саша! Ты где?
– Ззздесь – голос дрожит от холода.
Она подбегает.
– Слава тебе Господи, нашелся! Проснулась, тебя рядом нет и во дворе нет – чуть в «гроб» не загнал!
Показывая палкой на наш дом, шепчу:
– Там, кто-то рычит.
– Кто там может рычать? – завернув меня в свою кофту, ведет в дом. В сенях, через неприкрытую дверь, вновь услышал напугавшее меня рычание. Останавливаюсь.
– А это что?
– Да Господь с тобой, Сашенька! – она вошла в дом, приподнялась на печь, да как саданет кулаком вглубь, за занавеску: – У старый черт. Своим храпом ребенка напугал!
Дядя Федор, высунув голову из-за занавески, долго непонимающе моргал глазами: «За что его ударила жена?»
Сестры сидят рядом, беседуют в полголоса на эрзянском. Слушаю.
– Сырэ патяй (старшая сестра), расскажу тебе сон – говорит мама: – Вчера умаявшись, прилегла на минутку. Спала то чуть-чуть, а столько привиделось:
«Вроде бы живу у свекрови в Вейсэ. Спускаюсь по склону к речке. Жарко. Солнце печет. Захотелось пить и свернула к роднику. Нагнулась – в воде муть и мусор плавает. Пить хочется – спасу нет. Стала ладонью грязь разгонять. Измаялась, рука окоченела, силы на исходе. Вдруг мусор расступился. Вода в роднике стала чистой и прозрачной. Зачерпнула ее в ладонь, хотела напиться… И проснулась»: – К чему бы это!?
Как на яву вижу, родное для меня место:
«Пологий склон, заросший высокой травой, с единственным кустом дикой смородины. Пряный запах ее листьев витает в воздухе. Приземистая бревенчатая баня соседей, серая от времени снаружи и черная от копоти внутри, утопает в ланцетовидных листьях девясила. Чуть ниже, покосившийся сруб родника. Склонившись над ним видно, как вырывающаяся из-под земли на свободу вода поднимает со дна желтые песчинки и мелкую гальку. Ощущаю вкус воды «живого» родника и слышу гудение шмеля над золотистыми соцветиями девясила.»
Тетя прерывает молчание:
– Это вещий сон. Болезнь будет долгой, но закончится выздоровлением. Терпи патинем (сестренка), такая ваша доля.
Родные мне женщины крестятся…
Проводив сестру, мама подсаживается ко мне.
– Сыночек, дай Бог тебе силы еще два раза потерпеть. А мне каково у дверей операционной стоять? В последний раз, думала с ума сойду. Каждого, кто выходил, спрашивала: «Как там мой сыночек?» Скажут: «Все хорошо» – на душе легче. Другие пробурчат себе под нос и дальше идут, а у меня ноги подкашиваются. Спасибо Нине Сергеевне – принесла стаканчик разведенного спирта и заставила меня выпить.
– Мам, ты же не пьешь.
– Не пью, а в тот раз выпила и знаешь, действительно полегчало.
– Я тоже пил.
– Что ты говоришь сынок? Папке своему позавидовал?
– Никому не позавидовал. Просто еще в прошлом году с Зориным и Моторевым Вовкой решили отметить первое сентября.
– С ума сошли! С таких лет пить.
– Одна бутылка портвейна на троих – мы и пьяными то не были, разве чуть-чуть, но как приятно ощущать себя взрослым.
– Какой ты еще глупый, Саша! Пьяница – это пропавший человек. В семье муж пьет – полбеды, а женщина запьет – считай семья пропала. Смотри больше не пей!
– Не буду.
– Повинились друг перед другом и больше об этом говорить не будем. А Моторев, это мальчик у которого ты говорил собачка ученая?
– Да, но сейчас он не живет в Саранске. Они переехали в Воронеж. У Мотырева собака была умная, не то что моя Дамка – носится по двору кругами и ни одной команды не знает. А Вовкина – все с первого раза выполняла, как в цирке. Посадит он собаку на задние лапы, положит ей на нос кусочек колбасы – она сидит и глазами ее «ест». Затем скажет: «Ешь!». Собака радостно подкидывает колбасу и ловит на лету. Не успевает ее проглотить, звучит команда: «Нельзя!». Она послушно кладет колбасу из пасти перед собой. И так несколько раз дразнил, пока не разрешит съесть. И еще многое другое умела.
– Саша! Ты свою собаку постоянно взаперти держишь, а выпустишь на свободу, она и носится как угорелая.
– Хорошо, мам. Вылечусь – обязательно буду гулять с Дамкой и начну дрессировать.
– Будешь, сынок. Собака ждет и скучает по тебе. Давай спать, завтра у нас тяжелый день.
Мама молится: «Помоги нам, пресвятая Богородица. Не оставь нас, заступница»…
8 декабря 1968 год.
– Улановы, готовы к операции? – спросил подошедший заведующий и ожидающе посмотрел на маму.
Мама тяжело встает навстречу Ивану Никифоровичу и с тревогой в голосе отвечает:
– Доктор, не рано еще? Саша – такой слабенький!
– Мамаша, мы планируем ушивание свищей, как раз с этой целью. Пища должна усваиваться организмом. Иван Ильич – ведущий хирург Мордовии. Думаю, под его руководством у нас все получится и Саша станет поправляться. В дальнейшем закроем рану. Впрочем…Вы можете отказаться, это ваше право.
– Мы согласны – вздыхает обреченно мама. – Делайте как вы считаете нужным. Очень волнуюсь за сына.
– Понимаю, но поверьте альтернативы нет. Операция ему крайне необходима. – переводит взгляд на меня. – Как настроение?
– Нормальное. Я согласен!
– Не боишься? – голос врача серьезен.
Показываю рукой на живот.
– Дырки в кишках зашивать же надо!
– Молодец, правильно понимаешь!
Мама с мольбой смотрит на заведующего.
– Пожалуйста…
Иван Никифорович сухо прерывает ее:
– Что от нас зависит, мы все сделаем! – уходит.
Она опустошенная садится на стул и тупо смотрит куда-то вдаль.
Успокаиваю:
– Мам, не переживай, операция простая – просто зашьют дырки и все!
– Сыночек, когда тебя забрала «Скорая» в больницу, тоже думала операция «аппендицит» – простая. Тебя увезли, а к нам зашла соседка – баба Тоня и пригласила пойти с ней на индийский фильм. Я, как последняя дура, согласилась и пошла. Тебя оперировали, а я смотрела индийские танцы и слушала их песни. Никогда себе этого не прощу! Надо было с тобой ехать!
Беру ее за руку:
– Сейчас ты со мной …
Лежу на каталке головой к дверям. Мама шепчет молитву и крестит меня, благословляя на четвертую операцию. Рядом стоит медсестра Нина Сергеевна. Неудобно перед ней – прикрываю лицо ладонями. Она терпеливо ждет.
– С Богом, сыночек! – вздыхает мама.
Глаза ее печальны, на щеке слеза. Периодически постукивая о выбоины пола, вновь скрепят колесики. Страха нет. Смотрю в уходящий назад потолок коридора. Удары сердца отзываются болью в висках.
Операционная встречает щемящей тишиной. Бесшумно двигаются обезличенные марлевыми повязками люди в серых халатах. Холодный операционный стол, раздражающий запах резины от маски для наркоза и все…
Медленно издалека приближаются голоса. В горле першит. Глотаю скопившуюся во рту слюну – боль пронизывает все тело. Открываю глаза, сквозь «пелену», вижу прибирающую хирургические инструменты медсестру и спины уходящих врачей. Кружится голова и очень болит горло. Во рту вновь скопилась слюна, но глотать боюсь. Наклонив голову, выдавливаю ее изо рта в ладонь.
Медсестра говорит:
– Проснулся, Саша? – вытирает салфеткой мне лицо и ладонь: – Сейчас санитарка подгонит каталку, и поедешь в палату.
– А операцию сделали?
– Да. Три часа продолжалась, а надо было еще дольше, Иван Ильич не решился. Вот наберешься силенок, и остальные свищи ушьют.
– Разве не все зашили?
– Пока к сожалению нет. Наверное тебе лишнее говорю, да и каталка едет.
Выезжая из операционной, вижу маму. Ее лицо пытается улыбнуться, но наклонившись и прижавшись ко мне , вдруг разрыдалась. Пришлось остановить движение. Соленые слезы падают на мои пересохшие губы.
– Сашенька, мой! Видимо за меня страдаешь сынок! А я-то чем грешна перед тобой, Господи?!
В коридоре воцаряется жуткая тишина, мама «ушла в себя», лицо ее делается бледным, кажется, еще мгновение и она потеряет рассудок.
Нина Сергеевна, отводит маму в сторону.
– Феня, не надо так убиваться. Саша живой, а это самое главное.
Каталка тронулась в путь, рядом с трудом переставляя ноги идет мама.
Почти до самого вечера не разговариваем. Мама привычно убирает скопившиеся в моей брюшной полости, кишечное содержимое – кожа вокруг раны разъеденная пищеварительным соком, отечная и печет. Затем обрабатывает, образовавшиеся в области выпирающих тазовых костей пролежни, не дающие мне спокойно лежать на спине. Перекисью водорода смывает гнойный налет, промывает раствором фурацилина и в конце «штукатурит» края раны и пролежни густой пастой «Лассара».
Наконец она прерывает молчание:
– Саша, как придет отец, оставлю его с тобой – истомилась. Я хочу посмотреть, что в доме без меня творится. Может тебе что-нибудь сварить?
– Хлебного кваса хочу и рябину.
– Квас сделаю, но ему зреть надо два-три дня. А где рябину среди зимы взять? В лесу птицы склевали. Может у бабушек поспрашивать?...
Папка пришел поздно вечером – глаза блестят.
– Как у тебя дела ,сынок? – повеяло винным перегаром.
Я сморщился, а мама ему с укором:
– Эх! Называешься отец! Другого дня не нашел нажраться?
– Молчи,«прокурор»! Я с устатка. На работе за двоих «пашу» и все заботы по дому на моих плечах. Люди относятся ко мне с «пониманием» – сын в больнице. Это ты сидишь здесь целый день на стульчике, отдыхаешь!
– Теперь ты отдохни, а я поеду домой.
– Езжай! Мы здесь без тебя обойдемся!
Мама смотрит на меня.
– Поеду, Сашенька. Вы как-нибудь, а я завтра вернусь. «Миколь» (Николай – эрзя.), ты если что, зови медсестру. Она поможет обработать рану, да и Саша подскажет.
– Иди-иди , разберемся…
Тускло горит на потолке лампочка. В палате я и папа.
– Будет меня еще учить, как рану перевязывать – он достает из кармана пачку сигарет и засовывает одну из них в рот.
Со страхом смотрю на дверь палаты.
– Пап, не кури здесь! Медсестра может войти – отец нагибается, снимает с живота пеленку – махорка из незакуренной сигареты сыпется в рану: – Ну, пап! – он с досадой сминает злополучную сигарету и бросает ее в плевашку.
– Не бойся сынок, на войне специально рану махоркой присыпали, лучше заживала – покачивает головой: – Чего они сегодня наоперировали?
Пожимаю плечами.
– Профессор хотел свищи зашить, но все не смог.
– Распороть живот получилось! А зашить его не могут – тоже мне «б…ть», доктора.
– Когда я немного поправлюсь, Иван Ильич все зашьет.
– Хрен с ним. Как вылечишься, куплю «крыленку» (вентерь) и летом поедем в Вейсэ. Наловим в речке рыбы, да на берегу сварим уху. Можно у кого-нибудь взять ружье – зайца подстрелим. Знаешь я их сколько набил, когда пастухом был.
– Сколько?
– Много. Ружье у меня было старенькое, но хорошо пристреленное – шестнадцатикалиберное. Говорю своей матери: «Ставь котелок в печь – за зайцем иду!» Выйду к речке, спрячусь в кустах на этом берегу, а зайцы на той стороне под горой травку щиплют. Не торопясь выбираю, что покрупней – «Бах» и готово! Там на речке его и свежевал. Прихожу домой, а у матери еще вода в котелке не закипела.
– Ладно пап, врать то!
– Не веришь, твое дело. Поедем в деревню, сам у бабушки спросишь. Раньше зайцев много было. Сейчас все луга тракторами перепахали, им негде разводиться. Но все равно одного где нибудь найдем!
– Пап, давай сами ружье купим и будем вместе охотиться!
– С твоей матерью купишь. Она за рубль «удавится». Хорошее ружье больших денег стоит…Слушай сынок! Вот ты и попроси у нее. Тебе не откажет.
– Хорошо пап, обязательно попрошу.
– Лучше купить двенадцатикалиберное – оно надежнее!
– Оно же тяжелое.
– Можно пока и шестнадцати, тогда только двустволку.
– Дамку на охоту возьмем? Она нам дичь находить будет.
– Нет, твоя собака годится только курей пугать. Заведем для охоты – легавую. Она дичь в траве покажет и зайца поднимет.
– Хорошо. Пап, а почему нас в деревне называют «Псакань» (Кошкины – эрзя)?
– Не нравится?
– Обычное прозвище, просто интересно.
– Когда мой прадед был грудным ребенком, в дом к нам зашла соседка. Посмотрела на сладко спящего в люльке младенца и сказала: «Удэ кода псакине» (спит, как котеночек – эрзя). С того времени прижилось за нашим родом прозвище «Псакань». А твоя мать стесняется. Да и в Саранск мы переехали в основном по этой причине – она настояла. Пойду где-нибудь покурю. Затем поедим и спать.
– Пап, а перевязка?!
– Нет, вначале покурю – терпенья нет. Перевяжу! Не впервой мне этим заниматься…
Лежу один в палате. Вспоминаю скудную информацию о жизни родителей:
«На мамины упреки отец обычно кричит:
– Молчи, «кулацкое отродье»
Мама в ответ:
– А у вас в роду – вечные пастухи.
«Действительно, все предки у отца по мужской линии – пастухи. Папа после выписки из госпиталя, восстанавливая разрушенные немцами мосты, обучился плотницкому ремеслу. Но после демобилизации снова взял в руки кнут, оставленный в наследство от отца.
Мой дедушка – Иван Дмитриевич Уланов, погиб 4 мая 1942 года в боях с фашистами, возле поселка Сосновый в Карелии. В месте его захоронения на братской могиле памятник – на высоком постаменте с автоматом в руке склонив голову, стоит советский солдат.
Моя бабушка – Оксинья Филипповна, занималась тем, что собирала по домам «пастушью дань». Денег у колхозников не было, и они расплачивались с пастухом продуктами с подворья – ведро картошки, яйца, масло, а осенью ошметок мяса или сала. Бабушка домашними делами себя не утруждала. Уйдет с утра, посетит два-три дома и только к вечеру возвратится домой. Со слов моей мамы: «Только людей от дела отрывала».
Пастухи с ней не живут – дедушка не вернулся с войны, а мой папа плотничает в Саранске, но привычку ходить по домам не бросила. Она иногда брала меня с собой. Возвращались всегда к вечеру, и от ее пустых разговоров я приходил домой измотанный.
В 1951 году, родители с малолетними детьми Ваней и Петей ,по государственной программе «Переселения на Дальний восток» выехали на Амур и поселились в селе Марьяновка, где в январе 1952 года родился брат Николай.
Папка вспоминает жизнь на Амуре с удовольствием:
«Вокруг села огромный лес. Скотина пасется самостоятельно – без привязи и пастухов. Травы вдоволь – живи и радуйся. Двух лет не пожили, мать твою потянуло обратно к родне – соскучилась. Местные «хохлушки» уговаривали: «Родня – это дети и муж», но разве «прокурора» убедишь.»
У мамы другая версия:
«Стал отец без стеснения «жить» на две семьи. Я не скандалила, даже жалела «вторую жену», очень она болела – постоянно задыхалась».
Весной 1953 года, семья возвратилась в свой родной поселок – Вейсэ. Мама жить со свекровью не захотела. Родители купили сруб сельской бани и построили в другом конце поселка, напротив соснового леса, себе домик, где 26 декабря 1953 года родился Я.»
9 декабря 1968 год
Просыпаюсь – передо мной «мамины глаза». Но почему она в солдатской форме? Наконец осознаю: «Ваня приехал»!
Старший брат трогает за руку.
– Здравствуй, братишка. Проснулся? Папка домой поехал, а я давно здесь, не хотел будить.
Радостно спрашиваю:
– Ты же в армии должен быть? – голос мой спросонья осипший.
– В отпуске я, Сашок. Телеграмма пришла в часть, что ты заболел. Подал рапорт своему командиру и мне предоставили отпуск на десять суток. Ночью приехал. Разбудил тебя, да?
Улыбаюсь ему:
– Так рад тебя видеть, хорошо что приехал. – мне не привычно видеть брата – солдатом. Трогаю тихонько его военную форму под белой больничной накидкой: – Вань, я тоже солдатом буду.
– Обязательно будешь!
– А у меня на животе огромная рана и кишки в дырках. Почему вчера хирурги их не зашили?
Брат в замешательстве молчит. Неожиданно в палату входит толпа врачей, и Ваня совсем растерялся.
– Саш, пока в коридоре побуду – он выходит сквозь расступившийся перед ним строй в белых халатах.
Профессор садится рядом.
– Мы тебя немного побеспокоим, если ты не возражаешь.
Смущенный всеобщим вниманием, отвечаю:
– Вы же меня лечите!
– Стараемся – поперхнулся он.
Иван Ильич оголяет мой живот и дав возможность подойти всем поближе, поучительно продолжает:
– Перед вами студенты, наглядный пример, чем может осложниться банальный аппендицит. В результате несостоятельности культи аппендикса образовался периаппендикулярный абсцесс, который в свою очередь вызвал распространенный гнойно-фиброзный перитонит. Затем, как следствие – парез кишечника и абдоминальный сепсис. В результате интенсивной медикаментозной терапии перистальтика кишечника возобновилась, но к сожалению,
возникли множественные тонко и толстокишечные свищи. Из-за малой усвояемости пищи больной катастрофически теряет вес. Вчера проведена очередная операция. Смогли ушить несколько доступных нам тонкокишечных свищей – профессор некоторое время молча оглядывает вспоротый живот, в котором недовольно ворчит дырявый кишечник. Затем смотрит на меня и продолжает: – Саша, когда пройдет воспаление брюшной полости, мы постараемся ушить остальные свищи, но для этого тебе надо хорошо питаться – он повернулся к студентам: – В настоящее время проводится заместительная,
дезинтоксикационная и антибиотикотерапия. Прокапали
несколько литров донорской крови и плазмы, но потребность еще большая – встает: - Пройдемте в аудиторию, обсудим данную историю болезни …
Ваня вернулся в палату, и уже я ему объясняю, почему хирурги не зашили свищи кишечника и рану на животе…
10 декабря 1968 год.
Ушедшая утром мама, вернулась к обеду. Ее лицо светится от радости.
– Мам, ты чего такая?
– Сашенька! Представляешь, столько людей сдали для тебя кровь? Папа, Ваня, Петя и я пришли в пункт сдачи крови, а там – соседи, учителя из школы, родственники, наши знакомые и не знакомые нам жители с «ТЭЦ – 2». Любой матери приятно узнать, что ее дитя еще кому-то нужное. Они просили меня не сдавать самой кровь, но я их не послушалась – мама засучила правую руку и показала повязку на предплечье: – Материнская кровь самая полезная.
Не найдя что ответить, смущенно улыбаюсь.
Голова переполнена неизвестным до этого чувством, все смешалось в моем возбужденном сознании – благодарность, смущение, долг перед людьми и стыд за причиненное всем беспокойство .
Мама добавляет:
– Александр Дмитриевич, ваш классный руководитель, сказал что и ребята из класса тоже хотели сдать кровь, но им еще нельзя. Она поглаживает мою руку, все еще находясь под впечатлением пережитого и ласково приказывает: – Теперь, ты просто обязан выздороветь. Нельзя подводить людей… Есть будешь?
– Буду!
11 декабря 1968 год.
Красивая кисть рябины лежит на тумбочке. Алые ягоды чуть сморщились, а красные листья над гроздью как свежие.
Мама рассказывает:
–Тетя Аня Акашева дала. Она нам дальней родственницей приходится.
– Знаю. Ее дом напротив Зориных.
– Мне, Вера Зорина и подсказала, что может быть рябина у Акашевых. Тетя Аня, оказывается лечебные травы заготавливает. Пошла к ней, и точно – рябина есть. Долго искать не пришлось.
Жую кислые с горчинкой ягоды – одну, другую, а третью уже с трудом – набил оскомину.
– Все.
– Быстро же ты наелся!
Смущенно улыбаюсь, затем тихо прошу:
– Мам..?
– Что сынок?
– Купи мне охотничье ружье!
– С чего тебе это в голову пришло…Понятно – папка надоумил!
– Да я о нем сам давно мечтаю. Просто не решался сказать. Папка еще собаку заведет охотничью.
– На одну ночь оставила его с ребенком, и уже успел тебя взбаламутить. Одни расходы. – она ругается, а голос мягкий и глаза добрые.
– Не сердись мам. Мы с ним настреляем столько зайцев и уток, что и поросенка держать не надо – от него только грязь и вонь в сарае.
– Свинину-то мы едим всю осень и зиму. Посмотрим, сколько вы настреляете! Купим сыночек! Лишь бы ты выздоровел.
12 декабря 1968 год.
– Виктор Николаевич! Мне капают кровь, а на флаконе написано женское имя.
– Ну и что? Просто донор – женщина.
– Я мужчина, а кровь женская!
Доктор снисходительно улыбается.
– Ты боишься превратиться в женщину?– насупившись, молчу. Виктор Николаевич продолжает уже серьезно: – Надо же такое в голове держать. Вливание крови никоим образом не влияет на пол.
– Сколько еще ее можно капать? Все руки в синяках и вены от игл попрятались.
– Ты очень истощен и ослаблен. Кровь разносит питание и кислород по организму, а у тебя низкий гемоглобин – не хватает железа. Пока без донорской крови не обойтись. «Наедай» свою, больше ешь мяса и фруктов.
– Да, с дырявыми кишками «наешь», зря продукты перевожу.
Врач успокаивает:
– Ешь понемногу, но чаще – больше усвоится. Как окрепнешь, свищи постараемся ушить…