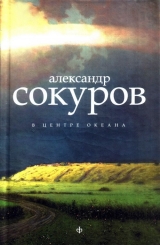
Текст книги "В центре океана "
Автор книги: Александр Сокуров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
В тишине дома, который сам открыл мне двери, никто меня не встречал.
…Потом я разглядывал сюжет большой картины: вернулся корабль…
Разлука, наверное, была велика, и люди наконец-то встречаются… Кто-то идет вброд… но какая радость…
Жизнь – не другая… Радость, счастье – понятны…
А они, наверное, высматривают тех, кто еще на берегу.
…Потом я у дверей, и меня проводят через эти двери.
…Потом я ступаю по аккуратно расстеленной бумаге. Кто-то так позаботился о паркете.
…Потом был зал… В этом дворце, наверное, ремонт.
Кто меня сюда привел? Почему я здесь?
Картины…
Пейзаж. Река, парус. Тишина. Войти внутрь – и уже никогда не вернусь… Человеческая жизнь.
* * *
Зачем эта лодка пристала к берегу? Вода в реке чистая, пахнет травой…
Это вечер или утро?
Утро.
А что там?.. Коровы спят в траве. Большие глаза…
Кормилицы, вечные рабыни человеческие.
А что здесь?
Стены холодные…
Хочу идти быстрее, но что-то мешает… как будто могу пройти мимо чего-то важного для меня.
Я преодолел огромное пространство, и в мгновение я здесь… Но вокруг пусто… и темно.
И в этой раме нет картины…
Сквозняк.
Высокое окно…
Какая-то музыка…
Мне кажется, там кто-то прошел?..
Нет ли кого там? Нет? Нет…
…Потом я оказался около мельницы и наконец увидел людей.
Вот они… Они сидят в лодке… Вот так однажды сели и остались в родных местах, и этот вечер – их вечный день…
А мельница, наверное, на острове…
* * *
…Потом я попал в какой-то лабиринт.
До сего момента не понимаю, кто так вольно играет со мной…
На стене, но почти в углу странная картина в тяжелом золотом багете.
А это что? Улица города…
Но это же зима…
Они все как будто замерзли… Прошлое, видимо, было холодным временем, и вся эта красивая жизнь была такой красивой от жестокости ветров и холода небес…
Наверное, тогда Господь Бог особенно внимательно следил за жизнью людей и строго испытывал их…
Наверное, сейчас Он занят созданием нового мира – другого, совершенного, а наша жизнь идет самотеком.
…Потом… Какие-то звуки вокруг меня… Что под ногами тут?
Когда я переступил порог, я замер…
Это же «Вавилонская башня». Брейгель, Брейгель. Брейгель…
Что это? Мировоззрение или сама жизнь? Свобода – или мечта о клетке?
Кто они, строители этой башни? Христиане или язычники?
Какая разница… Христиане… Язычники…
* * *
…Башня Вавилонская, и лодки под парусами… Разумно… Одно для другого…
…Потом я подумал, что это, конечно, моя последняя встреча с «Вавилонской башней», и я сказал ей ласково «прощай».
Я боялся, что слишком обнаружу свою печаль, тоску расставания. Поэтому сразу и отвернулся.
…Потом я с трудом пошел туда, где видел свет…
Потом я увидел солнечную аллею…
Легкий, совсем добрый Ван Гог. Золотая аллея на резком осеннем ветру. Мгновение.
Но какое длинное.
…Потом мне послышались чьи-то легкие шаги, но я по-прежнему был совершенно уверен, что здесь один, и был уверен, что все это только для меня, иначе зачем было проносить меня через время, воду, через ветер по этим страшным дорогам, мимо брошенных деревень и замерзающих лесов.
Здесь, наверное, только что висели картины…
…А это зачем здесь?
…Потом вернулась Луна, она заставила меня обернуться…
Площадь старого города… летняя тишина… вечная жизнь…
…Не я ли когда-то написал эту картину, не я ли когда-то видел все это перед собой, каждое дерево, каждую тень?
…Я хорошо помню это небо…
Хорошо помню, потому что долго ждал, когда облако начнет удаляться от меня и я увижу его оборотную сторону и прочту, что там написано…
Если есть вера – небо живое…
Все мертво внизу? – все живо здесь, наверху!..
И все здесь легко…
Вечная жизнь…
1765 год. Питер Санредам…
А, да… это все же его работа… я же тогда стоял рядом с ним…
Вот справа стоял…
А это он дописал позже – в тот момент коляски не было…
А эти горожане… они на самом деле часто бывали здесь… о чем-то разговаривали.
…Деревья помню, но мне кажется, их было больше, а детей не помню…
Нет, нет…
Детей не было!
Вон то окно никогда не открывалось… Питер это придумал, никто не знал, кто здесь живет.
…И этого господина со шпагой я никогда не видел…
Площадь Марии.
Это площадь Марии.
* * *
Краска высохла, и все остановилось.
Все неподвижно, пока мы все или некоторые из нас не вернемся в этот город…
Все будет так же неподвижно…
Так, может быть, вернуться?
Только как?
Часы-то остановились.
Так запустим… запустим…
Башня…
Тени неподвижны… солнце уже далеко ушло. Не вернуть…
А холст еще теплый!
Свет Луны погас.
И в темноте мне некуда было идти.
И незачем.
ВОСТОЧНАЯ ЭЛЕГИЯ
…Всё как во сне…
Я вижу облака… туман…
…сосновый лес…
…знакомый берег моря…
…И тяжести на сердце нет.
На море лунный свет.
Мне кажется, что меня кто-то позвал…
Темный лес, белые стволы берез.
…Нет, никого нет…
В море появился остров…
Из ничего, из соленых брызг и пены, из чьего-то желания.
А на острове появляется лестница – и путь наверх по ее каменным старым покусанным ступеням…
…И вот я уже на острове…
Старая каменная лестница…
Огромные криптомерии…
Тишина, земля мягкая, как тесто.
Я глубоко вдыхаю запах жасмина…
И на меня из травы, по-детски задрав голову, смотрит мальчик-Будда.
…Звуки, звуки…
Я взмахнул крыльями и полетел над лесом.
И над туманом.
Под облаками показались серые кирпичные крыши…
Дома маленькие, но по два этажа, окна – как глаз птички…
Дома с маленькими – для Дюймовочки – балконами.
Окаменевшие – брошенные – мгновенно – как во смерти.
Город ровесников, город близнецов, убежавших из жизни в одно мгновение.
…Запах жасмина.
Маленькие двери, дверки.
Полумрак… или сумерки?
Ночь или день без человека?
Где я? В раю?..
…Но тогда почему мне так грустно?
Эти дома в лунном свете, как детская книжечка: все есть, но чего-то не хватает.
…Какой странный остров…
Раскачивается фонарь перед входом в дом. Скрип.
Туман.
Каменный мальчик-Будда с закрытыми глазами спит в траве.
Улица остановилась на наклонной улице. Туман. Я сложил крылья и сел на краешек крыши… Дома словно окаменели…
Мешали крылья, но прыгнул на землю. Больно.
Пошел.
…Совсем не слышу своих шагов…
Я в этом тумане, как в воде – рыба, но зябко мне – как человеку…
…Вижу свет в окне…
…Может быть, это для меня?
…Может быть, для меня на двери дома, оклеенной бумагой, вижу мою тень…
…Тень опережает…
…Я чувствую запах свечи…
…Дверь, как лист бумаги, невесома…
– Здравствуйте… – слышу свой шепот.
Темная комната, старая женщина сидит, что-то шепчет.
– Нет, она еще не совсем пришла ко мне… – Я громко сказал это, но она не захотела услышать…
Сижу на коленях на жесткой циновке, нога затекла…
Все летаю и летаю… отвык сидеть…
…Но если эта душа отозвалась, значит, меня могут ждать и другие…
Душа любит человека…
Оборачиваюсь: через приоткрытую дверь вижу дома и берег моря.
С трудом встаю, теряю пять перьев… они остаются лежать на циновке.
Белые.
…Я еще вернусь.
Переступил с трудом маленький порожек дома.
Я почему-то побежал вперед: увидел ручеек, осторожно падающий из расщелины в скале…
Протягиваю свои пальцы. Вода ласково, но холодно касается их.
Смеюсь: как прекрасен запах жасмина на берегу моря…
Из тумана вышли журавли. Белые.
Они пели и танцевали. Один из них предложил мне войти в круг – я отказался танцевать.
Лучше спою.
– Как прекрасен запах жасмина… – начал я, но журавли уже ушли в туман. Ни один из них даже не обернулся…
Но в ту же минуту из тумана появляется лицо женщины с закрытыми глазами.
Она божественно красива.
Черное кимоно.
Ей много лет… Она слушает музыку, но музыка улетает.
И женщина исчезает, уходит в темный сад, закрывает за собой калитку.
– Простите, кто вы? – с отчаянием я спрашиваю ее, оказываюсь у калитки и только белые носочки ее замечаю. Они парят в траве: взлетают – погружаются в траву, взлетают – погружаются…
Темные ветки раскачиваются в глубине сада – огромные ветки сиреневого цвета, слышу ее голос необычный, глухой. Округло выговаривая русские слова, она поет по-русски, она поет, вытягивая мелодию, и голос ее начинает вибрировать и превращается в журавлиный резкий крик о помощи…
На месте женщины из тумана проявляется город: серые, пепельного цвета маленькие дома, все под черепичными крышами.
– Не уходите, помогите мне… – кричу кому-то, парю, опираюсь на воздух моими распростертыми, большими крыльями.
…Я так люблю эти мои крылья, потому что они всегда расправляются за моей спиной как-то внезапно, отрывают меня от земли и поднимают высоко, но не очень.
Я боюсь головокружения и холодных арктических потоков. Ведь многие из нас вот так и замерзали на лету. Засыпали, потому что охлажденное сердце билось реже, крылья не могли сложиться, и так, лежа на потоке, уже остывшие, они бесконечно долго переносились в черном холоде из одного конца света в другой и по кругу, пока, не вымерзнув окончательно, их тела не рассыпались на мелкие острые кусочки, как хрусталь… И, наверное, падали на землю…
…Ветер стих, и я опустился на улицу, совсем рядом с каким-то домом.
Над входом висит маленькая табличка. Касаюсь ее кончиками пальцев и читаю блеклую надпись: «Табачная лавка»…
…Бархатное, бархатное, теплое дерево…
В туманном мареве, в сырости – какие-то тени, шорохи шагов.
Оборачиваюсь – в окне дома на склоне холма тепло светится окно. Взволнованный, боюсь потерять этот свет из виду и почти бегу через туман:
– …Свет, да… Свет в маленьком окне…
Подбегаю к дому, резко касаюсь маленькой входной двери, пальцы проходят сквозь – рвут полуистлевшую бумагу, дверь плавно по деревянным желобам уходит вправо.
Войду.
Маленькая круглая раковина.
Сухой кран над раковиной, уснувшая бабочка на дне…
…Чья же душа на этот раз вернулась в свой дом?
Темная комната в старом доме и освещенное окно.
Скрип.
– Я чувствую вас и слушаю… – В темноте еле различаю большое лицо с закрытыми глазами. Тусклое серебро редких седых волос.
Лицо улыбается.
Большие губы оживают:
– В городе, где когда-то давно я жила, люди рано утром выходили убирать улицы…
Был туман…
Когда заканчивали уборку, туман рассеивался… Тогда люди начинали узнавать друг друга… И я тоже начинала различать: вот это соседка старушка, а это старик… А это мама, отец… Я была совсем маленькой и страдала от паралича… И от одиночества… Так и повелось – именно из тумана… приходил тот, о ком скучаешь…
Я устал стоять, сложил за спиной крылья и сел на пол.
– …И кого любишь… – продолжало с улыбкой рассказывать лицо. – …Но… меня не страшило никогда одиночество… Опираться на другого человека для меня не всегда счастье…
Всю жизнь я думала, что как-нибудь проживу и одна. Это не нарочно, это не нарочно: одинокая жизнь, одинокая жизнь… так сложилось…
Она замолчала.
У меня к ней был только один вопрос:
– Что же тогда дозволено просить у Бога?
– Что просить?.. Просите ум! Да, просите разум, чтобы выжить… Просите ум! – быстро-быстро ответила она.
– Вы устали? – в ту же секунду прошептал я.
– Да… очень. – Она улыбнулась.
Потом она закрыла руками лицо.
Как заплакала.
Или засмущалась.
Или не захотела открыть глаза.
Или не захотела увидеть меня…
Она стала запрокидываться на спину. Ее голова упала во мрак.
Руки взметнулись на границе света, как ветки осеннего дерева, – и упали.
Мне стало печально, тревожно, одиноко. Я забыл о своих прекрасных, необыкновенных и любимых крыльях. Я был в отчаянии.
…Какой странный сон…
…Откуда я родом?
Не помню…
Где моя родина?
Не помню…
А-а-а… Это мой стол…
Кто-то так и не выключил радио, и светилась, согревала бледно-желтая шкала радиоприемника с черными строчками – Рио-де-Жанейро, Берлин, Шанхай, Вашингтон, Мюнхен… Деревянный корпус приемника был горячий, старинное радио работало, видимо, уже не первый десяток лет…
Я давно-давно, еще мальчиком, забыл его выключить. И из нутра деревянной коробки тихо доносился странный диалог юноши и девушки. Слова, которые они произносили, казались мне знакомыми, будто я сам их придумал:
– …Может…
– …Бог такого ужаса не допустит…
– …Других же допускает…
– …Ее Бог защитит, Бог…
– Да может, и Бога-то вовсе нет?..
Рядом со старым радиоприемником на подоконнике появился Журавль.
Он склонил голову и правым глазом посмотрел на меня.
– А это мой Журавль… – шепнул я ему.
Журавль клювом коснулся моей руки.
– Теплая лапка… Когда ты волнуешься, у тебя всегда горячие лапки…
Заиграла музыка. Трубы.
– А это мой дом… или нет? Нет, это мой дом… это мой дом… – Мне показалось, что за окном стоит дом, деревянный.
– Я бесчестная, я великая, я великая грешница… – опять возник в пространстве радиоголос.
– Никакая ты не грешница, если тебя так называть… – слабо возражал мужской голос.
…Я посмотрел вправо вниз.
– …Голоса… А это моя река…
Мне показалось, что вода движется под окном…
– …Грех-то в тебе, твой позор рядом со святыми чувствами уживается. Пусть они не врут, что в тысячу раз справедливее и честнее… – звучал в старинном эфире голос юноши.
– А это мой старый парк… – Я отвернулся от окна и закрыл глаза. – Все как во сне.
Мне показалось, что чья-то рука коснулась моей руки. Я открыл глаза.
В проеме окна увидел тень. Мужской голос:
– …И еще я помню, что тогда ночью погиб корабль… Был шторм, погиб корабль… Утром рыбаки сетями вылавливали из волн прибоя тела моряков…
Мужчина сидел на полу. Он говорил скорее чувствуя меня, но не видя. Он чувствовал мое тепло, а мою смиренность – видел.
– …Рыбаки складывали тела на берегу около воды и накрывали циновками…
…В нашей деревне жила одна сумасшедшая женщина… Она прибежала на берег и, увидев тела под циновками, закричала и прыгнула на циновку со страшным выражением… И со страшным выражением на лице стала танцевать, ступая по телам…
Он продолжал тихо говорить, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону:
– Она танцевала со страшным лицом, она смеялась… Рыбаки, глядя на нее, опустили руки и не мешали ей… Я хорошо помню, что стоял и смотрел на этот танец, но рядом, в волне прибоя, я видел, как еще покачиваются тела погибших…
Они были в красивых кителях с золотыми полосками на рукавах…
Молодые лица и черные-черные волосы…
Когда волна стекала с лица, волосы красиво ложились на лоб…
Головы мертвых медленно покачивались из стороны в сторону, подчиняясь движению волны…
Я видел в волне профиль прекрасного спокойного человека – прекраснее и спокойнее человека я никогда не видел более в земной жизни…
Мертвый моряк вдруг сказал мне: все хорошо, все хорошо, все хорошо – ничего не бойся – все будет хорошо…
На пыльной раме маленького окна ожила, проснулась серая бабочка. Она поползла по стеклу, упала на подоконник, больно ударилась. И затихла. То ли умерла, то ли опять уснула…
– Сумасшедшая женщина продолжала свой танец на мертвых телах, а молодой мертвец в одиночестве лежал и шептал: все хорошо, все хорошо, все хорошо…
Мне хотелось запомнить его лицо, я наклонился вперед, вглядываясь в воздушные черты лика мужчины, и шепотом спросил его:
– Не знаю почему, но… Могу ли я спросить вас об отце?
Внезапно в тишине старого серого дома зазвучала протяжная музыка, кто-то старательно дышал в деревянную трубку.
– Он был очень чистоплотный человек… Но упрямый… Он был вечно как мальчик – это возмущало маму, раздражало всегда… Когда он умирал, то он произнес дважды: матушка, матушка… Я помню, что долгое время мы с мамой вспоминали эти минуты и так и не поняли… Неужели свою жену он назвал матушкой… – Он опустил голову.
– Известно ли вам, как меняются люди после смерти? – Этот вопрос я задал неожиданно даже для самого себя.
– Они становятся нежнее… Это я узнаю, когда разговариваю с такими же как я… отжившими.
Он молчал слишком долго. Я почувствовал, что наше время уходит, я не хотел расставаться с ним.
– Почему в стихах так много грусти? Может быть, вы знаете?..
…Вернитесь к нам – таких как вы нам очень не хватает…
Из темноты мгновенно ответ последовал:
– Нет, нет… Довольно, достаточно… Больше не хочу, не хочу…
Я устал… Но если бы земную жизнь прожить еще раз, я хотел бы прожить ее большим деревом с красными плодами…
Его очертания превратились в тень и лунный свет.
Он исчез.
Я расправил крылья, разбежался, оттолкнулся от земли…
Город с храмом на возвышении. Туман.
Ворота храма. Туман.
На поляне среди бамбуковой рощи – маленький каменный человечек спит, а вот их уже много… сотни…
В разрыве туманного облака мелькнул берег океана и дом на берегу… Я подумал, что надо бы еще раз заглянуть туда. Я там был, но маленькая старушка-привидение еще спала, не стала со мной говорить.
Было совсем тихо, ветер ушел куда-то. Я осторожно спустился к порогу дома. Галька зашуршала у меня под ногами. Я почувствовал, что на земле я совсем тяжелый и сильный, – серая дверь застучала, скрипнула и отъехала на старых полозьях вправо. Задребезжала, запела свою воздушную песню тонкая матовая бумага, которой была оклеена дверь. Местами бумага висела клочьями – истлела на ветрах, дождях… Я переступил через полозья, ощутил под ногами циновку. Опустился на колени. Оглянулся. Темно. В слабом лунном луче парила кем-то пробужденная пыль. Ее серебристые частицы двигались в воздухе, не сталкиваясь друг с другом, – как живые…
Во мраке комнаты услышал сопение и вздохи. Кто-то ворочался, скрипели старые косточки. Мелькнула круглая седая голова. Я громко напомнил о себе:
– Вот я и вернулся к вам… Хочу спросить вас только… только об одном… – Я запнулся. – Что такое счастье? – после вздоха тихо спросил я.
Из темноты выступило изображение улыбающейся старой женщины:
– Было ли что счастливого в моей жизни?.. Счастливого – очень мало, почти ничего, даже неудобно как-то. Не знаю даже…
Старая женщина склонилась во мраке комнаты. Тихо засмеялась. В темноте зазвенела посуда, полилась вода…
– …Не знаю даже… Ничего счастливого в жизни моей так и не было… – медленно ответила она.
В проеме двери показался журавль. Заглянул в комнату. Что-то сказал. Старушка быстро шепотом ответила ему. Он пожал крыльями и ушел.
Лицо старушки появилось в лунном свете:
– Нет, о счастье ничего не знаю… Что же я могу знать о счастье в жизни? Не могу знать, не могу знать… Что же я могу знать о жизни? Ничего не знаю… Конечно, хотелось бы, чтобы были рядом близкие люди, но никогда нельзя навязывать себя другим… О счастье ничего не знаю, нет, не могу знать…
Я сидел на коленях на циновке на фоне освещенной снаружи двери. Воздух ожил, с океана пошла волна, порывы ветра ударялись о стены домов. Дома запели. Ветер раздул огонек фитилька в маленькой стеклянной лампочке на циновке рядом с моими коленями. Я услышал голос кукушки.
– Разве я могу знать об этом… – женщина опять появилась в лунном свете, – в жизни все так сложно… Вот не нужна война, а воюют.
Она замолчала, поднесла малюсенькую ладошку к щеке. Я смотрел на нее, запоминая лицо, морщинки у глаз, гладкие розовые щечки, подушечки век. Глаз не видел. Они скрылись в тонюсеньких щелках. Мне показалось, что ей очень хотелось поплакать, но она уже не умела этого делать.
Я встал. Не оглядываясь и не прощаясь, сделал два шага к двери. Отвел створку в сторону, переступил через порог. Стал закрывать дверь и вдруг увидел перед собой воду в траве – потоки воды, стекающие сверху на землю. Увидел охваченную дождем яблоню без листьев с желтыми плодами. Яблоня раскачивалась на ветру и ударяла по струям льющейся воды. Дерево звучало.
Я расправил крылья. С крыльев потекла серая, грязная вода. Я пошел прочь от дома в сторону океанского берега.
«Меня, кажется, здесь ждут везде… И этого острова, пожалуй, хватит на все мои сны…» – подумал я, уже оттолкнувшись от земли.
– Я остаюсь, – решил я, круг за кругом облетая крошечный остров в океане.
Из тумана то появлялся остров в бушующем море, то исчезал.
Остаюсь.
Остаюсь.
ПИСЬМА НА РОДИНУ
Смиренная жизнь
Дорогая Хироко!
И прошедшей ночью мне ничего не снилось… Да и спал ли я, или это было уже Небытие… Открыв глаза, я видел все ту же свечу и слышал все то же: перестук колес и ветра шум… Мое путешествие в вашу печальную страну все никак не завершится…
…И здесь, в России, я не в силах расстаться с чувствами, пленившими меня…
…Моя душа как будто была в поисках красоты и добра. Иначе чем я заслужил этот подарок, эти встречи.
Сюда, в далекую японскую деревню, я добрался уже в сумерках. Шум ветра, усталость не давали мне заснуть. Я лежал на полу, в изголовье стояла маленькая лампа – стекло старое, с пузырьками. Постель брошена на циновку. Циновка жесткая, холодная, гладкая, как стекло. Три тяжелых одеяла на мне. Прижат к полу.
Я почему-то подумал о войне, и мне явились картины незнакомой жизни…
Дети на траве… то ли из прошедшего, а может быть, из будущего…
Дети на траве. Женщина на скамейке с ребенком. Чьи-то дети… Женщина в белом барском платье у старого русского деревянного дома. Чьи-то мамы… чьи-то дети…
Женщина упала в траву, как уставшее облако. Лето теплое… лето тихое. Далекие голоса счастливых людей. Облака. То ли ночные… или уже утро? Я спал. Я спал – это был сон, но как-то очень отчетливо и подробно я видел, как в маленькую комнату с низеньким потолком входят один за другим пятеро стариков. Почему-то не вижу в деталях, как они одеты. Они садятся на циновки кругом. В центре на белой тряпочке лежит мокрый журавль с черными и красными пятнами на крыльях… Журавль тяжело отрывает голову от циновки, веки его открываются, он смотрит на входящих людей и роняет голову на пол. Он пытается расправить неудобно сложенное крыло, он пытается приподняться, но все тщетно. Старик в больших тяжелых очках наклоняется и чуть заметным движением расправляет крыло. Птица приоткрывает клюв, будто желает что-то сказать, двигает язычком… Старики молча стоят на коленях вокруг птицы. Смотрят на нее. Вот они замечают меня, жестами предупреждают об осторожности, я сажусь за спиной одного из них. Птица тяжело дышит. Старики молчат.
Старик, оказавшийся справа, чуть обернувшись ко мне, тихо говорит, что журавль сбит порывом ветра, ударился о ствол дерева, только что подобран им. Птица умирает, и они должны облегчить ее участь, согревая своим присутствием последние минуты жизни.
Шум ветра.
Стебельки длинных ног напряглись, распрямились, хрустнули суставчиками маленьких коленок. Легкая зыбь дрожи вышла из маленького тела и добралась до кончиков крыльев.
– Умер… – прошептал старик в очках.
Все склонили головы.
Долго молчали.
После двое стариков, взявшись за края ткани с противоположных сторон, стали осторожно покрывать остывшее тело журавля…
…Утро было ветреным, холодным, солнечным… Я внимательно осматривал дом, в который занесла меня судьба. Дом был пуст…
В большой комнате в самом центре – каменный очаг. На огне закипает чайник. Маленький, серый, чугунный.
Потом помню, что обернулся на какой-то скрип… В глубине коридора сидела моя хозяйка. Сидела на полу, смешно поджав под себя маленькие ножки-лапки в пестрых носочках. Перед ней на полу старое зеркало. В руках – деревянный гребешок. Она, казалось, еще не заметила меня…
Умено-сан поправляет волосы. С ветки дерева за окном прыгает вниз маленькая лягушка. Всплеск – как бой часов. Старушка хихикает. Встает, идет по коридору в мою сторону.
Входит на кухню. И здесь очаг, но побольше. В земляном полу вырыта яма. Хозяйка бросает в яму мелкий хворост. Приносит раскаленный уголек и щипчиками погружает его в глубину очага. Запах дыма. Старушка начинает дуть на уголек через бамбуковую трубочку. Рождается огонек. В потолке кухни видно утреннее небо, дым уходит вверх. Стены в копоти.
Хорошо помню, как мне стало интересно все: стены, утварь, ветер, свет, звуки – вся ее жизнь. Мы договорились, что она позволит мне все время быть рядом с ней. Все те часы и минуты, что дано мне провести в ее старом доме, она позволила сидеть рядом. Мне это нужно было для того, чтобы вдоволь насмотреться на нее.
Хозяйка сидит в маленькой комнате, поджав под себя маленькие ножки в серых носочках. Берет в руки разогретый маленький утюжок. Она размечает ткань по линейкам, что-то записывает. На низеньком маленьком столе разложен черный шелк. Она облизывает нитку. Без труда вставляет в ушко иголочки еле видимую нить. Окно в мастерскую открыто, мне становится холодно, и я подползаю вплотную к огромному керамическому сосуду, доверху заполненному теплым пеплом. В серой легкой, как мука, массе спрятаны тлеющие кусочки угля. Швея периодически погружает маленькую лопаточку-утюжок в пепел, разогревает его и подглаживает швы, разглаживает прошитую ткань. При этом она шевелит губами, причмокивает и улыбается каким-то своим мыслям. В открытое окно вошел солнечный луч, но не согрел.
– В горах в Наре холодно и днем и ночью… – тихо зашептала она. – Ты, Саша-сан, замерз, терпи, терпи…
Странный топот, хруст гравия нарушили тишину. Послышался звон колокольчика. Колокольчик этот был странный – какой-то глухой, и звук тяжелый, без резонанса, сразу и пропадал. Я подумал, что к дверям дома подошла бродячая корова с колокольчиком на шее… Но откуда здесь, в горах, бродячие коровы…
Старушка напряглась, коротко посмотрела на меня. Я не понимал, как мне поступить. Она замерла. Я тоже. Через минуту глухое дребезжание повторилось, потом еще и еще… Швея сидела тихо и ничем себя не выдавала. Колокольчик продолжал звонить.
– Ах! – с каким-то особенным огорчением произнесла старушка.
Тяжело поднялась. Жестом предложила мне следовать за ней.
Она скрылась за углом кухни, слышно было, что она открывает какой-то ящик. Вздыхает.
Я открыл ей входную дверь. Она переступила порог. Я оказался у нее за спиной. Перед ней стояли четверо молодых людей в монашеских одеждах, соломенных шляпах и с котомками через плечо.
Она поклонилась монахам. Они поклонились ей. Молчали. Смотрели на нее. Смотрели на меня. Молчали. Над головами монахов низко пролетела птица – резко закричала. Наконец один из монахов укоризненно позвонил в медный большой колокольчик прямо перед лицом старушки. Она вздохнула и протянула кулачок с зажатой бумажкой. Молодой монах быстро разжал ее кулачок и вытащил смятую купюру. Женщина низко поклонилась монахам и попятилась к дверям. Но монах резко позвонил в колокольчик еще раз. Поднял его над головой. Она вздохнула и протянула другую руку – и эта бумажная денежка быстро схвачена монахом. Они больше не раскланивались – монахи как по команде развернулись и строем пошли по тропинке в сторону бамбуковых зарослей.
Она, тяжело ступая, вернулась в дом. Постояла, послушала. Вздохнула. Подняла руки вверх, растопырила пальцы. Еще раз огорченно вздохнула.
На кухне она села на малюсенькую скамеечку. Вытянула ноги. Японские деревянные сандалии, носки, пестрые штанишки, пижамная курточка… Она молча сидела. О чем-то задумалась. Потом стала засыпать, низко склонила голову, и на спине ее отчетливо стал виден горб.
Я стоял на пороге кухни и почувствовал, что заплачу. Я так мало знал о ней – но было жаль ее.
Лесное озеро я вспомнил. Где-то на севере России. Лесное озеро. Темное. Глубокое. Не помню, как я там оказался, на берегу этого озера. Но только помню, как в студеной воде купались дети лесника. И пар шел у них изо рта, и было это осенью, и так же светило солнце. Дети громко смеялись, переговаривались между собой. Их голоса звучали ярко и повторялись лесным эхом бесчисленное количество…
Старушка возвратилась в свою крошечную мастерскую, тяжело устроилась на полу. Поджала под себя ножки. Наклонилась над раскроенной черной тканью. Совсем маленькая, как арктическое деревце, прогнутое, корявое, сильное корнями.
Я никогда не видел, как шьется траурное кимоно. Меня предупреждали: кимоно она шьет для продажи.
Ее руки расправляли белую подкладочную ткань.
…Облизнула палец. Всмотрелась в острие иглы. Заглянула в керамическую чашу с горячим пеплом. Погладила утюжком белую ткань. Вернула утюжок в чан, помешала золу, погрела над ней руки.
Короткая серая шея старушки.
Опять пальцы вонзают нить в белую ткань.
Голова с седыми волосами совсем-совсем круглая. Седое обрамление лица.
Я тихо отполз в сторону от нее. Встаю. Пошел бродить по дому.
Какое нежное, какое прочное строение: дому сто тридцать лет… Бумагой оклеены стены и двери, все дышит, во всем упорство, упрямство и неизменность. Столетний брус, резьба. Две комнаты в доме на полметра подняты над землей. В кухне земляной пол. В главной комнате деревянные полы. Доски широкие. Над дверью этой комнаты старинные боевые пики и мечи. Род-то древний. В центре комнаты – красный уголок, «домашняя церковь». В нише лакированного черного шкафчика маленькая статуя Будды, свечи, душистые палочки, цветы, фрукты. Милые мелочи…
Вокруг дома температура чуть выше нуля, двери открыты… В доме холодно… Ни одного теплого закутка…
Мотылек на окне, улетает.
Хозяйка у чана с золой шьет, шьет, шьет. Седые волосы, лицо, губы швеи – маленькие-маленькие.
Она греет руки над чаном с живым теплом.
Ее глаза…
Над горами клубится туман. Из трубы ее одинокого дома идет дым. Откуда-то заплыл сюда в эту глушь звук самолета.
Мастерица просыпается. Вздыхает. Вдевает черную нитку в иголку… Облизывает палец.
Отглаживает белую полоску шелка.
Ее рука вынимает утюжок из чана с золой.
Ее рука гладит черную ткань.
Ее рука погружает утюжок глубоко в пепел.
Жук на циновке.
Ее горбатая спина…
…Облизывает палец.
Губы старушки – облизывает палец.
Утюжком гладит черную ткань.
Она шьет, завалившись чуть вправо.
Она шьет, низко склонившись над тканью. Совсем низко, почти вплотную. Иголка прихватывает сразу несколько слоев ткани. На черной ткани, оказывается, есть редкие белые цветки. Она тяжело вздыхает. Поворачивается в мою сторону, коротко смотрит на меня, быстро отводит взгляд.
Ветер в горах стих. Вокруг дома в пространстве темного леса все оживает. Поскрипывание, пощелкивание, вздохи, тявканье. Или мне кажется? Уже вечер, день кончился, в горах темно.
За все время жизни рядом с ней неоднократно размышлял о ее существовании здесь, в горах, далеко от людей, в одиночестве… О ней, конечно, не забыли: когда-то протянули провода – есть электричество, маленький телевизор. Молчащий телефон… Рядом с домом – сарай для скота: когда-то семья здесь держала коров, была и птица…
В зарослях бамбука неподалеку полуразрушенный дом… Когда-то были и соседи. Уехали спешно – не стали брать посуду, утварь, мебель… Так и стоит дом, пронзенный бамбуковыми копьями-деревьями и опутанный вьющимися растениями, – с занавесками, зеркалами на стенах, свисающей люстрой и ширмой, расписанной самим хозяином лет эдак сорок назад… Растения постепенно съедают дом и, по-своему, хоронят эту брошенную жизнь. Здесь все постепенно тлеет, ржавеет, крошится, рассыпается, развеивается по ветру…
Ее сын, единственный сын, давно не был у нее, живет в большом городе Токио, ее муж умер, как и подобает, раньше нее. После его смерти ждала, что телефон будет звонить, даже боялась, что будет мешать ей работать. Но телефон просыпался слишком редко. Она, наверное, уже и забыла о его существовании… Да нет же – не забыла. Просто поняла.








